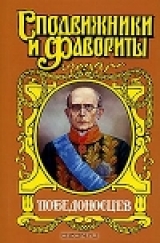
Текст книги "Победоносцев: Вернопреданный"
Автор книги: Юрий Щеглов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 51 страниц)
Император, перейдя из Золотой залы в Белую, принял массу представителей дворянского и городского сословий. Было объявлено, что Комиссаров удостоен чести именоваться отныне «Костромским». Санкт-петербургский предводитель дворянства граф Орлов-Давыдов в порыве верноподданнических эмоций целовал руки императора, который, кстати, несколько опешил. Высокопреосвященный митрополит Исидор, созвав клир, у решетки Летнего сада на месте покушения отслужил молебствие. Он не уставал повторять слова псалмопевца: «Господи, ты покрыл нас Твоею любовию, как щитом!»
Торжественные богослужения, обеды и прочие знаки выражения чувств не прекращались весь апрель. Графа Михаила Николаевича Муравьева, по его собственным словам, государь поставил во главе того учреждения, которое должно служить к открытию злого умысла и преступника. Общество встретило назначение Муравьева с одобрением. Катков в Москве считал, что выстрел произвели поляки и что Муравьев обязан добраться до самых корней, с тем чтобы навсегда вырвать их.
– Но почему поляки? – спрашивали поляки русской ориентации. – Почему не англичане?
Дворянское собрание Санкт-Петербурга объявило, что Осипа Иванова Комиссарова надобно внести в родословную книгу как человека, служившего орудием Провидения. Светлейший князь Паскевич поручил Орлову-Давыдову прилюдно обнять и облобызать Комиссарова. Владимирская губерния решила выделить герою восемьсот десятин отличной пахотной земли. Почти сотня писателей и редакторов различных печатных органов отправили приветственное письмо императору. В Английском клубе самый знаменитый из ныне живущих русских поэтов Николай Алексеевич Некрасов воспел Комиссарова в возвышенных стихах:
И крестьянин, кого взрастил
В недрах Руси народ православный,
Чтоб в себе весь народ он явил
Охранителем жизни державной…
Сын народа! Тебя я пою!
Будешь славен Ты много и много,
Ты велик, как орудие Бога,
Направлявшего руку Твою…
Некрасов в порыве более расчетливых чувств принес царю-освободителю благодарность от всего русского народа. Не очень верный друг Пушкина и долголетний – напомню – поклонник и приятель покойного министра иностранных дел Карла Васильевича Нессельроде князь Петр Андреевич Вяземский тоже сложил гимн в честь Комиссарова:
Святого Промысла смиренное орудье,
Народную скрижаль собой ты озарил!
И благодать свою, и мощь, и правосудье
В тебе неведомом Господь провозгласил.
Злодейства сокрушил ты замысел и выю.
Ты Божьим ангелом явился в грозный час,
Ты отвратил удар, направленный в Россию,
Ты спас царя, и в нем народ ты спас.
У князя стихи получились лучше, чем у Некрасова, но не потому, что он любил царя больше, а потому, что владел стихом изощреннее, чем Николай Алексеевич – певец русской боли и печали, любимый поэт Ленина и известный потрошитель «карасей» за карточным столом.
Посланцы АдаНе скоро Петербург и Москва да и вся Россия успокоились. Шутка ли, выстрел у Летнего сада – небывалое происшествие в истории государства. Покушение на царя! Кому могло прийти в голову, что такое вообще возможно? Императоры с времен Павла I гуляли по Петербургу без всякой охраны, беседовали со встречными и поперечными, заводили знакомства при желании и едва ли не посещали дома друзей. Но не по этой причине я так подробно останавливаюсь на выстреле неудачливого убийцы. Недаром ишутинская шайка называлась «Ад». Именно посланцы этого подземного места начали серию зловещих атак на законы страны как раз в то время, когда эти законы были обновлены, введены в действие и, по общему признанию, если не превосходили, то, во всяком случае, находились на уровне европейских свобод, причем – и это, конечно, к сожалению, – они, законы, были вызваны к жизни не в результате политического и культурного развития страны – как мы видим, развитие находилось на довольно низком пределе, – а появились по воле одного человека, сумевшего увлечь за собой все образованное и имевшее Бога в душе общество, желающее жить в легальных, а не в криминальных рамках. Верховная власть не ответила террором на террор, то есть поступило совершенно, иначе, чем большевистское правительство после событий на заводе Михельсона, что свидетельствует о достаточно устойчивом и осмысленном правосознании. Удивительное подтверждение мы обнаруживаем в словах того деятеля, от которого меньше всего можно было ожидать спокойного и беспристрастного расследования. В ответ на энергичные и, возможно, небезосновательные требования Каткова вывести на чистую воду, какая властная рука, какие таинственные влияния подвигли полубезумного убийцу на реализацию адского заговора, сломавшего русскую традицию, граф Муравьев, уже тяжело больной и почти не передвигающийся без посторонней помощи, заметил с иронией, обладающей непреходящим значением:
– Нельзя же было мне отыскать то, чего не осталось и следов.
Ирония Муравьева – упрек всей советской юриспруденции, хотя и не исключено, что именно Катков был прав. Советские следователи, которых в школе учили, что Муравьев – вешатель и сатрап, варганили дела на сталинских арестантов и пачками отправляли невинных под расстрел не дрогнувшей рукой. Они легко и без угрызений совести отыскивали то, чего не существовало и в помине. По ишутинскому делу к дознанию привлекли две тысячи человек. Казнили одного, стрелявшего в императора, полтора десятка человек отправили на каторгу и в ссылку. За подобный итог следствия при Сталине работников НКВД снимали с должности и без суда казнили. Народный комиссар внутренних дел БССР Борис Берман расстрелял десятки тысяч человек, чего Сталину показалось недостаточным. Бермана сменил Алексей Наседкин и нащелкал до ста тысяч жертв. И мало великому вождю вышло! Загремел Алешка вслед предшественнику.
Другой посланец ада, некто Нечаев, организовав сбитых с толку маргиналов в группу под милым названием «Народная расправа» и снабдив ее членов, среди которых был и талантливый литератор Иван Гаврилович Прыжов – автор «Нищих на святой Руси» и «Истории кабаков в России в связи с историей русского народа», собственноручно составленным «Катехизисом революционера», задушил, а потом утопил своего товарища студента Иванова, заподозренного в предательстве, впервые обнажив с такой ясностью уголовную сущность революционных шаек. Только в 1871 году, через много месяцев после событий в гроте на территории Петровской академии, нечаевцы попали на скамью подсудимых. Прыжов получил двенадцать лет – весьма мягкое наказание, учитывая тяжесть содеянного. Дело это было абсолютно уголовное, отвратительное, грязное, и естественно, что много людей возмущалось мягкостью приговора. Адвокаты Урусов, Арсеньев и особенно Спасович оказывали сильное давление на присяжных и сочувствующий слой, который резко обозначался в зале заседаний. Федор Михайлович Достоевский использовал жизненный сюжет в романе «Бесы», и только это в конце концов вынудило большевизанствующую историю через много лет после смерти Сталина осудить Нечаева и нечаевщину. Я еще учился по пособию академика Анны Михайловны Панкратовой, где печатались портреты Ткачева и Нечаева рядышком. Многие изображения мы по приказанию нашего педагога заклеивали, кажется маршала Блюхера, а вот Нечаев оставался неприкосновенным. Суд над нечаевцами проходил по новым уставам. Чем же поклонники террористических действий были недовольны? Гласностью? Состязательностью? Или они желали, как впоследствии Желябов, чтобы убийцы остались безнаказанными и общество могло им – живым и невредимым – вынести благодарность?
Корни сталинского террора в России уходят и теряются в мрачных лабиринтах прогрессивного экстремизма. Ядовитая почва, удобренная так называемыми социально ответственными элементами, стала источником массового отравления политическими миазмами. О «Бесах», в которых это зло отражено с невероятной силой, нам еще предстоит поговорить подробно.
Все эти и подобные им события служили близким и болезненным фоном, на котором разворачивалась мистерия личной судьбы Константина Петровича. Напомню, что меньше, чем за год до покушения у решетки Летнего сада, в окрестностях Ниццы на вилле Бермон умер цесаревич Николай Александрович – посреди всей роскоши южной природы, под блестящим солнцем, в яркий весенний день…
Вне родного воздухаВ середине лета из Полыковичей Константин Петрович пишет старшей Тютчевой проникновенное письмо-исповедь, пропитанное до последнего слова болью, страданием, смущением, желанием оправдаться и, пожалуй, чувством стыда за надежду на счастливое будущее. Исповедуется он перед женщиной, которая его понимает и в чьем дружелюбии он не сомневается. Письмо из Полыковичей давно затерялось среди писем-признаний. Из него небескорыстные исследователи вытягивают лишь фактическую сторону очень важного для Константина Петровича события, а между тем оно представляет редкостный образец литературы интимного свойства, раскрывающей душу человека до дна. Это письмо многослойно и многопланово. Это письмо – роман, роман одинокого сердца, которое вдруг радостно забилось. В нем, в романе, вера и любовь, мудрость и чистота переплелись в удивительный чувственный клубок, именно чувственный, где чувство или, вернее, чувства выступают в первозданном виде. Стоит задержаться и задуматься над строкой, как поражаешься разнообразию и остроте переживаний. Здесь каждая фраза прошла мучительно сквозь сознание и, по-бунински говоря, из сердца написана. Константин Петрович не утратил способности радоваться, хотя мечтания, связанные с поисками другого полюса в цесаревиче Николае Александровиче, растаяли. Желание принять сан скорее всего объясняется уходом наследника из жизни и революционным напряжением общественной ситуации. В конце прошлого – 1864-го – года он явственно ощутил, что борьба, вызванная реформаторским курсом правительства под руководством государя, привела отчасти к разочаровывающим результатам и в итоге к неустойчивости верховной самодержавной власти. Личные проблемы несколько отвлекли Константина Петровича от тягостных раздумий о будущем России. Лучше, чем кто-либо иной, он ощущал значение и давление прошлого. Настоящее, в которое он вложил не меньше сил, чем самые известные и мощные интеллектуалы страны, огорчало и лишало перспективы. Все мельчает, нет великих и сильных людей, с которыми можно слиться. Нет людей крепких, которые служили бы полномочными представителями идеи. Избранность, порожденная пониманием сути исторического процесса, делала Константина Петровича еще более одиноким. Постепенно он отдалялся от привычного московского окружения. Росло отчуждение между ним и Иваном Аксаковым. Время, проводимое в семействе Энгельгардтов, музыкальные вечера, которые Владимир Энгельгардт давал с завидной регулярностью, скрашивали существование. Необходимость бывать при дворе, в Государственной канцелярии и министерствах чередовалась с периодами погружения в мир, не имеющий почти ничего общего с жестокой и требовательной реальностью. В нем было сильно и неподдельно развита душевная и одновременно абсолютно материализованная причастность к русскому образу жизни, что нельзя назвать ни патриотизмом, ни любовью к родине. Эта причастность скорее всего на генетическом уровне, чувство более серьезное и неотторжимое, чем признания и завывания и прошлых, и нынешних националистических и коммунистических ловкачей, строящих карьеру на ложном и презренном фундаменте превосходства одних над другими.
Как искренне звучат строки из письма к старшей Тютчевой: «Я не могу себя представить вне родного воздуха…» И снова диву даешься, как точно он чувствовал! И как точно выражал свои чувства! Здесь «воздух» не случайное слово. И вовсе не синоним земного отечества или родины и большой, и малой. Воздух для Константина Петровича есть эманация [41]41
Эманация– истечение, излучение, выделение чего-либо откуда-либо.
[Закрыть]существования. Родные стены и родная земля более узкие и менее значимые понятия, чем родной воздух. Эту тонкую грань необходимо выкристаллизовать, потому что Константин Петрович относился к редкой породе людей, для которых отсутствие родного воздуха равносильно кончине от удушья. И вместе с тем он вовсе не отрицает и не исключает возможность ухода из русской действительности. Вот как великолепно формулируется у него мысль о разрыве со страной: «…И одна мысль о том, чтобы усесться…» Какое подобрано понятие к определению действия: усесться! «…где-нибудь за границей, повергает меня в ужас. Мне кажется, это значило бы порвать самые дорогие, самые крепкие и задушевные связи. Бывают тяжкие минуты, когда человек теряет все, что называл своим и для чего жил на свете, – тогда прежняя среда, в которой лилась – пролилась жизнь его, кажется ему невыносима, и хочется ему убежать куда-нибудь в такое место, где у него ничего своего нет – и не бывало..» – писал он с горечью в дни, когда монарх утверждал собственноручно новые судебные уставы.
Сейчас, удаленный в отставку, брошенный правительством на произвол судьбы, проживший свою жизнь в окаменевшем пространстве нелюбимого города, он вспоминал строки давних лет с особой четкостью. Тогда вся жизнь была впереди и предугадать будущее он был не в состоянии. Тогда переживания не воспринимались как пророчество. Но сегодня он осознал, что не мелочное недовольство руководило им. Сегодня ему недостает воздуха, родного воздуха, хотя родина, отечество – вот они, за стенами нарышкинского палаццо на Литейном. «Вот когда, я понимаю, можно усесться, но – какое печальное сиденье!» – заключил он эмигрантский пассаж, непостижимый для бесчувственных и не имеющий ни малейшего отношения ни к квасному, ни даже к умеренному патриотизму и недоступный даже для лучшей части эмиграции, испытывающей какую-нибудь паршивенькую ностальгию и тягу назад, к родным пенатам, с крутым подмесом бытового и профессионального неустройства.
Я специально устраняю из периода середины шестидесятых годов то, что поддерживало существование Константина Петровича и служило внутренним стержнем устойчивости. Обряд и вера для него слиты воедино, они слиты в нем, внутри него. Это не образ жизни и не способ существования. Это он сам в любой – доброй и злой – повседневности. Хотел я Исключить сейчас затронутые обстоятельства из плавного течения рассказа, но, видно, не получится. Хотел поговорить в другом месте, но рука и глаз не пошли дальше. Тот удивительный чувственный клубок не рассечь, не разделить. Жажда дышать родным воздухом и молитвенное состояние – одно целое – и есть его душа, а государственная деятельность и даже сердечное томление просто важные составляющие бытия. Он испытывал невероятное желание открыть близкому человеку то, что мучило. В Вербную субботу, возвратившись из церкви от всенощной, в полном одиночестве, охваченный, бесспорно, каким-то чарующим воспоминанием, он бросился к письменному столу и воскликнул: «Христос воскресе! Боже, как хорошо у нас в России в эти дни повсюду, где есть храмы Божии, где есть молящийся народ!»
Он отдает посланию старшей Тютчевой себя без остатка. Рассекает собственную грудную клетку и раскрывает свои самые сокровенные тайны. Вот уж поистине церковь не в бревнах, а в ребрах! Народ знает, чтосказать и как– пусть грубовато, но лучше-то на Руси и профессорам духовных академий не удается выразить суть при характеристике как церкви, так и человека.
«Сегодня день такой торжественный – сегодня церковь зовет каждого взять на себя крест свой и с этим крестом встречать идущего на страдания Спасителя – что за торжественный вход! И подумайте – что если бы точно каждый в эту минуту всем сердцем взял на себя крест свой – о, как их много, и каких крестов, – и так все вместе стали бы перед Богом, что за чудный, что за торжественный вышел бы хор! Но довольно и то, что мысль эта во всех есть, что эта мысль всеми поется в церкви. Какой чудный праздник! Есть ли у Вас там, в Ницце, такие праздники? Была ли у Вас русская вербная всенощная, русская Страстная неделя?» – заключает он вопросом обращение к дочери поэта.
Поэтичность и лаконизм у Константина Петровича определялись адресатом. Он умел писать и иначе, но везде личностность и исповедальность, если не брать в расчет официоз, превалировали в высшей степени, превращая почти любой текст в фрагмент по крайней мере духовной биографии. Есть резон здесь отвлечься и коснуться стилистики документов в широком смысле слова, принадлежащих руке Константина Петровича. На сей счет в минувшие времена высказывались самые разноречивые мнения. Не хочется полемизировать или даже останавливаться на утверждениях, что язык писем – это язык статей, которые многие воспринимали как кокетство, считая, что автор впадает в елейность и становится часто выспренним. Самое прекрасное качество, когда близость публикаций и писем совпадали едва ли не текстуально, явно недооценивалось. Константин Петрович обладал редчайшим качеством, когда сквозь печатный текст просвечивалась разнохарактерная беседа, не утрачивая оригинальной, лишь ему присущей интонации и индивидуальной стилистики.
СлогНе во всем справедливый и не всегда точный при характеристике слога, которым Константин Петрович владел в совершенстве, Борис Никольский, с ног до головы оплеванный в советские времена не только за неосторожные антиеврейские высказывания, но и за приверженность к Спасителю, сумел все-таки уловить самое важное в огромном наследии Константина Петровича: «Он обладает удивительным искусством писать какими-то несомненнымисловами, с какою-то механической точностью выражающими свое содержание. Даже в минуты одушевления в его речи слышна металлическая, звонкая точность: его слова не отстают от мыслей, не обгоняют их; ни намеков, ни поэтической недосказанности в них нет. Как стилист, он, можно сказать, чеканит свои мысли. И это не элегантная народная чеканка изысканных и пышных французских стилистов, нередко при ближайшем рассмотрении оказывающихся просто изделиями из дутого металла: это добросовестная, несколько тяжеловесная и угловатая обработка полноценных веских мыслей».
Своеобразие слога, ясность, свойственная христианским текстам, культура при передаче того или иного сюжета, благородная манера письма ставят Константина Петровича впереди очень многих мастеров русского эпистолярного жанра. И притом личность, которая просвечивает в каждой строке, которая смотрит на нас изнутри каждого абзаца и которая строит фразу так, что слышишь или тоскующую, или раздумчивую, или восторженную – что реже! – интонацию голоса, неповторимая звуковая дорожка коего возникает из немоты листа. Вот, например, как Константин Петрович рисует нам крестный ход в память победы над Наполеоном, ежегодно совершавшийся в Москве. Здесь в наличии все признаки его превосходной стилистики, отмеченные Борисом Никольским, и качества, подчеркнутые в моих прибавлениях. Замечу, что многие страницы позднейших «Всеподданнейших отчетов обер-прокурора Святейшего синода Константина Победоносцева по ведомству православного исповедания» носят упомянутые черты, что значительно облегчает их чтение, несмотря на обилие статистического материала, совершенно – по нашей вселенской глупости – исключенного из научного и прочего оборота.
«Это было торжественное утро», – начинает Константин Петрович с эпическим спокойствием, между тем пробуждая в нас то, что хранится в сердце и памяти о подобных мгновениях жизни; итак, «это было торжественное утро, – с удовольствием повторяю я особое сочетание слов, – которое я, – это уже продолжает Константин Петрович, – стараюсь каждый год проводить в Кремле, – в это утро встает из соборов наших вся история со всею святынею и идет ходом вокруг стен московских – целый лес древних хоругвей, целый полк духовенства, целый хор колоколов московских, целое море молящегося народа. И все это в память всероссийского события изгнания из Москвы тех двунадесяти языков, под сенью коих вы теперь отчасти проживаете, добрейшая Анна Федоровна».
Без излишней и вульгарной живописности, без нарочитой рельефности рисунка, без акцента на каких-либо острых эпизодах, демонстрирующих меткость взора, создана мощная и обобщенная картина величавого события. Здесь все слова несомненны и полностью выражают собственное содержание. Ритм, чередование звуков, лаконизм, экономность использованных средств есть чудесное свойство крошечного фрагмента, где история и настоящее, пропущенное через личностное восприятие и положенное на бумагу искусной и культурной рукой, подводит нас к концовке, в которой едва прикрытая ирония, впрочем, никого не задевающая, выводит нас, в совершенно иное пространство, и мы начинаем его невольно осваивать.
И одновременно – я не придерживаюсь месячной или даже годичной последовательности, обозначая лишь указание на середину шестидесятых, – перед нами предстает вовсе не хнычущий или заискивающий корреспондент уважаемой всеми фрейлины двора, которая, что совершенно очевидно, не делала из переписки с Константином Петровичем тайны, а резкий и независимый критик русской бюрократической и придворной действительности. Подобное мнение – допустим, в сталинскую эпоху или в недалекие от нас советские времена, – безусловно, стоило бы неосторожному свободы, а иногда и жизни. Вообразите на мгновение, что близкий к Кремлю и Старой площади судебный деятель прислал приятелю или приятельнице письмо со следующей оценкой общественного положения: «Душа наболела от здешнего безобразия и уродства, от всяческого кривлянья и ломанья, от кукольной комедии, в которую, кажется, обратилась вся наша деятельность и в которой поминутно узнаешь старого уличного знакомца – Петрушку, переодетого чиновником-либералом, – душа наболела от всего этого, душа устала расхаживать по пустырям, недостроенным, покрытым обложками и мусором, заросшим крапивою, – и все-таки эту землю она любит, и все-таки верует в нее, и все-таки находит здесь, именно здесь, на больших пустырях и в диких лесах, те поэтические березы, те скромные и душистые фиалки, о которых вы мечтаете на берегу Средиземного моря, – и все-таки над этими пустырями из конца в конец носится гул тех колоколов московских, которые вот скоро-скоро населят глухую ночь и темную пустыню целым миром идеалов, звуков и образов, на который не променяешь никакого европейского рынка».







