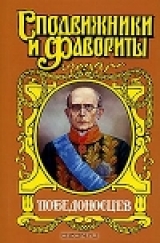
Текст книги "Победоносцев: Вернопреданный"
Автор книги: Юрий Щеглов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 51 страниц)
Я не люблю, изображать интимные стороны отношений значительных людей, главных персонажей отечественной истории, и касаться деликатных моментов сближения двух сердец.
Срывание всех и всяческих масок и покровов нынче в моде. А что хорошего в картине обнаженной Екатерины Великой, занимающейся утехами любви с Потемкиным или Зубовым? Что любопытного в перетряхивании простынь Ленина и Сталина или в сексуальных приключениях коммунистических палачей Берии и Абакумова? Я уже не говорю о безобразных попытках проникнуть в спальню Пушкина и Натальи Николаевны. Зачем тревожить тени Софьи Андреевны Толстой и Льва Николаевича? Подробности постельных дуэтов вождей фашизма, таких как Муссолини или Гитлер, не могут быть вообще предметом изображения в русской литературе и искусстве. Психические отклонения и труднопостижимые извращения в данном случае обладают слишком большой национальной спецификой. Всей правды и даже полуправды здесь не скажешь. Любителям читать про этодолжно вполне хватать Ги де Мопассана или отличного писателя Генри Миллера. Не стоит трогать действительно существовавших людей, не стоит снимать с них одежды. Пусть читатель сам поставит себя на место тридцативосьмилетнего правоведа, который официально – с предложением руки и сердца – признается в любви девушке моложе его на двадцать два года, девушке, которую он знает с семи лет и играл с ней как с ребенком, последующие лет десять. Пусть читатель сам попытается воссоздать его слова, обращенные к близким избранницы. Пусть читатель поставит себя на место человека, собирающегося в монастырь и вдруг превратившегося в жениха, и тогда не потребуется воскрешать сюжет, который иные могут расценить как недостаточно скромный и выдержанный. Признаюсь, я не люблю кулис на сцене, но и не желаю подглядывать в замочную скважину комнаты, где находятся такие люди, как Константин Петрович и его жена Катя. Они и без моих строк пострадали от завистливой молвы, приписавшей им, быть может, не без мелких оснований, черты совсем других не менее известных среди читающей публики героев адюльтерного романа, впрочем, написанного с аристократической изысканностью и явным пренебрежением к эротике и где чувственность, не подавленная, а скрытая, ни разу не переступила грани пристойности. Мне же совестно брать в архиве интимные записи обер-прокурора, пользуясь его беззащитностью. Полагаю, что против такого вмешательства он возражал бы яростнее, чем против любой критики. О, если бы мне повезло и я имел дело с вымышленными героями!
Екатерина Александровна, по словам одной современницы, обладала красивой молодой фигурой. Хрупкая, немного болезненная, весьма грациозная, с роскошными локонами, она производила сильное впечатление на окружающих рядом с высоким, худощавым и гладко выбритым человеком, с интеллигентным, вдумчивым лицом и в очках, черепаховая оправа которых обращала на себя внимание необычностью эллипсоидной формы. Константин Петрович в темном сюртуке и белоснежной рубахе походил на немецкого профессора, а вовсе не на петербургского бюрократа высокого, даже высочайшего полета, каким был Алексей Александрович Каренин, которому якобы служил прототипом будущий обер-прокурор. Вот только крупные руки и немного великоватые и оттопыренные уши придавали двум этим мужьям трудноуловимое в остальном сходство. Но Константин Петрович никогда не носил ни цилиндра, ни фрака, ни роскошной шубы, ни могучих, усыпанных бриллиантами звезд на груди – награды он держал в резной шкатулке и надевал лишь по светским праздникам, и то после напоминания гофмаршала, который подробно изучил свою клиентуру, вкусы и обычаи каждого придворного, а Константин. Петрович после приглашения в Петербург для чтения лекции цесаревичу – старшему сыну императора Александра II – волей или неволей числился в придворных. На что не согласишься ради России и возлюбленного Никсы – цесаревича, который, по мнению Константина Петровича, составлял самую яркую ее надежду!
Нет, мало чем они напоминали друг друга – замкнутый петербургский бюрократ и немецкий с виду профессор. Однако молва, молва, проклятая молва соединяла их личности, и это соединение, как зловонный яд, просочилось в грядущее и проникло на страницы современных, не отличающихся доброжелательством советских и даже постсоветских журналов. Вдобавок Алексей Александрович искал приятельского сочувствия у женщин, и Константин Петрович тоже пользовался их отнюдь не любовной, но сердечной дружбой.
Хрупкая и нежная Катя и по внешности, и душевной сути ничем совершенно не напоминала светскую львицу Анну Аркадьевну Каренину, уверенную и властную, привлекательную деланным и подчеркнутым равнодушием и тайной силой, той загадочной и бездонной мощью женской натуры, которая, не давая и не обещая ничего в будущем, мгновенно превращала мужчину в раба. Единственный взгляд Татьяны лишил Онегина жизни, как если бы пуля Ленского угодила в грудь. Катя была мила, проста, необыкновенно добра, приветлива и начисто лишена светских ухваток, умения поддерживать легкую и нередко фривольную беседу в великокняжеских салонах. Катю судьба и обстоятельства слепили из другого теста. Она посещала церковь и так глубоко уходила в молитву, что Константин Петрович иногда даже пугался. Рауты и вечера, балы и торжественные приемы не были ее стихией. Она вяла и гасла там прямо на глазах, чем вызывала удивление и насмешку. Катя расцветала наедине с ним, во время беседы или чтения книг, английских по преимуществу. В английском она опережала Константина Петровича и гордилась собственным маленьким триумфом. Жена расцветала и за границей – в Мариенбаде, например, или в Зальцбурге. Там противные мелочи быта не тяготили Катю. Он никогда не видел ее такой веселой, как в Праге после освящения церкви на долгой и одинокой прогулке. Чудилось, что сам воздух подхватил и нес ее на крыльях, и нездоровье отступило, и печаль улетучилась, освободив уголки губ. Они оба любили путешествия, любили незнакомые города и деревенские местности, любили чужую европейскую речь, владея ею если не в совершенстве, то, во всяком случае, в достаточной мере, чтобы не испытывать муки немоты.
Рим севераЗальцбург с его неповторимой архитектурой и умеренным климатом, размеренной и нешумной жизнью, музыкальными концертами и, наконец, с его атмосферой уважения к человеческой личности и, в частности, что было чрезвычайно важно для юридической натуры Константина Петровича – к человеческому достоинству, благотворно влиял на здоровье Кати, заставляя забыть петербургские неурядицы и заботы. Она становилась той, прежней, Катей, когда их отношения почти внезапно приобрели какой-то новый оттенок – с привкусом опасного чувства, опасного и по природе, и по особенностям возникновения, и по изначальной безнадежности из-за разницы в возрасте и давнего знакомства. Он лукавил, когда писал друзьям о внезапных изменениях в своем существовании. Нет, они не были внезапными. Он лукавил потому, что испытывал неловкость, вполне, впрочем, естественную, объяснимую и понятную. Разумеется, он выглядел иначе, чем герой быстро прославившейся картины Пукирева «Неравный брак». Однако проклятую разницу в возрасте отметили все, кто встречался с ними сразу после свадьбы. Он видел перемену в выражении лиц, в скрытой и подавленной улыбке, в подчеркнутых пожеланиях здоровья и долголетнего счастья.
Впервые он доверился бумаге весной 1863 года, а окружающие узнали о намерении Константина Петровича соединить две судьбы в начале лета 1865-го! Какая уж тут неожиданность?! У него всегда отсутствовала последовательность в ежедневных дневниковых записях того, что происходило с ним. Слишком увлекала текучая действительность. Но все-таки он пытался остановить мгновение и закрепить на страницах посетившие его впечатления, и робкие мечты, и мимолетные восторги, порожденные светлым, романтическим чувством. Он не обижался ни на таможенников, ни на полицейских чинов, ни на портье в отелях, которые сперва принимали Катю за дочь или родственницу. Никто не желал намеренно оскорбить. Конечно, он относится к людям сдержанным и закрытым и вместе с тем постоянно нуждавшимся в поддержке. А желающие ее получить волей-неволей должны приоткрывать душу, и он приподнимал завесу перед избранными, а избранными могли считать себя единицы.
Однажды они с Катей присели на скамейку напротив памятника Моцарту отдохнуть после длительной прогулки. Зальцбург привольно раскинулся меж трех лесистых вершин в получасе езды от границы с Баварией. Они часто посещали Мюнхен, слушали там Вагнера, приходя в восторг от «Лоэнгрина». Сам город поражал оригинальной, хотя и грубоватой и какой-то прочной красотой и необычностью. Как ни странно, Константин Петрович архитектуру Мюнхена и пристрастие к скульптурному изображению львов воспринял без присущего большинству русских внутреннего негативизма. Наоборот, он в Мюнхене не ощущал себя чужеродным телом. Он был своим и среди своих. Стремление к единству и восхищение перевешивали религиозную нетерпимость. Немецкие мелодии радовали его, а река Изар казалась необычайно привлекательной и живописной, особенно берега, поросшие красно-золотистым по осени кустарником. Но все-таки он предпочитал Зальцбург, несмотря на Вагнера, вьющийся Изар и народные песни, старинные и исторгнутые как бы из глубин баварского сердца.
Река Зальцах делит город на две части, освежая воздух при легких порывах ветерка. Чем-то Зальцах напоминал Константину Петровичу водоемы Москвы, обостряя неприязнь к холодной и коварной Неве, грозящей наводнениями и другими бедами. Фонтаны Зальцбурга восхитительны и радовали глаз мощью перевитых серебристых – нелегких – струй, которые изрыгали задранные к небу лошадиные морды. В Зальцбурге все мягче, пластичнее, в Зальцбурге больше барокко, больше изощренности и художественного вкуса. Недаром Наполеон останавливался в Зальцбурге и хвалил город, который после его поражения отошел к Австрии. Гора Монах и крепость, венчающая эту жемчужину, придавали Зальцбургу вовсе небезобидный вид. Он выглядел прочным, уверенно стоящим на земле и умеющим защитить себя. На храмы Зальцбурга, разбросанные в изобилии по площадям и улицам, Константин Петрович смотрел издали, но вот в маленьких концертных залах, где исполняли музыку Моцарта по преимуществу, они бывали почти каждый день. Памятник Моцарту, однако, несколько расходился с представлениями о личности композитора. Фигура с опущенной крепкой рукой, массивная голова, упрямо согнутая и поставленная на ступеньку мощная нога – все вместе взятое, безусловно, указывало на склонность ваятеля к лепке скорее римских императоров, чем изящных придворных виртуозов.
– В конце концов Зальцбург называли в свое время Римом Севера. Римского здесь много, – сказал Константин Петрович, оглядывая неширокую площадь. – Это, по сути, ключ к Риму. Огромные камни – остатки былого могущества.
Божественная встречаОни наслаждались воздухом и звуками одинокой скрипки, которые доносились издалека. Потом звуки приблизились. На скрипке играл нищий, впрочем, лохмотья он носил с некой долей вовсе некомического величия и, пожалуй, даже артистично. Он остановился в двух-трех шагах от скамьи и, склонив голову, тихо наигрывал простенькую мелодию и тоже без жалких и ненужных ужимок, артистично и тщательно выводя каждую музыкальную фразу.
– Если бы мы не встретили бродячего скрипача, – сказала вечером Катя, – я подумала бы, что Бог нас забыл.
Константин Петрович с первого дня в Зальцбурге ожидал этой встречи. Ему чудилось, что Пушкин, если бы судьбе было угодно переместить его из холодного и сурового Петербурга в не менее суровый и строгий, но теплый и солнечный Зальцбург, тоже, возможно, бессознательно ожидал бы подобной встречи. Между тем уличных исполнителей полиция выпроваживала подальше от фешенебельных отелей. Времена Моцарта и Сальери миновали безвозвратно.
– Музыка существует не только в блестящей интерпретации виртуозов, – ответил жене Константин Петрович, вспоминая хрипловатые от простуды юношеские голоса в холодной зимней церкви Сергиевой пустыни: напев они вели неумело и не гладко, видно, никто с ними по-настоящему не занимался, а жаль!
Дворянский подвигПушкин всегда был с ними, в них самих и в тех обстоятельствах, в которых они оказывались. В тот поздний вечер – перед отъездом на нанятую в окрестностях дачу – они долго не могли заснуть, изредка перебрасываясь словами и любуясь крупными – римскими – звездами на сапфировом небе, чашей укрывающем лесистую гору, которая молчаливо и таинственно заглядывала в открытое окно. Зальцбург мил из-за Кати. Ее облик как нельзя лучше подходил к хрустальному, напоенному ароматами цветов воздуху, всегда чисто выметенным улицам, узковатым, но удобным и для пешеходов, и для повозок. Жена приобретала какое-то новое обаяние и излучала необыкновенную женственность на аллеях парка или у шумящего фонтана, который обдавал любопытных мириадами бриллиантовых брызг. Здесь, среди этого скромного и недорогого великолепия, она умела становиться веселой и непосредственной, а там, в Петербурге, в ярко освещенных и душных даже в промозглые дождливые дни великосветских салонах она угасала и терялась, вызывая не только удивление и насмешку, но и злую иронию. Вскоре они перестали выезжать. Но почему, почему это прелестное создание, почти дитя, жена известного профессора-правоведа, наставника цесаревичей, принятая при дворе, избранница будто бы счастливой судьбы не хотела, не могла, не умела воспользоваться ее дарами? Почему очарование Кати, ее миловидность и ум никто не описал более подробно, чем обронивший два-три слова Федор Тютчев? Почему нет ее портретных изображений? Почему Валентин Серов, мастер двойных портретов, не изобразил Победоносцевых вместе? Барона и баронессу Гинцбург удостоил, а Константина Петровича и Катю – нет.
Что связывало Константина Петровича вообще с семьей Энгельгардтов, в которой Катюша провела первые семнадцать лет жизни? Что за личность ее отец – кутила и мот – Александр Андреевич Энгельгардт? Что за характер был у однокашника Константина Петровича по Училищу правоведения Энгельгардта, среди близких которого будущий обер-прокурор проводил столько времени? Чем Константина Петровича привлекла мать Кати – умом ли, сердечностью, образованием, – что он ей отправил одно из самых значительных писем в жизни? Здесь, в этом послании, весь он уже в не очень молодые годы, вся его мудрость, все надежды и упования. А ведь его корреспондентами были исключительно женщины выдающиеся – сестры Тютчевы, которых только наши революционные несчастья загнали в глухую тень, затушевали их прекрасные, неповторимые черты. О женщинах второй половины XIX века – не декабристках, не курсистках и не террористках – еще будет случай поговорить отдельно. Используемая большевиками и в хвост и в гриву поэма Некрасова «Русские женщины» просто перечеркнула образы действительно русских женщин второй половины XIX века. А именно они оставили нам немалое и весьма любопытное наследство.
Вот с какими мыслями Константин Петрович обратился в весенний мартовский день к Софье Энгельгардт: «Верно, у вас уже объявили манифест 19 февраля. Авось и у вас так же тихо после этого события, как и у нас. Все спокойны, и самые помещики, прочитывая положение, убеждаются, что дело для них не так плохо, как они воображали».
Не один Константин Петрович опасался дворянского мятежа, открытого бунта и неповиновения царскому указу. У дворянства имелся обширный опыт борьбы с главой государства Российского. И не только XVIII век тому пример. Тридцать пять лет назад сбитое с толку французской пропагандой молодое офицерье, недовольное в том числе и собственным экономическим положением, дворяне по преимуществу и русские тоже по преимуществу, едва не вырезали поголовно царскую фамилию, а заодно и государственную и интеллектуальную элиту империи. Не важно, что они прикрывались на бумаге благими намерениями, как впоследствии Герцен и большевики. Важно, что они уповали на революцию, рывок, кровавое насилие, призывали к нему и не страшились его. Они не задумывались над ценой человеческой жизни. Какой-то безвестный и обезумевший поручик Каховский вогнал смертельную пулю в героя войны 1812 года графа Милорадовича.
Константин Петрович хотел сблизиться с Энгельгардтами, его волновала судьба семейства Катюши, и он писал в Полыковичи, интересуясь сложившейся там ситуацией: «А народ толкует, еще он не разобрал хорошенько, что будет с ним. Только дворовые ропщут на то, что им придется еще два года служить помещикам. Авось либо и везде дело обойдется тихо. Ах, какая была бы это милость Божья и какая добродетель русского народа!»
Я добавил бы: и русского дворянства! Оно стало иным, более просвещенным, более демократическим, и, невзирая на разорительный для него, дворянства, указ, оно позволило не кровью, а разумным и благодетельным словом смыть клеймо позора с лика России. Этот дворянский подвиг в нашей стране оценили лишь единицы. Коммунисты, когда их лишили собственности, возможности распоряжаться общественным богатством и народным имуществом, огромных пенсий и незаслуженной злодейской славы, попытались силой отстоять некогда завоеванное. Им ли обливать грязью дворянство? Они прятали от студенчества «Русскую правду» Пестеля, и недаром прятали. Именно там корявым словом излагались начала диктатуры, именно там предлагалась депортация инородцев, именно там рекомендовалось увеличить полицейскую силу. Советы Пестеля успешно использовал большевизм, как и более позднюю нечаевщину, а Сталин довел идеи главного декабриста до гигантских размеров, завалив гектокомбами трупов территорию России – от Ленинграда до Магадана.
«Мы до сих пор еще недостаточно оцениваем всю важность этого перелома, – продолжая Константин Петрович. – Но, Господи Боже, какая великая перемена! Каково же – подумайте, в России нет крепостного права!» Это письмо единомышленникам, родным людям прибалтийско-немецкой крови, родственникам жены.
Идеология «Стансов»Сейчас он смотрел на синее небо над Зальцбургом. А там, в Питере, ждет целая зима, наполненная невыразимой, гнетущей сердце тоской искусственной, фальшивой жизни. На следующий день он эту печальную мысль, которая в те годы часто посещала русских людей за рубежом, но не отвращала, не в пример сегодняшним ничтожным полубеглецам от родины, – он уложит эту мысль в четкие строки письма из Зальцбурга: «О, как тяжел зимою Петербург, каким ощущением пустой бессмысленной призрачности наполняет он душу. Не там, где-нибудь в пустыне, а в нашем северном рынке суеты – настоящее memento mori, потому что нигде тщета жизни так явственно не ощущается и не гложет так сильно истомленную душу».
И это прототип Каренина, реакционер, противник реформ? Полноте, господа, шутить и передергивать. Жизнь не игра в преферанс, и мы не в казино. Разве можно себе представить Алексея Александровича, который в письме или в частной беседе воскликнул бы подобно Константину Петровичу: «Никто не будет служить по принуждению!» Скорее небо сошлось бы с землей, чем свояк Стивы Облонского произнес такую или похожую фразу. Да и сам Степан Аркадьевич, каким его изобразил Лев Толстой, относился к совершенно иному типу уже московских бюрократов, чем Константин Петрович и те, кто поступил под начало Зубкова. Молодежь, или новобранцы, как их впоследствии называл Василий Петрович, были проникнуты специфической – зубковской – идеологией служения отечеству на избранном поприще. Чрезвычайно важно вспомнить, что именно в доме Зубкова Пушкин написал знаменитые «Стансы» в 1826 году сразу по возвращении из ссылки. Чего уж тут юлить и лицемерить – великого поэта забросали грязью и вынудили к объяснению. И если первые «Стансы», открывающиеся строкой «В надежде славы и добра…», явились чистосердечным призывом поэта к власти, то вторые стансы под названием «Друзьям», начинающиеся «Нет, я не льстец, когда царю Хвалу свободную слагаю…», пропитаны горечью и разочарованием. Идеология пушкинских стансов не случайный порыв благодарной души. Это система государственных взглядов, напрочь отрицавших революционную догматику, которая, как моровая язва, поразила весь XIX век. Порядочным считался лишь тот, кто явно или скрытно одобрял мятеж и насильственное изменение существующего политического строя. Идеология стансов основывалась на правильном понимании необходимости работыкак единственного способа упорядочивания повседневной жизни. Здесь надо оставить в стороне действительный облик Петра Великого, которого Пушкин использовал в качестве символа. Такая трактовка стансов была просто не под силу прогрессивным экстремистам, которые мечтали властвовать, издавать законы и править, но отнюдь не сеять и месить навоз на фермах. Это они оставляли другим.
Идеология стансов определенным образом совмещалась с мыслями Ивана Пущина, который незадолго до восстания на Сенатской сбросил конно-артиллерийский мундир и преобразился в судью уголовного департамента Московского надворного суда. До того он назначался сверхштатным членом в Петербургскую уголовную палату. Он даже помышлял поступить в полицию квартальным надзирателем. И те, кто искренне заинтересован в улучшении русской жизни, в ее разумном реформировании, оценят намерения будущего декабриста, сбитого с истинного пути революционной волной, которая на вкус оказалась перенасыщенной кровью. Иван Пущин, кстати, дружил не только с Пушкиным, но и с Зубковым. – Он без тени раздражения упоминает о нем в мемуарах. Брат Пущина, Михаил, приводит слова Зубкова, сказанные коменданту Петропавловской крепости Александру Яковлевичу Сукину, первому тюремщику заблудших, при освобождении с оправдательным аттестатом, когда нежданно-негаданно ему, получившему прощение, было предложено остаться ночевать в крепости.
– Нет, покорно вас благодарю, лучше буду ночевать на снегу на Неве, чем у вас в крепости, – ответил обрадованный Зубков.
В «Алфавите Боровкова» подчеркивается, что Зубков не знал о существовании тайного общества. Но как в это поверить, если документально доказано, что он принадлежал к декабристской организации «Практический союз» и был членом «Общества Семисторонней, или Семиугольной, звезды»? Как поверить члену закрытой в 1822 году масонской ложи «Соединенных славян», в которой он дошел до высоких степеней? Освобождение Зубкова в какой-то мере загадочно, но, быть может, объяснение кроется в записке императора Николая I к генералу Сукину, где упоминаются фамилии Бориса Карловича Данзаса, Александра Ардалионовича Шишкова и самого Зубкова. Император распорядился содержать их под арестом, как содержится Михаил Федорович Орлов, то есть в относительно мягких условиях. Орлов же был посажен в Алексеевский равелин и содержался «хорошо». Он получил свидание с братом графом Алексеем Орловым и в конце концов был переведен на офицерскую квартиру, мог свободно прогуливаться по территории крепости. И Шишков, родной племянник и воспитанник известного адмирала Шишкова, и Данзас, сын курляндского дворянина генерал-майора Карла Данзаса, и Зубков, состоявший при московском военном генерал-губернаторе князе Голицыне, как и его подельник Борис Данзас, получили весьма скоро оправдательные аттестаты. Не исключено, что князь за них вступился.
Так или иначе, но совершенно ясно, что побуждения к службе у Зубкова были те же, что и у Ивана Пущина. Эти побуждения у Константина Петровича перешли в убеждения, хотя интеллект и характер формировались в эпоху бурных событий 1848 года, о которых он на протяжении долгих лет не высказывался. Ирония Герцена, сбежавшего из России крепостника и клиента банкирского дома братьев Ротшильдов, при описании личности Зубкова абсолютна неуместна.







