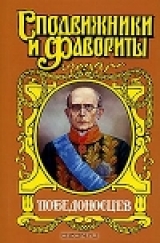
Текст книги "Победоносцев: Вернопреданный"
Автор книги: Юрий Щеглов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 51 страниц)
Подобное восприятие России, когда ужасающая реальность была объединена с искренней любовью, всегда являлось предметом начальственной ненависти и служило причиной политических обвинений в беспросветные тиранические времена. Почтовые улики вскрывали, копировали и при надобности пускали в дело. Я не уверен, что и цитируемый документ не прошел через руки чиновников из черного кабинета, который всегда существовал и давал о себе знать. Не похожие ли послания или прямые доносы о слишком откровенных беседах дали повод графу Петру Андреевичу Шувалову – шефу жандармов – рекомендовать императору Александру II «загораживать» дорогу Константину Петровичу? При Шувалове он числился среди неблагонадежных. За наследником граф наблюдал без особых церемоний. Конверты вскрывались не очень аккуратно, и чужое око без стеснения пробегало по строчкам будущего монарха. Дело дошло до того, что через три-четыре года – в декабре 1868-го – он сообщил Константину Петровичу, наплевав на перлюстрацию, что «по почте я больше писем посылать не намерен». До покушения у решетки Летнего сада Шувалов в корпусе жандармов играл первую скрипку. Он занимал место еще одного прощенного декабриста и долголетнего начальника штаба корпуса жандармов Леонтия Васильевича Дубельта. С одной стороны, Шувалов со своими соглядатаями, с другой – Михайлов, Чернышевский и Писарев с прокламациями, с третьей – неведомые злоумышленники и поджигатели – вот непременные участники событий эпохи Великой реформы. Если еще прибавить польский кровавый мятеж, поднятый такими личностями, как капитан Сераковский, и усмиряемый такими, впрочем, весьма умеренными деятелями, как граф Муравьев-Вешатель и генерал Берг, то картина ничего, кроме сожаления по поводу несчастной судьбы России, вызвать не может. Понятно, что обладавший историческим мышлением Константин Петрович предугадывал скорое будущее, высказывая недовольство настоящим. Он откровенно признавался, что преобразования в том виде, в котором они проводятся, ему надоели. И не только ему. Сторонники и разработчики реформ в них изверились. И немудрено! Придворное окружение императора находилось в постоянном состоянии восторга. Но отдавали ли они себе отчет, с какими сложностями столкнется изложенное на бумаге? Правительство нуждалось в хороших администраторах на всех уровнях. Его заваливали «рационализаторскими» предложениями. Образовался даже целый рынок проектов. Предложения следовали за предложениями. Некое подобие такой вакханалии мы пережили в начале и середине 1990-х годов. А Константин Петрович хотел остановиться на чем-нибудь твердом и практикой проверить результаты внедренных преобразований. Практика – главное требование и главный критерий!
Смерть наследника Николая Александровича усугубила мрачное впечатление, которое оставляло петербургское высшее общество, да и в Москве дела обстояли не лучше. Укрепляющиеся отношения императора с княжной Долгорукой [42]42
Долгорукая Екатерина Михайлова(1847–1922) – княжна, многолетняя фаворитка Александра II; с 19 июля 1880 г., после смерти императрицы Марии Александровны, состояла с императором в морганатическом браке; имела от него четырех детей; в декабре 1880 г. получила фамилию и титул светлейшей княжны Юрьевской.
[Закрыть]создавали во дворце конфликтную ситуацию, когда вопросы управления решались под давлением личных обстоятельств чисто эмоционального характера. Разложение семьи пагубно действовало на стабильность положения приближенных и расшатывало власть. Фаворитки при русском дворе не новость, но впервые юная особа заявляла о себе как о возможной супруге повелителя. Тот, кто повторял неизвестно кем брошенные слова: «Она не знает своего места!» – отдалялся сперва мягко и корректно, а затем быстро расставался с Английской набережной. Княжне Долгорукой удалось превратить адюльтер в настоящую семейную драму, что затронуло незыблемые основы русской государственности. Никогда Россия не попадала в столь двусмысленное и безнравственное положение. Митрополит Филарет в Москве угасал, не имея сил вмешаться в странный сюжет, принимавший скандальный оборот. Через полтора десятка лет княжна Долгорукая докажет и обоснованность собственной позиции, и силу любви императора, и жесткость, с какой она реализовывала женские претензии. Император в конце концов втайне заключил с ней брак.
Таков фон, на котором развернулась личная драма Константина Петровича, его роман с едва вышедшей из отрочества девушкой, роман, потребовавший непреклонной воли, решительности и смелости. Не просто найти в мировой эпистолярной литературе подобную бурю страстей, которую мы находим в письме с берегов Днепра. Оказывается, не только Оноре де Бальзак женился в Бердичеве на графине Эвелине Ганской, чем прославил еврейский городок на Украине и ввел его заштатное имечко в культурный обиход. Фраза «Бальзак женился в Бердичеве» превратилась в какой-то многозначный афоризм. Да, Бальзак действительно женился в Бердичеве, но и Константин Петрович Победоносцев женился в губернском городе Могилеве на Днепре, если не иметь в виду формальное церковное бракосочетание и не очень придираться к адресу. В Полыковичах получали почту из не менее еврейского, чем Бердичев, Могилева, и никого это не раздражало.
Роман одинокой душиИтак, Константин Петрович отправил из города Могилева, что на Днепре, подробное описание одного из самых значительных событий своей жизни, если не самое значительное. Оно, событие, не позволило ему принять сан, другими словами – пустило судьбу по совершенно иному руслу.
Письмо Константина Петровича из Полыковичей, как я уже заметил раньше, – это роман, быть может, эмоциональный конспект романа об одинокой и очарованной душе. Вот что он пишет после восклицания «Радость великая, которую послал мне Господь!», обращаясь к Анне Федоровне Тютчевой: «О, порадуйтесь вместе со мною и благословите мою радость. Со вчерашнего дня я жених, и невеста моя – та, о ком десять лет не переставал я думать с трепетом, одному Богу сказывая глубокую мысль свою». Здесь остановимся и задумаемся над чувствами этого человека. Вспомним, что с ним происходило десять лет назад, в 1855 году, когда он служил в одном из департаментов Сената. Чиновник с небольшим содержанием, далекий пока от университетской среды, однако уже достаточно опытный, стоящий несколько в стороне от московской кружковщины. Хлебный переулок, заботливая мать, многочисленные родственники…
«Я всегда любил детей, любил с ними знакомиться, любил соединяться с ними в их детскую радость. Десять лет тому назад Бог послал мне милого ребенка – Катю мою, семилетнюю девочку, племянницу товарища моего Энгельгардта, к которому я ездил летом в деревню. Я подошел к ней как к ребенку и распознал в ней душу глубокую и привязался к ней всей своей душою…»
У нас нет оснований сомневаться в искренности и чистоте его признания: «Я подошел к ней как к ребенку…» Но в этих словах все-таки сквозит страх, излишняя объяснительность и еще что-то трудно уловимое, мелькающее на втором плане, как тень.
«В этой душе хотелось мне пробудить все высокое и хорошее – я говорил ей о Боге, я молился с нею, я читал с нею и учил ее, целые часы и дни просиживая с нею…» И здесь опять прервемся. Какими же качествами должен был обладать этот ребенок, чтобы так захватить чужого человека? И каков был этот чужой человек, чтобы так привязаться к чужому ребенку? Какие мысли и чувства бродили в нем? Она постепенно становилась его воспитанницей, отдаляясь от родителей и сердечно приникая все ближе и ближе к поначалу загадочному знакомому в очках и темном поношенном сюртуке. Как реагировали и что думали окружающие, наблюдавшие такого рода необычайную самоотверженность и увлеченность?
«…И она росла и развивалась у меня на глазах, и чем больше я вглядывался в душу к ней, тем больше и глубже отдавал ей и в нее полагал свою душу…» Нематериальность тончайшего процесса отношений с подростком почти невозможно представить и уж подавно – описать. Стоит только заметить, что человеку, попавшему в подобное положение, нужно лишь посочувствовать.
Неравный брак«Она любила меня крепко и нежно всею своей детскою душой, и первое счастье мое было смотреться в эту душу, и стоять над нею, и оберегать ее, и радовать. Года проходили, и Катя моя вырастала, и страх нападал на меня: что будет дальше, когда ребенок мой вырастет предо мною в девушку…» Вот здесь таится ужасное признание! Страх не может возникнуть у такого религиозного и вместе с тем рационального человека безотчетно. Значит, по мере взросления юной особы мысли – я не назову их греховными – будоражили измученное укорами совести сознание. Ведь не из дерева он был сотворен?! Он считал Катю своим ребенком, и вместе с тем его охватывал страх. Нет, не на пустом месте возник этот страх.
«Она выросла, и было время, когда, казалось, Катя моя далеко от меня отходила и вышла из руки моей. Это было тяжкое время, которое прожил я в Петербурге и Царском Селе…» Он имел в виду начало шестидесятых – переезд в столицу, приближение ко двору, работу в комиссии при Государственной канцелярии, чтение лекций в Московском университете и постепенно увеличивающуюся причастность к различным общественным событиям. Какую высокую душевную плату приходилось отдавать за поиски другого полюса!
«Мне казалось уже, что Катя моя для меня потеряна…» Так не пишут и не думают о ребенке, о подростке, наконец, об очень юном создании. Так пишут и думают о женском существе, в котором и не вдруг открывают женщину и будущую жену. Ужасные муки должен был переживать Константин Петрович, если учесть разницу в возрасте и прочие обстоятельства.
«…Но теперь я вижу, что Господь этим временем испытывал меня и наказывал. Наказать наказал Он меня – а смерти не предал (Псалтирь 117:18). Не знаю, как – не от меня это было, а от Бога – Катя моя опять ко мне воротилась, – и вот, прошлый год весь прошел в недоразуменье, в робости – между нами завязались новые отношения в тихой тени отношений прежних, завязались тогда, когда я уж думал, что все кончено, и стал все двери запирать около себя и отрезывать всякие надежды…» – так освещал из духовной глубины, пожалуй, самый мучительный период жизни Константин Петрович. Он делился правдой чувств и правдой фактов. Мы знаем, что именно в ту пору он готовился к принятию сана. «Я чувствовал, однако же, что я для нее необходим, что мне одному сердце ее вполне верит, что на меня одного она полагается и опирается, но может ли она полюбить меня – вот чего я не знал и знать не мог» – в этой фразе, не пересказанной кем-то, а занесенной на бумагу знакомым почерком, сокрытый ответ на характер и физиологию встреч – не побоюсь употребить это не очень гармонирующее с высоким стилем отношений слово «физиология». Если бы он знал, может ли она полюбить его, то не завел бы речи о робости или выразился иначе. Исповедь Константина Петровича носит на себе явственные черты не просто желания сообщить своему корреспонденту о происшедшем. Она, исповедь, как бы служит проверкой и собственных эмоций, кристаллизует их, утверждая право на существование. А право это злые языки конечно же оспаривали особенно в дальнейшем, когда расползлись слухи о несомненной связи каренинской истории с тем, что якобы таилось за внешне мирной и благополучной жизнью четы Победоносцевых, и значительно позже, когда на карикатурных листках цитировались частушки, намекающие на неправильное поведение, как теперь принято выражаться – в американском Белом доме, Екатерины Александровны по отношению к сотруднику Константина Петровича капитану первого ранга Николаю Михайловичу Баранову.
«Я приехал сюда четвертого июля и провел целую неделю тревожную! Оба мы чувствовали, что уже не можем ни о чем спокойно и свободно говорим., покуда одно между нами не объяснится и слово об этом одном не будет сказано» – самый терзающий сердце момент пришелся на середину лета, когда приднепровская природа сказочно расцветала. Отец и мать Энгельгардты ненамного старше Константина Петровича. Да и длительность покровительственно-дружеских свиданий пробегала двусмысленной тенью. Когда зародились мысли о браке? Когда зародилась любовь? Я не хочу, по понятным соображениям, касаться деликатной темы. Я хочу, чтобы читатель сам, без посторонней помощи ощутил неловкость и мучительность ситуации, в которую невольно поставил себя вполне взрослый, умный и образованный законовед. «Положение становилось невыносимо, и я со страхом решился сказать все своей Катюше – и потом был еще целый день тревоги и волненья, и наконец услышал я то слово, которого ждала душа моя. И радость моя перед всеми явилась. О, на какое широкое место вывел меня Господь из тесноты и скорби и отчуждения!» – заключил рассказ Константин Петрович, вызывая у меня как у читателя ощущение преодоления чего-то невероятно трудного, тягостного, будто груз с плеч свалился.
Из общей не возвышенной, но возвышающей нас стилистики послания к Анне Федоровне Тютчевой, которая сама готовилась к свадьбе с Иваном Сергеевичем Аксаковым, давно вызвавшему у петербургского начальства и неприятие, и сильное подозрение, можно легко сделать вывод об ауре, окутывавшей сватовство профессора. Но прежде попутно остановимся на двух моментах. Вскоре граф Шувалов воплотит в конкретные действия и подозрения, и отрицание славянофильских позиций строптивого сына знаменитого писателя. А между тем Аксаков, обручившись с фрейлиной двора и воспитательницей троих детей, принадлежащих к царствующему роду, становился обладателем семейных тайн Зимнего дворца, получил возможность глубже понять, что происходило на вершинах власти, и проникнуть в психологию ее носителей. Письма Константина Петровича не только раскрывают душевный мир автора, но и дают возможность оценить интеллектуальные и сердечные качества дочери великого поэта и будущей супруги литератора и издателя, раздражающего Петербург и особенно Шувалова. В конце концов с подачи шефа жандармов и наблюдающих вблизи за Аксаковым чинов соответствующего ведомства газету «Москва» приостановили, с чего началась цепь довольно существенных ограничений и преследований. Прикосновенность Константина Петровича к семье Аксаковых не могла не повредить ему. Но кому еще мог написать Константин Петрович: «Порадуйтесь той радостью, которой «радуется друг женихов, когда заслышит его голос, и стоит и внимает ему» (Иоанн 3:29), и благослови вас Боже всяким миром и всякою радостью»?
Флорентийская мозаика и русский рисунокИ опять я хотел бы сослаться на Бориса Никольского, который, анализируя изданное тогда произведение Константина Петровича, утверждал, и не без серьезных оснований, что «манера его письма всецело заимствована им у наших духовных писателей и может быть признана манерой церковной стилистики по преимуществу». Мысль эта чрезвычайно важная, и вот почему. Письмо Константина Петровича, по сути, вполне бытовое, однако оно обладает вполне житийным окрасом, напоминающим руку духовных писателей. Этот окрас слога совершенно органичен. Он, слог, лишен выспренности и в целом и в тех частях, когда достигает самого большого эмоционального накала. Умение просто, без выкрутас поведать о сложнейших своих переживаниях, внутренняя деликатность и прямота – качества редкие и проявленные в столь интимных обстоятельствах открывают перед нами дверь в подлинное, а не сконструированное пространство души. Будто бы заимствованная стилистика, пропущенная через индивидуальное сознание, становится собственной, не утрачивая традиционных черт и связей. Романтическое повествование Константина Петровича представляет собой редкостный симбиоз обыденной разговорной речи со словами, характерной особенностью которых является отвлеченная, кристаллическая точность. Бунинская простота и лиричность рассказа «Легкое дыхание» – вот что приходит на ум и охватывает все существо, когда медленно, капля за каплей, впитываешь в себя прелесть и мучительность чужих чувств. Признания Константина Петровича, касающиеся отношений с цесаревичем Николаем Александровичем и Екатериной Александровной, напоминают флорентийскую – по богатству оттенков и осязательности – мозаику, но чисто русского рисунка.
Он покидал Могилев с неуспокоенным сердцем. Кривые и заброшенные улочки, дикие и пышные палисадники, гортанные крики еврейской детворы действовали угнетающе. Он смотрел из коляски на окружающий мир, тревожась и страдая, пытаясь вообразить, что ждет его в Петербурге после свадьбы. Он принял предложение графа Перовского, о котором говорили, что тот давно при царских детях и любит их как своих. Правда, Перовский нравился меньше, чем Строганов, и внешностью, и манерой изъясняться. Ну что ожидать от человека, усы которого, как пики, едва ли не дотягиваются до плеч. Граф настоятельно просил продолжить занятия с наследником – цесаревичем Александром Александровичем – и младшим братом – великим князем Владимиром Александровичем. Отдаваясь мягкому движению коляски, Константин Петрович грустил о том, что покойный цесаревич Никса не увидит ни его невесту, ни будущих детей. О детях он начал мечтать сразу. Он привык к большой и разноголосой семье и ожидал для себя и Катюши такой награды.
Он смотрел на неприятную ему нищую детвору и думал, что крестьянские ребятишки в Полыковичах выглядят по сравнению с живущими здесь вяловатыми и не такими игривыми и пролазчивыми. «Странно, – думал он, – какая несовместимость и какая разница в природе!» Он не углублял мыслей о могилевских детях и отвлекся, воскрешая в памяти минувшие недавно впечатления.
Обер-провокаторСвадьбу назначили на январь. Сейчас он вспоминал о событиях сорокалетней давности без особого сожаления. Он прожил жизнь, как мог, как хотел того Господь. И он всегда следовал велению вернопреданного сердца и обеспокоенного разума, для которых высшее благо России было благом и для него и для семьи. Сумерки на Литейном сгущались, и внезапно он услышал звук разбитого стекла. Почудилось, что осколки хлынули водопадом на тротуар. Сперва витрину разбили в кофейне напротив, почти одновременно атаковали нарышкинское палаццо. Вбежавший Егор схватил Константина Петровича за плечи и отстранил от вздувшейся шторы: ветер хлестал в пробитое мостовым булыжником отверстие. Где-то он читал, что булыжники есть орудие пролетариата. За последние двадцать лет петербургские дороги привели в порядок, и теперь недостатка в орудиях у хулиганья не будет. И действительно, революционные события прежде остального разрушили коммуникации. Городские улицы пришли в ужасающее состояние.
– Константин Петрович, не приближайтесь к окну. До беды недалеко! Разбойники камнями дерутся! И на втором этаже раму высадили!
Константин Петрович рванулся, чтобы бежать наверх, к жене, но Егор удержал его:
– Я Екатерину Александровну в молельню отвел. Там ее никакая вражья сила не достанет. Львов по телефону звонит в полицию, чтобы наряд выслали.
«Какая полиция, – мелькнуло у Константина Петровича, – разве нынче есть полиция и разве она действует?» Он повторил мысль вслух:
– Егор, разве еще есть полиция? Не нужно никуда звонить. Никто не пришлет подмоги. Отведи меня к Екатерине Александровне.
Больше, слава богу, булыжников не бросали. Он так был увлечен воспоминаниями о сватовстве в Полыковичах, что не обратил внимания на шум толпы, прокатившейся по Литейному. В дверях натолкнулся на Львова.
– Не стоило звонить в полицию. Я не хочу перед ними унижаться.
Несколько месяцев назад с ним по телефону связался новый начальник Петербургского охранного отделения с чрезвычайно оригинальной фамилией Герасимов. Он уже встречался с генералом в Харькове и отметил несколько странную для жандармского офицера внешность – профессорскую бородку и прилично подстриженные маленькие усы. Взор насмешливый, по-монгольски или, скорее, по-татарски узковатый и неподвижный. В мундире смотрелся нелепо. Но хитростью его Бог, наверное, не обидел. Содержалось в Герасимове что-то скользкое, виляющее. Такой готов на все, в том числе и на противозаконное. Константин Петрович не мог, конечно, догадаться, что при Герасимове Азеф провел свои если не самые плодотворные, то самые спокойные и обеспеченные провокаторские годы. Константин Петрович вообще ничего не знал о деятельности какого-то Азефа. Но вот Герасимов обернулся к нему определенным образом, хотя при последней беседе по аппарату сказал вежливо и совершенно успокоительно:
– Дом, в котором живет обер-прокурор Святейшего синода, находится под специальным надзором охранного отделения.
Между тем Константин Петрович не обращался ни с какой просьбой. Герасимов скользкий тип. Провокация его конек. Он, очевидно, пронюхал, что Витте вот-вот свергнет обер-прокурора, и сделал ставку больше на митрополита Антония. Помчался к нему в Александро-Невскую лавру за поддержкой, а более – за консультацией либерального порядка. Дело-то клонилось к принятию октябрьского манифеста. Что правда, то правда – в последние месяцы Константин Петрович потерял равновесие. Нервы не выдерживали, и сорвался на том, что прежде старался игнорировать. В один из душных августовских дней он велел заложить коляску и отправился к генерал-губернатору Трепову [43]43
Трепов Дмитрий Федорович(1855–1906) – генерал-майор свиты, в 1886–1905 гг. московский обер-полицеймейстер, с января 1905 г. петербургский генерал-губернатор, с мая 1905 г. также товарищ министра внутренних дел, заведующий полицией, с октября 1905 г. дворцовый комендант; неоднократно подвергался покушениям за репрессии против демонстрантов.
[Закрыть]без предварительного предуведомления. Однако Трепов принял незамедлительно и внешне любезно. Увидев знакомую гвардейскую фигуру с отменной выправкой, Константин Петрович подумал, что красавчики Россию до добра не доведут. У Баранова выправка не хуже, но личности, как оказалось, не соответствовала. Император любил Трепова и, случалось, встречался с ним по многу раз в неделю отнюдь не по служебным надобностям. Говорили, что петербургское окружение монарха даст сто очков вперед кайзеровскому и королевскому в Лондоне.
– Дмитрий Федорович, я обращаюсь к вам с предложением: немедленно прекратить деятельность всяких там Мережковских, собирающихся с крамольными целями в помещении Религиозно-философского собрания. Я желал бы, чтобы вы употребили власть губернатора и приняли бы строгие полицейские меры. Иного выхода прекратить безобразие я не нахожу.
– Да, но я не владею соответствующими знаниями и навыками, чтобы выиграть спор у таких очаровательных женщин, как Зинаида Николаевна Гиппиус, и вдобавок в помещении общества хранятся, по достоверным сведениям, лишь высоконравственная литература. Там нет ни оружия, ни пропагандистских листовок. Как же мне в таком случае поступить? Нарушить закон?!
Трепов был известный острослов, чем в молодые года привлек внимание императора. Однако Константину Петровичу было не до шуток. Он так и не сел в давно предложенное кресло. Законник выискался!
– Святейший синод не имеет никакого касательства к этому гнезду распущенности и разложения. Образованными философами и историками этих, с позволения сказать, членов подозрительного сборища не назовешь. Одно блудословие…
– Константин Петрович, ради бога, умерьте свой гнев! Я поручу Герасимову разобраться, что там происходит.
– Герасимов! Я сыт им по горло. Знаете ли вы, что он мне ответил, когда я ему разрешил от имени обер-прокурора разогнать собрание на квартире настоятеля Казанского собора протоиерея Орнатского позорящих церковь священнослужителей, пожелавших создать какой-то союз на манер профессиональных? Бред какой-то! Бред, бред! Ваш Герасимов ответил, что если наряд из полицейских и казаков разгонит этих нечестивых попов, то вызовет неудовольствие журналистов! А нынче он пошел в фарватере митрополита Антония, который не видит в деятельности Религиозно-философского собрания ничего предосудительного. Проектируется сближение с католиками или даже дружба. Это что ж такое?! Это соловьевщина какая-то! Подвергаются сомнению основы христианской догматики. Просто кошмар! Четыре года назад я по слабости духа дал ошибочное согласие, и Синод легализовал их сходки. В апреле, помнится, 1903 года мы спохватились и запретили сборища. Ведь до нас доходили ужасающие слухи! Я тогда вызвал к себе епископа Сергия, человека молодого, неопытного, Карташова и, кажется, Тернавцева, указав им на недопустимость схоластических словопрений со всякими там Розановыми да Шагинянами. Но хуже прочих эти Мережковские! Пришел ко мне добиваться возобновления дискуссий. Каково? Читал я его и стишки, и статейки, и даже романы…
Константин Петрович прервал речь, обратив внимание, что Трепов смотрит в окно, причем не скрывает, что соскучился. И кончилось действительно ничем. Летним месяцем Герасимов передал через Саблера, что не видит необходимости принятия репрессий против Религиозно-философского собрания и что, последовав просьбе обер-прокурора, охранное отделение нарушит спокойствие в столице.
– Этот жандарм сослался на Дмитрия Федоровича, что, дескать, мы должны собственными средствами справиться, – сказал Саблер, опуская глаза. – А какие у нас средства?
Обер-прокурор не ответил и продолжал мрачно сидеть за своим колоссальным столом. При покойном императоре обер-прокурору не пришлось бы просить о вмешательстве или защите.
– Он, кстати, вновь заверил, что Литейный остается под особой охраной, – тихо и грустно заметил Саблер, которого отношение властей к Константину Петровичу унижало и оскорбляло.
На следующий день Егор ворчал в прихожей:
– Топтунов прислали! Газетки почитывают, семечки щелкают да девок прохожих задирают. Раньше топтун стоял по струнке и глазами блымал туда-сюда, как его обучили.







