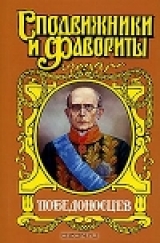
Текст книги "Победоносцев: Вернопреданный"
Автор книги: Юрий Щеглов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 51 страниц)
Между тем Константин Петрович уже не внимал Баранову. Но какие-то слова из бумаги, составленной Соловьевым, все-таки запали в душу. «Единый Бог, единый Бог – Бог Любви». Он наткнулся на подобные строки не так давно – три-четыре года назад – у другого богоотступника и лжехристианина, с которым вступил в открытую схватку. И Соловьев, и тот, другой, чья фамилия сейчас высветится в сознании огненными литерами, придерживались сходного взгляда на совершившееся злодеяние, они оба требовали от государя проявления милости к обагренным святой кровью террористам, которые эту милость признали бы, безусловно, за знак слабости, утверждение собственной правоты и продолжили бы убийственную бойню в постоянно расширяющихся масштабах. Они завалили бы Россию трупами и в грядущих смертельных столкновениях лишь увеличили бы число невинных жертв. А рассуждают бесстыдно о Боге Любви. Кстати, излишне горячившийся философ ругательски ругал графа и печатно, и прилюдно, а Толстой, надо отдать ему должное, мало замечал волосатого и хилого задиру.
Константин Петрович припомнил, откуда возникли слова, знакомые издавна, припомнил чувство, с которым их прочел не в первый раз, припомнил и фамилию – граф Лев Толстой. Несмотря на возраст, у Константина Петровича остался живой, восприимчивый мозг, ничего не забывающий, ничего не упускающий и всегда готовый к любой работе. Сейчас он прокручивал, как в волшебном фонаре, собственную жизнь фрагментами, кусками, повинуясь какому-то тайному движению сердца. Он безошибочно воспроизводил включенные в его судьбу тексты, будто принадлежащие ему, слитые с ним, ставшие частью измученного существа. Непонимание и горькие обиды, ошибки и поражения не делали Константина Петровича уступчивее или понятливее. Он прочно стоял на своем, зная, что сдача позиций в отношении к традиционной церкви приведет к духовному и идейному разгрому. Он понимал, что здание государства постепенно рушится, и поражался, как умные и даже гениальные люди не в силах усвоить простые истины, превратив христианскую веру в опору гуманитарного и научного интеллекта. Они хотят веру в лучшем случае совместить или, что хуже, вывести из самых последних исследовательских и технических открытий, отправив в архив Священное Писание, правда, каждодневно пользуясь его мудростью, а Божественные откровения выдавая за накопленный народом опыт. Вера у многих перестает быть всеобъемлющим состоянием обращенной к Богу души. У образованных, но воспитанных вне церковных рамок людей вера нередко занимает маленький уголок в сознании. Таков был Владимир Соловьев. Его оппонент Лев Толстой ушел еще дальше по стезе неверия. Константин Петрович никогда не вступил бы в открытый спор с автором «Войны и мира» и вовсе не из-за страха потерпеть неудачу. Возражения Толстого после публикации определения Святейшего синода в «Церковных ведомостях» он велел напечатать в одном из летних номеров «Миссионерского обозрения», сделав все-таки цензурные купюры, в которых потерявший ощущение реальности писатель пытался унизить и высмеять обрядность православной церкви, тем самым лишая ее исторических корней, а без них живое древо веры вянет. Значит, срубить хотел крест, чтоб без креста и жить, и умереть.
Константин Петрович смотрел на правильный и мужественный профиль Баранова и думал о Толстом. Градоначальник действительно напоминал чем-то графа Вронского – довольно распространенный петербургский тип гвардионца. Однако сквозь мысли о Вронском и Баранове, о расползшейся ядовитой сплетне, которая нет-нет да и впивалась колючим шипом в сердце, все явственнее проступал текст толстовского ответа, фрагмент коего невидимыми нитями соединялся со строчками Соловьева из собственноручного показания, данного в дни суда над подлыми и лишенными жалости террористами. Граф с надменностью аристократа, вознесенного врожденным своим талантом на недосягаемую для обыкновенных смертных вершину, забыв, что перед Богом все равны, вещал, небрежно признаваясь в страшном грехе: «То, что я отвергаю непонятную Троицу, не имеющую никакого смысла в наше время басню о падении первого человека, кощунственную историю о Боге, родившемся от Девы, искупляющем род человеческий, то это совершенно справедливо. Бога же – Духа, Бог-Любовь, единого Бога, начало всего – не только не отвергаю, но ничего не признаю действительно существующим, кроме Бога, и весь смысл жизни вижу только в исполнении воли Бога, выраженной в христианском учении».
Тогда, в 1881 году, Константин Петрович резко оборвал визит Баранова, одобрив и грубый вызов Владимира Соловьева, и жесткие предупреждения полиции в адрес тех, кто намеревался подать царю прошение о помиловании убийц, прикрываясь христианскими заповедями. Сейчас, спустя четверть века, он недаром совместил в памяти человеческие образы и поведение Соловьева и Толстого. На исходе ужасных мартовских ид [36]36
Иды– в древнеримском календаре день в середине месяца – 15-е число марта, мая, июля, октября и 13-е число остальных месяцев.
[Закрыть]к нему на Литейный проспект без всякого уведомления приехал на извозчике Николай Николаевич Страхов. В те годы личность не очень близкая к Константину Петровичу, но и не противная ему. Уже тогда печать неизлечимой болезни лежала на физиономии Страхова. Он давно бросил занятия физикой и естественными науками, забыл о математических формулах, Эвклиде и Лобачевском и полностью – без остатка – отдался изящной словесности, считаясь заметной фигурой среди тех, кого зачисляли в славянофилы и в их оригинальную – почвенническую – разновидность. С Толстым он дружил, вместе ездили в Оптину пустынь к отцу Амвросию, ссорились и спорили с живущим там по сю сторону церковной ограды Константином Леонтьевым. В Оптиной Леонтьев держал себя на первых порах тихо, никому в печенки не влезал, никого не учил – послушник, да и только! Про него простой народ говаривал уважительно и с неким мистическим чувством:
– Барин! А когда рассердится на ленивую прислугу, вроде в него бес вселяется.
Милый и обходительный СтраховО чем Толстой с Леонтьевым толковали, никто не знал, кроме Страхова, начинавшего писать о друге, превратившемся в крупное явление русского социума. Под благословение граф в келье отца Амвросия подходил, к руке припадал, но однажды в тот же день прибытия выскочил из дверей как ошпаренный, когда услышал совет публично и печатно отказаться от заблуждений. Куда там! Граф никогда не покается. Товарищеское единение с мягким, кротким и далеким от истинной религии Страховым вызывало удивление у окружающих. Страхов в более молодые годы смотрел в рот завзятому богемщику Аполлону Григорьеву, везде превозносил нутряной талант, художественный, но, в общем, беспутный характер приятеля, потом увлекся Львом Толстым и проповедью искусства для искусства. Как из почвенника выделялся поклонник Шекспира и Гете, для многих осталось загадкой. Лет десять перед описываемыми событиями Страхов скончался, так и не приняв церковного напутствия. Константин Петрович в последние годы избегал общения с ним. Но четверть века назад то, что нынче прояснилось, находилось в тумане, сквозь который проступали лишь размытые очертания. Страхов весьма живо и с юмором рассказывал об Оптиной пустыни и поездках с Толстым в Шамординскую женскую обитель, куда граф ездил проведывать любимую сестру-монахиню. Шамординскую обитель, что в семнадцати верстах от пустыни, основал и опекал отец Амвросий, и разумеется, Константину Петровичу штрихи тамошнего быта не были безразличны. Несмотря на волнительные события и крайнюю занятость, Константин Петрович принял Страхова сразу. Он подозревал, что этот милый и обходительный резонер не от себя явился. Страхов, к счастью, не обладал преувеличенным мнением о собственной персоне, что облегчило задачу Константину Петровичу – отказать и наотрез. Отрубить без извинений. Не подстилать соломки.
Обстоятельства сложились опасные, тяжелые и горькие. Процесс над «Народной волей» двигался к завершению, и публику пугали бродившие по Петербургу фантастические слухи. Боялись пожаров, резни, взрывов. Общество клонилось то к одной, то к другой стороне. Защитников соловьевского мнения, которое поэт и философ энергично распространял на разных сборищах задолго до лекции в Кредитном обществе, слеталось в кофейни и ресторации Невского предостаточно. В Зимнем и Аничковом, в Петергофе, Царском Селе и, что поразительно, в Гатчине по углам кое-кто шептал на ушко охотникам до политической клубнички:
– А хорошо бы императору сделать шаг навстречу примирению.
Примирению с кем? С убийцами?! С насильниками? С агентами интернационалки?! Отвратительная, порочная идея! Перед внутренним взором Константина Петровича едва ли не ежедневно возникал вызванный из глубин сознания образ датского принца Гамлета, которому тоже предстояло отомстить за смерть отца своего. Но здесь, в Петербурге, в России, не в отмщении суть, здесь глубже, здесь вера в Бога, закон и справедливость, и неверие ни во что сошлись в смертельной и, к сожалению, не в последней схватке. Константина Петровича поражала жестокость ближайших к трону придворных и самих террористов, которые обсуждали положение в стране, совершенно абстрагируясь от случившегося. Чего стоило лицемерное начало обращения этого дьявольского Исполнительного комитета к новому императору! Текст отпечатали на специально для того приобретенной веленевой бумаге, нагло объявив в первых же строках, что вполне понимают «тягостное настроение», которое государь испытывает в настоящие минуты. «Тягостное настроение»! Каково?! Они еще смеют что-то лепетать об естественной деликатности!!! И ссылаться на историю, требуя пересмотра существующих форм государственной и общественной жизни, а главное – они, эти бунтовщики и кровопийцы, желают получить политическую амнистию! Вот здесь и зарыта собака. Амнистия преступникам! А если нет, если политика правительства не изменится, то «страшный взрыв, кровавая перетасовка, судорожное революционное потрясение всей России завершат процесс разрушения старого порядка». Вот чем грозят! Вот чего добиваются! Шантаж, и не иначе. Сейчас амнистия или хотя бы помилование осужденным, в случае отказа – перетасовка. Что сие означает? Что за странный проговор? Перетасовать – значит перемешать карты, тасуя их, а перемешав, переместить по новым местам многих людей. Вот и весь сказ! Слово, что шило, – вылезет, где и не ожидаешь. Во Франции сколько раз перетасовывали, скольких расстреляли, уморили, обездолили и ровным счетом ничего не добились. То же грюндерство, ложь, воровство и прочие прелести цивилизованного и свободного мира.
Страхова тем не менее он встретил приветливо, но стоя, давая понять, что беседу лучше не затягивать. Николай Николаевич начал с лестных слов, которые отвечали духу письменного обращения к нему самого Толстого.
– Я вынужден был вас обеспокоить, уважаемый Константин Петрович, в столь скорбные для России дни, – говорил Страхов, глядя прямо на быстро помрачневшего визави, будто надеясь уловить поддержку в глазах, – и думаю, что вы меня не осудите. Зная вашу неизбывную доброту, отзывчивость и приверженность к христианским ценностям…
ОтказКонстантин Петрович перестал вникать в суть произносимого монолога и через несколько минут непроизвольно протянул руку, но не для того, чтобы принять обращение Толстого к царю, а наоборот, как бы отстраняясь или – что точнее – защищаясь от конверта иноземной склейки.
– Лев Николаевич приносит извинения и полагает, что вы выполните просьбу, к которой присоединяюсь и я, – заключил Страхов, опустив взор, что отчасти позволило не заметить подозрительное движение Константина Петровича.
В кабинете наступила гробовая тишина. Наконец Константин Петрович спросил:
– Чего же добивается граф Толстой? И есть ли резон тревожить императора в час испытаний?
Страхов, избавленный от тягостной паузы, ухватился за пресловутую, правда, надломленную уже соломинку. Он принялся горячо и даже со страстью убеждать обер-прокурора, что Толстой, безусловно, не сочувствует террористам, что он противник Владимира Соловьева и сторонник непротивления злу насилием, всегда взывающий К милосердию во имя Спасителя. Милосердие – лучшее лекарство для больного общества.
– Как прикажете относиться к услышанному? Не есть ли оно вольное переложение послания графа императору? – вымолвил Константин Петрович, одновременно стараясь разгадать, зачем Страхов приплел фамилию Соловьева.
Страхов не ощутил скрытой иронии. Он был целиком охвачен желанием убедить обер-прокурора сохранить от зла Россию, передав мнение Льва Николаевича императору.
– Нельзя бороться с революционерами, убивая и уничтожая их, – опять повторил он, очевидно, толстовское выражение.
– Это вы так считаете, Николай Николаевич, или граф Толстой? И никто не собирается убивать и уничтожать революционеров, хотя они достойны и худшего. Есть закон, есть суд, есть приговор. Казнь не убийство и не месть общества преступнику.
Страхов ни капельки не смутился и продолжал, ускоряя темп, заученную речь, вероятно, близко к сочиненному Толстым тексту.
– Революционеров очень много и не только среди молодежи. Впрочем, не важно их число, а важны их мысли. Для того чтобы бороться с ними, надо бороться духовно.
– Я не могу взять на себя ответственность поучать императора в столь грозный для России час.
Страховские «скорбные дни» он подчеркнуто заменил на «грозный для России час». Требование Толстого о настоятельной необходимости проявить снисхождение к террористам в переложении Страхова звучало особенно непристойно, но вдобавок Константин Петрович думал резко противоположное. Духовная борьба с кровавыми убийцами, обещающими расправиться с царем, да и со всей страной, перетасовать ее, просто невозможна. Но Страхов, увлеченный желанием получше выполнить поручение, не следил за выражением потемневшего лица собеседника.
– Идеал этих молодых людей есть общий достаток, равенство и свобода. Мысль Льва Николаевича сводится к тому, чтобы бороться с ними, надо поставить против них такой идеал, который был бы выше их идеала, включал бы в себя их идеал. Милосердия, государь, милосердия! – заключил Страхов свой монолог, присоединив к нелепым предложениям Толстого уже и собственную легковесную просьбу о милосердии.
– Мне трудно отказать графу Толстому, но я вынужден это сделать, поблагодарив его за слишком лестные слова в мой адрес.
Страхов, как и прежде, не уловил оттенка иронии, но сразу поблек и начал прощаться, сам положив предел неудачному свиданию. Чтобы избежать возникшего ощущения враждебности, Константин Петрович подал руку Страхову и проводил вежливо до дверей кабинета. Вернувшись к столу, он взял перо и записал неломким, но остролетящим почерком: «Люди так развратились в мыслях, что иные считают возможным избавить осужденных преступников от смертной казни». У него не возникало сомнений, что суд вынесет верный приговор. Позднее он вставит пришедшее сейчас на ум в письмо государю. Да, Страхов с Толстым не одиноки, но пусть поищут более покладистого почтмейстера. И все равно, несмотря на убежденность в правоте, несмотря на правильно избранную линию поведения – а для обер-прокурора и одного из виднейших правоведов страны сие весьма важно, – Константина Петровича все-таки что-то не устраивало в совершенном поступке, что-то его тоскливо мучило, и он никак не мог избавиться от неприятного и, пожалуй, тревожащего совесть осадка в душе. Он знал, какую историческую цену придется уплатить за содеянное. Однако он также твердо знал, что милосердие, амнистия и не по сути своей христианское прощение террористов ни к чему бы не привели. Великие реформы никого не удовлетворили и не умирили. Кровь продолжала бы литься, нашелся бы новый предлог. Лев Толстой ведь не стал другим, не изменил себе, не раскаялся и продолжает разрушительную работу, невзирая ни на что. Удивительно, что в России к каторжным испытывают сострадание, а к закону презрение. Святейший синод не должен закрывать глаза на плачевные результаты деятельности человека, который, пользуясь могучим, от Бога полученным талантом, обратил его против христианства и наносит трудно поправимый ущерб православию, не желая ни с чем считаться, неуклонно следуя по ложному пути, обуянный дьявольской гордыней.
Тонкости признания виныГордыня, гордость, гордый ум – вот ведущие опорные слова, образующие костяк послания Святейшего синода. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний, назначенный три года назад, вполне с ними согласился. Согласился и митрополит Феогност, возглавлявший Киевскую и Галицкую митрополии. Митрополит Московский и Коломенский Владимир поддержал редакцию, но без особого энтузиазма. Не весь народ московский станет на сторону Синода против яснополянского земляка. Константин Петрович корпел над каждым понятием и возвращался трижды к каждой буквочке, чтобы не пропустить ни одной случайной. В столь важном акте умеренность и подобающий церкви тон в отношении к заблудшему надобно вывести на первое место. Смиренный Антоний, смиренный Феогност, смиренный Владимир… И прочие подписавшиеся обязаны подчеркнуть сие основное качество послания. Смирение противопоставляется гордыне. Смирение убеждает гордыню и одерживает над ней верх. Отважившись без разрешения императора Николая Александровича на публикацию, которая, несомненно, будет иметь мировой резонанс, Константин Петрович совершал отчаянный шаг. Ходили упорные слухи, что царь против отлучения от церкви Льва Великого, как его возвеличил однокашник обер-прокурора по училищу Владимир Владимирович Стасов – любитель пунцовых рубах и густо смазанных дегтем сапог, тем не менее обнимающийся со всякими Гинцбургами, Левитанами и Антокольскими.
Владимир Карлович Саблер не раз пытался уговорить Константина Петровича познакомить императора с текстом.
– Уверяю вас, он не остановит печатный станок. В противном случае вы рискуете навлечь на себя неудовольствие бывшего воспитанника. Синод и так в придворных кругах пользуется ретроградной репутацией. Если обойдем императора, не на пользу ему поступим.
– Ничего не поделаешь, ничего не поделаешь, – невнятно прожевывал фразы Константин Петрович. – Церковь долгое время с невероятным терпением относилась к графу Толстому. Прогневается государь – покаемся в служебной нерасторопности. Но отлучение – забота Святейшего синода, а не верховной власти. Пока я жив, церковь без посредников будет увещевать и наказывать заблудших. Да, наказывать! И пока я жив, иного порядка России не знать!
Церковь не унизилась до оскорблений, церковь нашла в себе силы признать значение деятельности писателя, что более остального беспокоило Константина Петровича при изготовлении первичного варианта. Нельзя перегибать палку и отрицать очевидное. Как точно, мягко и вместе с тем бескомпромиссно звучит начальная фраза: «И в наши дни, Божиим попущением, явился новый лжеучитель, граф Лев Толстой…» Здесь все обозначено, все названо, все выражено. Далее должна идти констатация заслуг того, к кому обращаются высшие иерархи и в их лице православная церковь и Святейший синод. Лжеучителей тысячи, но граф Толстой один, и его воздействие на умы бесспорно.
«Известный миру писатель…» Емко, правдиво и с достоинством. Он, Константин Петрович, от имени церкви будет говорить с графом Толстым на равных. Иначе как объяснить сей необычайный акт? Заблуждения Толстого тем опаснее, чем обширнее и глубже его способность воздействовать на людей. Не ко всякому частному лицу адресуется Святейший синод. Русский по рождению, православный по крещению и воспитанию своему, граф Толстой «в прельщении гордого ума своего дерзко восстал на Господа и на Христа Его и на святое Его достояние, явно перед всеми отрекся от воспитавшей Его Матери, Церкви Православной, и посвятил свою литературную деятельность и данный ему от Бога талант…»
Самое сложное наконец-то выражено! Он истреблял в умах и сердцах народа веру православную, которая утвердила Вселенную. Этой верой жили и спасались наши предки. Этой верой доселе держалась и крепка была Русь Святая.
Когда император Николай Александрович выразил все-таки резкое – предвосхищенное Саблером – неудовольствие, Константин Петрович не сдал позиции и не отступил. Он написал государю: «…прошу забыть эту вину мою, на исходе уже службы моей свершившейся». Но вину он признал лишь в том, что не испросил согласия на самуюредакцию послания Святейшего синода. Вот за что он просил прощения. И только за это.
Концовка послания была отточена Константином Петровичем и митрополитом Антонием лаконично и с блеском. Она звучала спокойно, выдержанно и с присущим церкви достоинством. В последних фразах высшие иерархи, вынося трудный вердикт, все же показывали перед всем миром, что отдают себе ясный отчет в том, к кому обращаются с укором, и не осуждают в целом творчество писателя. Миновал целый век, и, разумеется, по-прежнему находятся люди, которые не разделяют мнение обер-прокурора и церковных иерархов и не согласны с посланием, опубликованным в том далеком феврале, но с оглядкой на них нельзя недооценивать ряд качеств этого удивительного и небывалого текста. «Бывшие же к его вразумлению попытки не увенчались успехом» – пожалуй, наиболее слабая фраза, и Константин Петрович предчувствовал, что в ответе Толстой ее не пропустит. Заключение даже у рассерженного императора позднее не вызвало протеста: «Посему церковь не считает его своим членом и не может считать, доколе он не раскается и не восстановит своего общения с нею».
Сейчас, уже в отставке, формально побежденный и униженный Витте, которого император не одернул и не смирил, Константин Петрович, припоминая обидные переживания тех февральских дней, внезапно осознал, что поступил бы и сейчас точно так, как поступил, невзирая на ничем не прикрытый гнев государя. А митрополит Антоний, переметнувшийся теперь в стан врагов, и тогда колебался.







