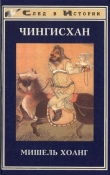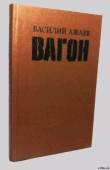Текст книги "Ждите, я приду. Да не прощен будет"
Автор книги: Юрий Федоров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 37 страниц)
– Нет, – говорил Алексей, распаляясь, – Карл батюшке моему враг смертельный, и я ему, значит, подмога добрая.
Свеча горела, потрескивая, на стенах тени качались.
А ведь видел царевич шведом сожжённые русские деревни. Ребятишек с льняными головами видел, на пепелищах воющих. Разграбленную, испоганенную, истоптанную войной землю видел. Но, не боясь мысли изменничьей, не думая, что воевать-то надо против родины своей, Алексей прикидывал:
– На дилижансах почтовых проехать можно инкогнито, в платье чужом. До Парижа добраться только, а там уж рукой подать...
И в пляшущих на стене тенях рисовалась ему дорога, скачущие кони. Но тут же вспоминал царевич непреклонные глаза капитана Румянцева. Они смотрели в упор. Не мигая, как тогда, на дороге в Неаполь, и Алексей понимал: тот настигнет везде, не остановится ни перед чем и от него не уйти.
Алексей срывался с постели, падал на колени, молился долго:
– Боже всемилостивейший, защити меня, помоги мне...
И шептал чуть слышно:
– Прибери, боже, отца моего. Здоровьем он слаб... Своё пожил... Господи, услышь меня...
– Хватит шептать-то, – говорила Ефросинья, – молитвой немного выпросишь.
Алексей поворачивал к ней тёмное лицо:
– Я сын царский. Мне до бога ближе. Меня услышит.
Поднимался с колен, ложился в постель, тушил свечу. Лежал в темноте с открытыми глазами. Решил: «К батюшке не поеду. Здесь перебуду или ещё где. Защитников найду». Упрямо морщил лоб: «Не поеду».
И, уже засыпая, видел тронный зал в Московском Кремле, бояр в горлатных шапках высоких и себя в одеждах нарядных на ступеньках к трону. Брали его ближние бояре под локотки и вели к месту царскому.
– Боже, – шептали Алексеевы губы, – помоги же мне... Помоги...
И просил, и требовал помощи божьей, и опять просил.
* * *
Пётр Андреевич Толстой время на пустяки не тратил. Чутьё подсказывало ему: надо торопиться. Близились переговоры со шведами, и Пётр Андреевич боялся – крутил головой сокрушённо: не использует ли Карл в той игре Алексея?
– Глупости может наделать наследник, – говорил он, – а цена им кровь русская.
И по домам чиновничьим, что объехали однажды с Румянцевым, покатили они в другой раз. Только сейчас одним разглядыванием оных Пётр Андреевич не удовлетворился. У тех, что повыше да побогаче, карету останавливал и посылал Румянцева вперёд сказать хозяевам, что пожаловал российский вельможа знатный, дипломат, граф Толстой. Хозяева высыпали к коляске. Пётр Андреевич сиял лицом, как ясное солнышко. И людей-то тех граф видел впервые, но и глазами, и жестами, и словами выказывал, что роднее и ближе нет у него никого на свете.
Дамам обязательно целовал ручки. Но надо было видеть, как целовал. Иной ткнётся в руку не то подбородком, не то носом, как клюнет, да ещё и руку-то пальчищами своими придавит или прищемит того хуже. А потом и вовсе руку оттолкнёт, будто обжёгся или горького хватил. Не таков был Пётр Андреевич. Ручку дамскую брал он нежно, как нечто невесомое и, уж безусловно, драгоценное. В глаза смотрел выразительно, с обаянием, словно подобных глаз он и не видел никогда и только в то мгновение открылось перед ним некое таинство, волшебство, очарование. Склонялся к руке Пётр Андреевич прочувствованно, как к святыне. Губы прикладывал не то чтобы жадно, но всё же энергически и, приложившись так, выдерживал именно то время, которое было бы и прилично и вместе с тем свидетельствовало, что отрываться от того блаженства ему явно не хочется.
Дамы цвели.
Хозяину после приличествующих поклонов граф пожимал руку. И то он делал тоже по-особенному. Руку брал властно и сильно, но вместе с тем в пожатии сразу же чувствовалось почтение, выказываемое мужу государственному, уму незаурядному, человеку, преуспевающему в жизни благодаря способностям выдающимся. При том Пётр Андреевич глядел на хозяина дружелюбно, откровенно, с уверенностью, что здесь-то уж он обязательно будет понят, так как посчастливилось ему видеть перед собой лицо исключительное во всех отношениях. Хозяин невольно ощущал прилив сил, распрямлял плечи, вскидывал горделиво голову, выкатывал грудь. Хотя многим из чиновников выкатывать её и не следовало бы, так как всякому человеку помнить должно: выкатывают только то, что выкатывается, и всегда лучше оставить в тайне, что, ставши явным, не в пользу хозяина глаголать станет.
В окружении дам, ведомый под локоть хозяином, граф вступал в гостиную. Подавали кофе. И хотя Пётр Андреевич кофе, как известно, терпеть не мог, сейчас он вкушал противный его русскому вкусу напиток с видимым удовольствием. Подносил чашечку к губам, прихлёбывал малую толику и проглатывал не спеша, как если бы то была амброзия.
Переговорив с дамами должное время, Пётр Андреевич с поклоном поднимался из-за кофейного столика, брал хозяина под руку и молча, но совершенно очевидно готовясь к разговору чрезвычайно важному, прогуливался по комнате. Пройдясь так под руку с хозяином раз пять, удалялись они в кабинет для беседы.
Можно было думать, что засидятся они за разговором дол го, но Пётр Андреевич на беседу тратил самое малое время, выходил решительно из кабинета и, улыбаясь, следовал прямо к карете.
Румянцев заметил, что каждый раз, когда они отъезжали от очередного чиновничьего дома, Пётр Андреевич запускал руку под камзол, где хранил кожаный мешочек с золотом, ощупывал его и крякал:
– Угу...
* * *
Об экскурсиях графа Петра Андреевича Алексей не знал ничего, но уже через день-два почувствовал, как на него пахнуло холодком. Прислуга, более чем почтительная и угодливая, стала выказывать знаки неуважения. Старик камердинер – холёный австрияк с висячими бакенбардами, – всегда гнувшийся низко, неожиданно обрёл несвойственную ему крепость в спине. Будто гвоздь ему между сухих лопаток забили, и он прострелил его до самых чресл, и хоть ты кричи, а спина не гнулась. Иные слуги, поплоше, стали тарелки на стол подавать руками неловкими. Но тарелки мелки, может, и впрямь скользят меж пальцев и падают где ни попало, но, казалось бы, куда уж как не иголка поднос серебряный в полпуда весом, однако и тот из рук выскальзывал и всё норовил на колени Ефросиньи свалиться. На третий же день – ужинали не на галерее открытой, а где подали, в зале душной, – Ефросинье в подол кувшин с вином опрокинулся. Ефросинья вскочила, а платье на ней красным залито, как кровью. Страшно Алексею стало.
Кейль птицу какую-то ел и чуть костью не подавился. Ефросинья вскрикнула дико и убежала. Алексей, как прирос к стулу, подняться не мог. Ноги ослабли. Кейль, с костью кое-как справившись, встал. Лицо растерянное. С минуту молча смотрел на наследника, а затем, заикаясь и досадливо морщась, сказал:
– Ваше высочество, должен сообщить вам, – здесь он передохнул, – я имею повеление выдворить из замка Сант-Эльм вашу даму. – Кейль проглотил слюну и – смелый, видать, был дворянин-то, высокой, рыцарской крови, – пряча глаза, продолжил: – Цесарь Германской империи взял под свою руку вас, ваше высочество, как наследника российского престола. На прочих лиц покровительство его распространяться не может.
– Что? – крикнул Алексей. – Что ты сказал?
Наследник подбежал к Кейлю и вцепился руками в пышное кружево жабо:
– Лжёшь, лжёшь, негодяй...
– Ваше высочество, ваше высочество, – забормотал Кейль, – ваше высочество...
Алексей тряс секретаря, как крестьянин осеннюю грушу. Лицо Кейля моталось из стороны в сторону бледным пятном.
Наследник отпустил секретаря и бросился бегом через залу. Кейль поспешил за ним:
– Ваше высочество... Постойте! Куда же вы?
Алексей распахнул дверь залы, выскочил на лестницу. Крикнул:
– Мне не надобно покровительство цесаря, я еду в Рим! Побежал по ступенькам вниз. Под гулкими сводами замка отдалось эхом: в Рим... в Рим... в Рим... Дробью простучали каблуки. И вдруг царевич словно о стену ударился. Сверху крикнула Ефросинья:
– Алексей! Алёшенька, а меня-то ты забыл? Как же я-то? Она стояла на верхней ступеньке, с подсвечником в руках.
Свет свечей колебался, но всё же ясно освещал и лицо и фигуру.
Алексей повернулся. Взглянул на неё. И вновь увидел на платье багровое пятно, будто ножом пырнули в сердце его ненаглядную Ефросинью и кровь молодая, сильная, яркая ключом брызнула. Алексей взялся руками за голову и сел на ступени лестницы.
* * *
На питербурхской верфи спускали восьмидесятипушечный корабль. Светлейший – хмельной с утра – ходил по специально сбитому помосту и покрикивал. Весёлый был и злой. Когда поворачивался, букли парика разлетались в стороны бешено, только что искры не сыпались.
Восьмидесятипушечный красавец стоял на стапеле как игрушка литая. Мачты – стрелы тонкие, казалось, вонзались в свод голубой – так непривычно высоки были. Борта, мягкой дугой сбегавшие книзу, лоснились от смолы, словно лакированные.
– А-а-а? – шумел Меншиков, наступая на голландского инженера, топтавшегося здесь же на помосте. – Хорош? Скажи, хорош?
Тот пыхтел трубкой, отмалчивался.
Меншиков горячился. Не зря в Москву-то мотался. Пригнали купчишки и лес, и металл, и кожи. Лапти не забыли. Сейчас вся верфь щеголяла в новой обувке. Мужики были довольны и крутились как черти. Знали: обувка обувкой, а светлейший на радостях и бочку водки выкатит.
– Лес-то какой, – горячился Меншиков, – мачты свечи! Звенят...
И уже ногу через перила помоста забрасывал – лезть на корабль, хвастаться:
– Медь звонкая, а не сосна!
– Сосна хороша, – возражал инженер, – спору нет. Но вовремя надо было лес подвезти. Строительство задержали.
Меншиков голосом бабьим затянул:
– Куда уж нам до Голландии вашей, мы лаптем щи хлебаем, портками карасей ловим...
Лукавил. Очень уж доволен был, что корабль красавец получился.
Мужики подтащили сало в ушате – полозья мазать, по которым судно на воду сходит. Меншиков полез смотреть: так ли, как надо, мажут. Не мог на месте стоять. Толкнул плечом какого-то верзилу с молотом. Тот оглянулся, сказал:
– Данилыч, ты бы в сторону отошёл, ненароком зашибу, – и пошевелил молотом. Детина – кузнец тот самый, что уколол светлейшего больно, сказав: заворовались-де купцы с металлом.
Меншиков качнулся к нему, как к родному:
– Не подведи! Враз, враз клинья вышибайте. Не дай бог косо пойдёт! Махину-то какую спускаем! Царя бы сюда сейчас. Вот радость для него была бы...
И, ответа не выслушав, мотнулся дальше:
– Живей, ребята! Живей!
Рожок заиграл сигнал к спуску. Все побежали от стапеля в стороны. Меншиков на помост вскарабкался. Поднял над головой бутыль с вином. Бутыль на полведра. Мысль мелькнула: «Как бы не прошибить обшивку. Перестарались, черти».
Бутыль бухнула о борт, как ядро. Осколки сверкнули на солнце. И тут же как один ударили четыре молота по клиньям на стапеле. Судно дрогнуло и поползло вниз. Все замерли. Качнулись мачты, и тревожно, сухо щёлкнуло в утробе корабля.
Меншиков даже руку поднять ко лбу побоялся, только подумал: «Шпангоуты на обрезе стапеля не выдержат. Переломит судно».
Мачты перечеркнули горизонт большим чёрным крестом.
Меншиков вцепился пальцами в перильца и, клонясь всё больше и больше вперёд, тянулся за кораблём, будто был связан с его громадой одной верёвкой. И, не схвати за полу камзола светлейшего голландский инженер, лететь бы князю вниз головой с помоста.
Судно, разбегаясь всё шибче, ударилось носом о воду и, утонув по фальшборт, закрылось высоко поднятым фонтаном брызг.
Берег выдохнул одной грудью:
– А-а-ах-х!
Но корабль уже качался на волне.
– Ура! – грянуло по всей верфи. – У-ра-а-а!
Через минуту двое молодцов выкатили к стапелю бочку с водкой. Мужики загалдели. Меншиков сам из бочки дно вышиб, зачерпнул кружку до краёв. Крикнул:
– Виват, ребята! Виват!
Мужики потянулись к бочке кто с чем: с плошками, с котелками, а кто и так, с ладонями, лодочкой сложенными. У хорошего человека и водка добрая, сквозь пальцы не убежит.
Знакомый кузнец мигнул Меншикову из-за спин:
– А? Данилыч, как сошёл-то кораблик, словно блин со сковородки соскочил!
Заулыбался во весь рот. К Меншикову протолкался сквозь толпу денщик. Светлейший глянул на него, спросил удивлённо:
– Что так спешно из Москвы-то сбежал? Посидел бы уж...
У денщика лицо заморённое, скакал, видно, поспешая. Он наклонился к уху князя и шепнул что-то тайно. Улыбка с лица у светлейшего сошла. Он отстранил денщика, сказал:
– Постой.
Пошёл по берегу. Под ногами хрустели свежие щепки, солнце било в лицо яростно, ослепительно блестело море.
– Хорошо-то как, – сказал Меншиков, – хорошо! – И во второй уже раз пожалел: – Петра Алексеевича нет... – Хлопнул приятеля, инженера голландского, по плечу: – Давай ещё по кружке!
По кружке выпили, но было очевидно, что веселья у Меншикова уже не получится. Светлейший послушал ещё недолго громче и громче звучавшие голоса и, кивнув денщику, пошёл к карете.
А вокруг шумели, смеялись, шутили мужики. Глядишь, у того армячишко на плечах от соли горькой сопрел, у другого портки верёвкой подхвачены, у третьего и вовсе армяка нет, а так, рубашонка на груди, да и та рвань, но на лицах у всех одно – радость.
– Работу-то смотри какую своротили!
– И то всё мы! Молодцы мы всё же, братцы. Молодцы!
И уже не водка пьянила, развязывала языки, светом ярким зажигала глаза, а труд тот большой, свершённый всеми вместе.
Когда карета светлейшего поднялась на высокий взгорок, князь ещё раз взглянул на стоящее на воде судно. Корабль был и вправду хорош: строен, крутобок, лёгок.
«Лебедь, – подумал Меншиков, – как есть лебедь. А ещё паруса наденут... Точно, птица волшебная».
Карету тряхнуло на ухабе. Меншиков отвернулся от окна, сказал денщику:
– Говори.
Денщик, понизив голос, передал слова Черемного. Меншиков выслушал, не перебивая, и, только когда денщик смолк, спросил:
– А где крючок-то, подьячий?
– Сказывал, что след важный нашёл и, уж до конца его пройдя, объявится и всё сам расскажет.
Меншиков побарабанил пальцами по коленке, протянул задумчиво:
– Много наворотил крючок, много... Фёдор Черемной...
Светлейший посмотрел на денщика глазами голубыми, холодными, сказал:
– О речах подьячего никому ни полслова. Царь в Варшаве уже. В Питербурхе будет днями. Ему и обскажешь.
Понимал светлейший: всё круче и круче заворачивается дело с наследником.
* * *
Граф Шенборн любил шахматы. Эта старая индийская игра доставляла ему истинное наслаждение.
– Шахматы, – говорил граф, – пир для ума.
Шенборн никогда не торопился, разыгрывая партию. Граф внимательно изучал позицию противника и, заглядывая на много ходов вперёд, оценивал сильные и слабые стороны шахматного воинства партнёра. Мысленно Шенборн пунктиром простреливал доску, жившие только в его сознании линии взламывали оборону противника, и уже в начале партии он видел, как привести короля партнёра к последнему пределу.
Шахматная доска для графа не была зелёным полем, по которому перемещалась артиллерия, скакали полки драгун, чёткими каре стояла пехота. Он не видел клубов белого порохового дыма, вырывавшегося из стволов пушек, и не слышал голосов горнов, зовущих армии в атаку. Нет! Шахматная партия была для графа пересечением абстрактных геометрических фигур, мгновенным столкновением быстрых, как огненная вспышка, импульсов мысли, взрывом идей. Беззвучный, бестелесный вихрь за тонкой височной костью. Без лязга сабель, звона шпаг, грохота мушкетов. Можно поднести руку ко лбу и ощутить только мягкий ток крови в слабой жилке. И всё.
Граф, как правило, играл лёгкими фигурами. Его пешечный строй теснил противоборствующие ряды, оборачивал их вспять, разрывал узлы обороны, открывая путь к победе. И только когда партнёр был на грани поражения, граф вводил в бой тяжёлые фигуры. Они наносили последний, завершающий, неотразимый удар.
В жизни граф поступал так же, как за шахматной доской.
Партию с наследником русского престола он мысленно проиграл всю до конца. Правда, надо учесть, что всё началось слишком неожиданно и первые ходы были случайны, но вины Шенборна в том не было. Наследник свалился на него как снег на голову. Дальше Шенборн повёл партию по нужному руслу.
В дебюте графу противостоял русский посол в Вене Веселовский. Шенборн с первого же хода прочёл всё, что сможет ему предложить на шестидесяти четырёх полях скушный резидент. Позже возник новый человек – офицер Румянцев. Шенборн не видел его, но действия Румянцева показали, что то энергичный, стремящийся без компромиссов к победе противник. Он доставил графу хлопот, но тоже не представлял опасности. Затем вступил в игру граф Толстой.
Шенборн знал, что такого медведя царь Пётр не спустит с цепи без обстоятельств чрезвычайных, но всё же встретил Петра Андреевича не без улыбки.
Вице-канцлер вспомнил о той улыбке и нервно поднялся с кресла. Прошёлся по кабинету. Граф умел смотреть правде в глаза и сказал себе: «Улыбка была преждевременной и самонадеянной». Толстой всё смешал на доске. Чётко намеченные линии прервались, и многоходовые комбинации потеряли смысл, так как не вели уже к задуманному окончанию. Партия, успешно развивавшаяся, потеряла логическую стройность, и на доске Шенборн, к стыду своему, увидел только развалины так старательно выстроенной им позиции.
Вице-канцлер остановился у полотна Фрюауфа Старшего – гордости своего собрания. Краски полотна вносили в душу человека покой и тихую радость. Трудно сказать, каким волшебством мастер пятнадцатого века достигал такого эффекта. Но всегда, когда море бушевавших вокруг страстей начинало захлёстывать Шенборна, вице-канцлер приходил к старому мастеру и обретал душевное равновесие.
Но сейчас и Фрюауф Старший не приносил желаемого успокоения. Шенборн понимал: русский медведь вырывает добычу у него из рук. Игру, где ставка ни больше ни меньше чем наследник российского престола, он – вице-канцлер Германской империи – проигрывает. А проигрывать ему не хотелось. Ох не хотелось... Шенборн подумал: «Партия окончена только тогда, когда король положен на доску. Я своего короля ещё не положил».
* * *
К Питербурху поезд Петра добрался на рассвете. Шёл затяжной, октябрьский, холодный дождь. Но Пётр велел остановить возок и вылез на дорогу. Огромный, в чёрном, коробом стоящем голландском кожаном плаще, царь ступил в грязь, поскользнулся, выругался сквозь зубы и шагнул к опущенному шлагбауму. Встал, вцепившись руками в черно-белый брус.
Солдат у шлагбаума узнал Петра и вытянулся столбом. С залива порывами налетал резкий, со снежной крупой, злой ветер. Сёк, мял лужи, гнул к земле хилый осинник, поднимавшийся редколесьем за придорожной канавой. Лицо у солдата было синим от холода. Но Пётр головы к нему не повернул, а как остановился у шлагбаума, так и стоял, вглядываясь в пелену ненастья, закрывшую город.
За дождём трудно было что-то увидеть, но царь всё же разглядел за серой колышущейся сеткой купол Троицкого собора, угадал сооружение Адмиралтейства и Петропавловской крепости. Больше года не видел он Санкт-Питербурха, и вот вновь город был перед ним.
Дождь бил по лицу царя, барабанил по жёсткой коже плаща, но Пётр всё стоял и смотрел.
Пашка Ягужинский тревожно выглянул из возка, крикнул:
– Пётр Алексеевич, чего под дождём-то мокнуть?
Но Пётр не ответил ему. О чём думал он, стоя на заставе санкт-питербурхской? Что виделось ему? Лицо у Петра было хмурое. Глаза, не щурясь от ветра, смотрели невесело. Но спина была прямой, ровной, словно стоял он на смотру, перед войском.
Ещё в разгар войны с Карлом, во время спуска корабля «Шлиссельбург» с Адмиралтейской верфи, царь сказал собравшимся:
«Есть ли кто из вас такой, кому бы за двадцать лет перед сим пришло в мысль, что он будет со мной на Балтийском море побеждать неприятелей на кораблях, построенных нашими руками, и что мы переселимся жить в сии места, приобретённые нашими трудами и храбростью? Думали ли вы в такое время увидеть таких победоносных солдат и матросов, рождённых от российской крови, и град сей, населённый россиянами и многим числом чужестранных мастеровых, торговых и учёных людей, приехавших добровольно для сожития с нами? Чаяли ли вы, что мы увидим себя в толиком от всех владетелей почитании?
Писатели поставили обиталища наук в Греции, но, судьбиною времён бывши из оной изгнаны, скрылись в Италии и потом рассеялись по Европе до самой Польши, но в отечество наше проникнуть воспрепятствованы нерадением наших предков, и мы остались в прежней тьме, в какой были до них и все немецкие и польские народы. Но великим прилежанием искусных правителей их отворялись им очи, и со временем соделались они сами учителями тех самых наук и художеств, какими в древности хвалилась одна Греция. Теперь пришла и наша череда, ежели только вы захотите искренне и беспрекословно вспомоществовать намерениям моим, соединяя с послушанием труд, памятуя присно латинское присловие: „Молитесь и трудитесь”».
Пётр припомнил те слова, встретившись после долгой разлуки со своим детищем. Подумал, что и сейчас повторил бы их вновь. Великий труд надо было вложить ещё в сей град, чтобы воплотить в жизнь задуманное.
Ягужинский крикнул в другой раз:
– Пётр Алексеевич, едем, что ли? Или как?
Пётр повернулся к нему, ответил:
– Постой.
И тут увидел бледного от холода солдата. Тот стоял по-прежнему как вкопанный.
– Ну, здравствуй, – сказал, шагнув к нему, Пётр. – Рожу-то вытри. Мокрая. Давай поцелуемся.
И сгрёб растерявшегося солдата в охапку, прижался губами. Отстранившись, крикнул Ягужинскому с просветлевшим вдруг лицом:
– Чем орать попусту, водки, водки налей служивому! Застыл на ветру. Совсем застыл.
Пашка нырнул за кожаный верх возка и тут же высунулся с кружкой. Чего-чего, а водка у Ягужинского всегда была под рукой.
Пётр влез в возок, сказал:
– Трогай!
Поезд потянулся через шлагбаум. За царёвым возком катило ещё с десяток. И из каждого выглядывали лица – довольные, смеющиеся, радостные. Как же иначе: домой приехали! Солдат, ещё обалдевший и от неожиданной царской ласки, и от выпитой водки, улыбаясь, подумал: «Весёлые едут, смотри ты, весёлые».
А Пётр был не весел.
В ту ночь останавливались отдохнуть после трудной дороги на чухонской мызе. Петру постелили на лавке у печи. Здесь было теплее, а царь, хотя и пил лечебные воды в Спаа, чувствовал себя всё ещё неважно.
Пётр уснул, как только лёг на лавку. Но спал недолго. Проснулся среди ночи и глаз больше не сомкнул. Казалось бы, и блохи не жрали, и под тулупом угрелся хорошо, а сна не было.
В комнате пахло свежевымытыми полами – мыза была на удивление чистой, – от печи тянуло теплом, негромко, с осторожностью посапывал носом денщик на рогожке у дверей. Во сне чмокал губами, будто титьку сосал. «Совсем малец», – подумал Пётр и неожиданно вспомнил, как впервые увидел сына своего Алексея.
Царевича показали ему на третий день после рождения. Мамка, боярыня старая, но всё ещё крепкая, ладная, вынесла его к Петру и с поклоном передала с рук на руки. Пётр принял сына, и мягкий, тёплый комочек привалился к груди, лёг молча, вроде бы и не дыша. Боярыня откинула с его личика простынку, и Пётр увидел лицо сына. Царь хотел было наклониться и поцеловать младенца, но боярыня недовольно заворчала и отняла у него царевича. Пётр был так растерян, что отдал сына беспрекословно.
Сейчас, лёжа у печи на чухонской незнакомой мызе, ему мучительно захотелось припомнить увиденное много лет назад лицо Алексея. Но как он ни напрягал память, припомнить не смог. Он видел другое: бледное, испуганное, злое лицо царевича, уже длинноногого, длиннорукого, нескладного мальчика, которого он однажды хотел поругать за малое старание, проявляемое к учению. Но только два слова сказал, увидел искоса брошенный недобрый взгляд и замолчал. Алексей опустил голову, ссутулил узкие плечи и словно стеной отгородился от отца. Пётр взял его за слабую спинку и поставил между колен. Голосом добрым заговорил о пользе учения для человека, которому богом назначено царствовать над людьми. Но царевич выставил колючие локти и только сопел носом. И слова путного выжать из него не смог отец.
Царь отпустил Алексея. Бывший тут же учитель царевича Никита Вяземский начал было: «Образуется...» И смолк.
Царь оборотил к нему налившееся кровью лицо и крикнул: «Ты, ты ответчик за него! Ленив он – ты ленив, слаб в грамматике и арифметике – ты слаб, не обучен манерам изысканным – ты пень стоеросовый!»
Вяземский упал на колени.
«Запомни, – сказал Пётр, – за всё ответ тебе держать».
Пётр повернулся на лавке, и под телом тяжёлым лавка заскрипела. Денщик, как подброшенный, вскочил с рогожи.
– Огонь вздуй, – сказал Пётр.
Топая ботфортами, денщик прошёл торопливо к оконцу, затянутому бычьим пузырём, повозился там с минуту и зажёг свечу. Поднёс к лавке.
Пётр потянулся к свече с трубкой. Прикурил и лёг вновь на лавку, попыхивая дымком. Денщик постоял рядом, ожидая, чего ещё пожелает царь, и отошёл. Поставил свечу на стол. Сел. На стену легла тень от его головы: курносый нос, всклокоченные волосы, косо торчащий ворот мундира.
– Вань, – позвал царь, – скажи-ка, у твоего отца деревенек много?
Денщик вскочил, шагнул к лавке:
– Три деревеньки. Под Тверью две и одна под Калугой. От брата перешла.
– А мужиков сколько?
– Триста душ, – ещё не понимая, к чему клонит царь, ответил без запинки денщик.
– Чем мужики промышляют?
– Тверские льном заняты, рожь тоже сеют, пчёлки по дворам есть. Калужские – там другое: овечек больше разводят, скот молочный. Покосы у них хороши. Сена много. Они сено-то в Москву возят и через торговлю ту прибытки имеют хорошие. Овсы взращивают.
– Так, – протянул Пётр, – а у тебя соображения насчёт хозяйства какие?
Денщик заторопился:
– Да я отцу много раз говаривал, рожь тверским забросить надо. Землю только по-пустому занимают. Им на лён бы налечь. Льны у нас – шёлк истинный. Цены нет. В Москве полотняные заводы с руками те льны рвут.
И так загорелся, рассказывая, что прямо к лицу царёву подступил:
– Озолотились бы льнами только. А калужским больше надо на овсы налегать. Здесь батюшка прав. И для армии в Москву возим, да и так купцы берут хорошо. А овчина тамошняя всегда в цене была. Вот только бы надо торговлишку свою в Москве иметь. Не через чужие руки торговать.
Царь прервал его:
– Лет тебе, Ваня, сколько?
– Двадцать, – оторопело ответил денщик: о хозяйстве разговорился, а царь перебил.
Пётр затянулся глубоко, пыхнул в потолок клубом, сказал:
– Молодец ты у батюшки своего. – Прибавил: – Письмо будешь ему писать, от меня привет передай.
И замолчал надолго. Думал: «Вот бы Алексей так государственное дело разумел и так о нём пёкся. Кручины бы я не знал».
Сказал:
– Поднимай всех. Хватит дрыхнуть. – И ноги с лавки сбросил...
Поезд царский миновал шлагбаум, и Ягужинский спросил Петра, приткнувшегося в углу кареты:
– Пётр Алексеевич, сейчас куда же?
– На Васильевский, – ответил Пётр, – к Меншикову.
* * *
Слово, один раз сказанное, крепко, а трижды повтори его, и силу оно теряет. Пётр Андреевич помнил то и к царевичу идти не спешил после памятного разговора с криком. Но знал он о здешней жизни царевича почитай всё. О том, чтобы каждый шаг Алексея графу Толстому был известен, беспокоился офицер Румянцев и глаз с царевича не спускал. В каминные трубы дворца Сант-Эльм он не лазил – хотя при нужде мог бы Румянцев и сей подвиг совершить, – но, подружившись с офицерами охраны замка, часто и помногу попивал с ними славное итальянское киянти.
Хорошее вино киянти! Глубокого цвета, замечательного аромата, тонкого, изысканного вкуса. Говорят, правда, что вся прелесть киянти от пяток итальянского крестьянина происходит. Утверждение то – на первый взгляд глупое – имеет немало резонов. Дело в том, что виноград, который идёт на приготовление столь известного вина, выращивают трудолюбивые, как пчёлы, крестьяне на солнечных склонах прекрасных гор. Затем топчут виноград босыми, каменными – из-за отсутствия обуви – пятками и сливают искристый сок в большие глиняные кувшины. Чуть позже, дав соку выбродить и отстояться, везут его в города. Крестьяне наивны и продают вино за цену столь малую, что вырученные деньги не позволяют им и в следующий год облечь пятки в пристойную обувь, и вновь, и вновь – вот уже сколько веков – топчут крестьяне виноград голыми пятками, а люди, живущие в городах и босыми ходить не собирающиеся, пьют то вино с большим желанием и восхваляют его на весь мир.
У киянти немало исключительных качеств. Во-первых, оно хорошо утоляет жажду. Во-вторых, вызывает огромный аппетит. В-третьих... Но так можно перечислять до бесконечности. Назовём же ещё только одно из чудесных качеств киянти: вино то пьётся в количествах совершенно невероятных, если оплачивается из чужого кармана. Подметив сие выдающееся свойство итальянского вина, Румянцев смог проникать даже в самые дальние уголки замка Сант-Эльм. Больше того, киянти настолько обострило его слух, что и на значительном расстоянии слышал он тишайшие шёпоты в стенах замка.
Узнав от Румянцева о конфузе, случившемся в Сайт-Эльме во время ужина, когда царевич чуть не сбежал к Папе Римскому, забыв свою Ефросиньюшку, Пётр Андреевич решил, что время для следующего визита к наследнику российского престола подошло. Часы пробили три четверти часа, и остались до визитования лишь считанные минуты. Но и то оставшееся время граф решил заполнить некими действиями, с тем чтобы ещё более подтолкнуть наследника на желаемый путь.
И вновь, не щадя себя, он объехал гостеприимных господ неаполитанских чиновников, страстно желавших остаться с графом с глазу на глаз хотя бы и на одну минуту. Правды ради следует отметить, что беседы с глазу на глаз не есть исключительная привязанность чиновников только неаполитанских, чиновники и других народов не менее способны к таким высокомудрым беседам. Любовь та к разговорам значительным зародилась у чиновников ещё со времён Ноя и Хама и животрепещет, неутолённая, по сей день. Постоянство, поистине удивление вызывающее.
Через день-два в замке Сант-Эльм и дичь, и рыба, и мясо, из коих готовились блюда к столу царевича, претерпели урон заметный не только в количестве, но и в качестве, так что, набрав ложку супа, Ефросиньюшка настороженно принюхалась и ложку на стол положила. Рассеянно хлебавший наследник взглянул на любушку свою, пожевал губами и тоже почувствовал вдруг, что суп приванивает. Аппетит у царевича враз пропал.
В тот же вечер камины в комнатах царевича задымили, будто трубы кто заткнул наглухо. И уж что только не делали: и кошку проволочную в трубы опускали, и гирей пудовой дымоходы чистили, – дымят камины, хоть тресни. В дыме и наследник и дама к утру угорели. Ефросинья вышла из спальни с прозеленью в лице. А царевич и вовсе едва голову смог поднять. Но головная боль, хотя мозги трещат и височные кости наружу выпирают, всё же пустяк. Выйдешь лишний раз на галерею широкую, открытую на Неаполитанский залив, и, рот разинув пошире, подышишь благодатным воздушном – боль и пройдёт. А может, правда, и задумаешься, жабры распустив, как рыба: хорош-то он хорош воздух над Неаполитанским заливом, а в Рязани, гляди ты, может, и лучше. А уж наверное, каминов там проклятых понастроили куда как меньше...