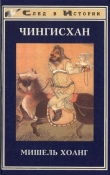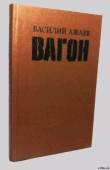Текст книги "Ждите, я приду. Да не прощен будет"
Автор книги: Юрий Федоров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 37 страниц)
Да не прощён будет

Царь был болен. Болезнь та давняя то отпускала его, то вспыхивала с новой силой, и Пётр страдал тяжко. Неослабная мука рвала низ живота, гнула, ломала тело.
Нынешний приступ был особенно остр. У Петра отекло лицо. Чёрные круги легли под глазами. Ночами царь стонал глухо, сквозь зубы. Маялся, метался.
Денщик через дверь слышал стоны, но не смел войти в спальню, боялся Петрова гнева. Крестился щепотью:
– Помоги ему, боже, помоги...
По крыше дробно бил дождь. Толкался в стену ветер. За окном что-то шуршало, царапалось в стекло, поскрипывало... Неспокойно было. Ох, неспокойно.
Денщик ворочался на неудобной лавке, засыпал лишь под утро. Но и спал-то вполуха, готовый в любую минуту сорваться на царёв зов. А ночи стояли тёмные, длинные, осенние. Не приведи господи занемочь в такую пору.
Если бы царь был в любезном ему Питербурхе, он бы давно велел заложить возок и ускакал на Солонецкие минеральные воды или на воды Угодских заводов Меллеров, Петром же самим и открытые. Дорога, скорее всего, была бы тяжела. Рытвины и ухабы измучили бы царя вконец, но Пётр верил в лечебную силу тех вод, и они бы ему, наверное, помогли.
Но Питербурх был далеко. За многие сотни вёрст. Третий месяц Пётр жил в Амстердаме.
Доктор Теодор Шварц, присланный русскому царю штатгальтером голландским, неотступно находился при Петре все дни болезни. Но помочь он, видимо, мог немногим, хотя и привёз чудные сосуды с яркими, разноцветными жидкостями, многочисленные ступки и пестики, реторты, колбы, кожаные мешочки с травой толчёной, скорлупками ореха, камушками да ракушками морскими. Две кареты посылали за Теодором Шварцем, и обе они вернулись, осевшие до земли, набитые доверху диковинами.
Доктор был величествен в движениях. Взгляд имел задумчивый. Можно было думать, что Теодор Шварц постоянно общается с силами, недоступными другим. И сейчас, выйдя из царёвых покоев, он многозначительно поднял глаза, постоял неподвижно под настороженным взглядом светлейшего князя Меншикова, неспешно кивнул головой и, отойдя в сторону, сел на мягкий пуфик, изобразив всем лицом озабоченность крайнюю. На лаковых изящных туфельках доктора посверкивали золотые пряжки.
«Странный этот русский князь, – подумал Теодор Шварц о Меншикове, – я сделал всё, что может сделать честный лекарь, а ему нужно чудо».
Светлейший поднялся порывисто, шагнул к дверям Петровой спальни. Каблуки его громыхнули по навощённому паркету неприлично громко.
У доктора брови поползли вверх.
Царь лежал на широкой кровати. Балдахин из тяжёлой, тканной серебром парчи Пётр велел снять, и кровать с низкими спинками казалась голой. «Как место лобное», – подумал Меншиков, испытав неприятное чувство, и, рассыпав букли чёрного алонжевого парика по одеялу, покрывавшему царя, склонился к его руке.
Рука царя была горяча и суха.
Пётр повернул голову на смятой подушке. Глаза его в глубоко запавших глазницах были темны. Волосы, потные, свалившиеся, липли ко лбу. Лицо было серым.
– Мейн херц, – шепнул Меншиков и повторил: – Мейн херц...
Горло у него перехватило спазмой. Царь отвернулся. Упёр взгляд в потолок.
Стоя на коленях, Меншиков склонялся ниже и ниже и всей щекой прижался к руке Петра.
«Пожалел, – скривил спёкшиеся губы царь, – пожалел».
Грудь Петра поднялась, но он подавил вздох.
Взгляд его скользнул по тёмным потолочным балкам.
«Какой высокий потолок, – подумал Пётр, – и здесь так холодно и неуютно».
Перед глазами встали низкие покои Преображенского дворца, сводчатые арки входов, узкие коридоры и коридорчики, ступеньки многочисленных переходов. Дохнуло жаром печей.
Пётр разомкнул губы:
– Готова ли баня?
– Да, да, ваше величество, – подняв голову, торопливо ответил Меншиков.
Вчера поутру царь пожелал попариться в русской бане. Здесь, в Амстердаме, мылись в корытах, неудобных, узких, как гробы.
Баню срубили. Меншиков сам выбрал лес и, обрывая драгоценные брюссельские кружева на манжетах, сам же в лапу связал первый ряд кряжей, показывая амстердамским плотникам, как класть сруб. Махал топором, только щепки летели в стороны. Плотники стояли вокруг, смотрели молча. Меншиков всадил топор в кряж, сказал:
– Вот так и давайте!
Пошёл к дому, но на крыльце оглянулся.
Плотники взялись за работу. Весь день слышно было, как тюкали топоры: хрясь, хрясь...
Мужики амстердамские оказались понятливыми.
К вечеру баню затопили. Сырой лес сочился смолой, но всё же то была баня, а не голландское корыто. Князь самолично плеснул на раскалённую каменку ковш квасу, и ударило таким паром, что у светлейшего перехватило дух.
Теодор Шварц на затею русских посмотрел косо. Вздохнул. Но Меншикову было не до доктора в узком общелканном сюртуке, с унылым носом на белобрысом лице.
Когда Петра, закутанного в шубу, собрались нести в баню, доктор молитвенно сложил руки, зашептал:
– Мейн гот, мейн гот...
Но Меншиков только шикнул на него, сверкнув глазами. Доктор счёл единственно правильным отступить за портьеру. Петра подняли, понесли.
В дверях случилась заминка. Тяжёл был всё же царь. Петра чуть не уронили. Меншиков пустил сквозь зубы крепкие слова. В словесности той был он великий мастак и выдавал такие рулады, что некоторые субтильные дамы, ахнув и закатив глаза, с ног валились. А так, в делах житейских, слова те, от сердца, людей только взбадривали.
Царя подхватили и лихо, бегом, вынесли во двор.
Меншиков распахнул дверь сруба. Полок в бане, как распорядился светлейший, уже выстлали соломой и облили кипятком. Царя положили на горячее. Меншиков скинул франтовской бархатный камзол и, поддав жару, взялся за веник.
Пётр лежал на полке без движения – худой, костлявый. Угнул лобастую голову в стену. Тело его было жёлто.
Меншиков сильно потянул носом, но угара не почувствовал. От каменки шёл ровный жар. Светлейший поднял веник к потолку, набрал пару в листву, ещё плеснул ковшик квасу на каменку и, приметив, что веник обмяк, потяжелел в руке, ударил резко царя по плечам. Пётр вздрогнул слабо. Шевельнулся на полке. Меншиков ударил второй раз, третий. И пошёл, пошёл хлестать по спине, по пояснице, по ногам.
Парил он хлёстко, с полной руки, как парили банные мужики в Москве в торговых банях на Балчуге, что могли так-то в парной человека из полного изумления и после крепкого застолья вывести.
Светлейший отбросил исхлёстанный веник, взял другой, свежий. И всё поддавал, поддавал квасу на каменку, хотя волосы на голове уже трещали от жара. Остановился, вытер рукавом пылающее лицо, склонился к Петру, крикнул:
– Ну что, мейн херц, костью жар чувствуешь?
– Дюжее, дюжее дери, – прохрипел в пару Пётр.
– Нет, батюшка, – ответил Меншиков, – хватит пока. На вот, испей лучше, – и подал царю ковш водки, настоянной на вологодских травах.
Пётр выпил залпом. Глянул с полка. Глаза его светились живым. Меншиков засмеялся:
– Пётр Алексеевич, а то покрепче, чем лечение Шварца... А? Тебе бы ещё бабу. Знаешь, есть такие рязанские – на четверых разделить и каждому хватит. Хворь-то от застоя крови, а она бы тебя так тряхнула, какой уж застой!
Пётр покосился на князя хмуро, но Меншиков уже распахнул из тяжёлых горбылей сколоченную дверь, крикнул:
– Шубу!
Подбежали, шлёпая по грязи, двое. Приняли Петра на руки. Понесли.
Светлейший вышел из бани как был, в мокрой рубашке. Только камзол накинул на плечи. Прошагал, не взглянув, мимо хлопающего глазами Теодора Шварца.
Ночь прошла тревожно: ждали – что ещё из парной той выйдет? Но наутро царь хотя и бледный, слабый, но всё же поднялся с постели. Неуверенно загнув руки за спину, помял поясницу, сморщился, встал.
Вошёл денщик.
– Кафтан подай, – сказал царь.
Надев кафтан, Пётр походил по комнате, ступая нетвёрдо, вышел во двор. Постоял.
С крыши капало. Капель звонка, словно весной, но небо низкое, тесное, зимнее.
Царь огляделся. Островерхие черепичные крыши уходили вдаль. Над ними ветер с моря нёс рваные тучи. Ветер солон, и у Петра – хоть и слаб был – ноздри затрепетали: «Хорошо на ветру. Сейчас бы на простор, на море и чтобы волна била в борт и брызги летели выше головы».
Не много-то и надо человеку для радости: ветерок с моря.
Пётр повернулся уже нетерпеливо и тогда только увидел накануне срубленную баньку. Прищурился. Искусанные во время болезни губы дёрнулись, но улыбки не получилось. Сказал отрывисто:
– Разобрать. Лес продать. Кряжи добрые.
На личные траты царь был скуп.
Тут же забыв о бане, Пётр заспешил. Рванул дверь. Цветные, вставные стёклышки, украшавшие её, зазвенели тонко.
– Перо, чернила, – бросил царь через плечо.
Денщик кинулся одурело выполнять приказ: промедлений Пётр не терпел.
Через покои царь шагал широко, и шаги гремели так, что и не скажешь – накануне-то был в хвори и немощи. Сел к столу. Прокуренными, жёлтыми пальцами схватил поднесённое перо. Выставил на свет, посмотрел прищуренным глазом, о кафтан счистил волосок. Обмакнул перо в чернильницу, склонился над листом бумаги.
За дни болезни неотписанных дел накопилось множество.
Вошёл Меншиков, сияя улыбкой на пухлых губах. Пётр взглянул на него строго, и светлейший – царедворец опытный и лукавый – посерьёзнел лицом, шаркнул ногой, склонился низко.
Пётр писал сосредоточенно. Волосы у него на голове стояли колтуном.
Русский царь по сердечному согласию союзников был назначен командующим флотом России, Англии, Голландии, Дании. Союз тот давал в руки Петра оружие, которым он мог сломить силу Швеции на Балтике. Пётр задумал дерзкий десант в Шонию – прибрежную провинцию Швеции. Но дело с десантом подвигалось медленно.
Подумав о том, Пётр дёрнул носом, прорвал бумагу. Скомкал лист, взял другой. Сопнул в нос:
– Десант, десант...
Пётр сам обследовал место высадки. Промерил дно. Шведы обстреляли царский вельбот. Два ядра упали совсем рядом. Английский офицер, стоящий рядом с Петром у борта, нырнул за планшир. Пётр взглянул на него снисходительно. Офицер вскочил, вытянулся, лицо вспыхнуло краской.
Царь сказал, по-доброму морща губы: «Ничего, ничего, привыкать надо». Офицер смутился ещё больше.
Во время той разведки царь и застудил поясницу...
Перо брызгало чернилами, скрипело. Меншиков почтительно стоял у стола. Пётр положил руки на зелёное сукно. Меншиков видел, как пальцы Петровы медленно сжались в тугие кулаки. Ногти побелели. Князь опустил глаза, склонил голову, не смея разогнуться. Светлейший понял, о чём спросит царь. И не ошибся. Царь сказал, свистя осипшим горлом:
– Есть ли сведения от генерала Вейде?
Замолчал. Задышал громко. Меншиков медлил с ответом. Переждать надо было вспышку царёва гнева. На виске светлейшего забилась жилка. Малая жилка, но стучала больно, до крика. В тишине слышно было, как потрескивают поленья в камине.
Светлейший поднёс руку к виску. Ответил чуть слышно:
– Нет, ваше величество. Известий не получено.
Взглянул на Петра. Царь смотрел ему в лицо круглыми глазами, и Меншиков подумал: Пётр не видит его.
Царь тряхнул головой, словно освобождаясь от пут, и голосом обычным сказал:
– Доктору Теодору Шварцу деньги заплатить, а самого со двора вон. Бездельник!
Меншиков повернулся живо. Пётр остановил его:
– Но по политесу, по политесу...
Знал, что светлейший может и пинками проводить.
Выдав доктору деньги, Меншиков всё же не удержался, сказал:
– Рожей ещё не вышел русского человека лечить.
И показал кукиш. Но Теодор Шварц русского языка не ведал, а кукиш принял за особый жест благодарности.
Доктор склонился в глубоком поклоне.
* * *
Письмо из Амстердама в Росток к генералу Вейде, возглавлявшему русский корпус в Мекленбургии, пришло в начале зимы. Генералу и без того жилось беспокойно в той приморской, недавно занятой русскими войсками земле.
Шведские корабли чуть ли не ежедневно атаковывали позиции русских на побережье, и генерал не сходил с коня, мотаясь от городка к городку. Дороги были разбиты, лишая командующего быстрого манёвра войсками. Пушки вязли в разъезженных колеях, и унтер-офицеры более полагались на палку, чем на силу лошадей. Солдаты роптали. Оно и понятно: вытягивая жилы, тащишься весь день по пузо в грязи, а придёшь к месту – над головой и крыши нет. Заропщешь. В полках говорили в один голос:
– Были походы, но оный не в пример другим.
– Да, хреновина получается…
Крутили башками.
Особенно досаждали дожди и промозглые, гнилые туманы с Балтики. Небо над той землёй, поросшей редким колючим кустарником, казалось, никогда не знало солнца.
Сам Вейде чувствовал себя прескверно. В тот день, когда пришло письмо, генерал прискакал из Варнемюнде – дрянной деревушки на побережье – и, едва войдя в дом, бросился к жарко пылавшему камину. Зелёный измятый мундир командующего дымился паром. Вейде сбросил ботфорты и протянул ноги в заскорузлых от пота шерстяных чулках к огню. Откинулся на спинку тяжёлого, сколоченного из тёмной сосны крестьянского кресла.
Пламя бушевало в камине. Толстенный ствол берёзы был охвачен огнём. Береста коробилась, опадала, и огонь жадно въедался в чистое тело дерева. Камин гудел, обдавая генерала жаром. После стылой дороги, когда конь, беспрестанно поскальзываясь, казалось, вот-вот упадёт, переломав ноги, после дождя, секущего лицо, камин тот был блаженством неземным.
Денщик суетился у стола. Позвякивал оловянными тарелками. Генерал вспомнил, что не ел с утра. Выругался:
– Вонючая дыра...
Зло плюнул в огонь.
Дверь стукнула, и в комнату вошёл офицер. Поднял руку к треуголке, щёлкнул шпорами.
Генерал повернулся недовольно. Вгляделся в пришедшего. Видно было, что офицер проделал немалый путь. Ботфорты и плащ были захлёстаны грязью, а из-под треуголки смотрели на генерала красные, воспалённые глаза человека, много часов скакавшего навстречу ветру.
Вейде скорее всего послал бы того непрошеного гостя к чёрту – так устал за день, но в воинском деле генерал знал толк и с первого взгляда определил, что офицер проскакал добрых три сотни вёрст, не слезая с седла, а три сотни вёрст ради удовольствия не скачут.
– Слушаю, – сказал генерал.
Из-за отворота плаща офицер вытащил большой серый конверт и протянул его Вейде. Генерал, не вставая с кресла, взял письмо. Сощурился на печати и подтянул ноги. На алом сургуче он узнал царский вензель.
В пляшущем свете камина командующий прочёл: «26 сентября сего 1716 года из Москвы в Копенгаген выехал наследник, царевич Алексей...»
В письме сообщалось, что два месяца сведений о высокой персоне не имеется. Офицерам корпуса указывалось отыскать след путешествующей особы и следовать за ней тайно.
«Тайно!»
Вейде дважды перечитал письмо. Сжал челюсти. На скулах проступили тугие желваки. Старый рубленый шрам от виска к щеке – память об Азове – налился кровью. Письмо обескуражило и испугало командующего.
Генерал вытянулся в кресле, глядя в огонь.
Вейде был не из робких. Участвовал во взятии крепостей, считавшихся неприступными, и не хоронился за спины чужие, но в раздоры царской семьи не входил никогда и трезвым немецким умом полагал: не приведи господь иметь такую честь. На крепостной стене пуля, может, и пролетит мимо, шрапнель пощадит, а во дворцовых интригах среди пышных париков, парчовых камзолов, золотом шитых робронов красавиц голову сложишь всенепременно. Случаев к тому было множество. У русского царя был Преображенский приказ с застенками глубокими, железом обитыми, от упоминания о которых мороз драл по коже, были и заплечных дел мастера, что с пятого удара кнутом перешибали человеку хребет.
«Тайно!»
Когда отдаётся такой приказ относительно лиц царствующего дома, то крепко подумать надо. Лица царствующие слежки за собой не любят, а тех, кто ведёт её, помнят долго.
«Нет, – подумал генерал, – калач сей сух и губы обдерёт. Эх, лучше бы не получать такого письма, – пожалел он, – но вот оно, в руках. Хрустит ломкая бумага, и сургуч сыплется на зелёные полы мундира».
Соображая, как лучше поступить, Вейде вертел письмо в руках. Многотрудный опыт подсказывал: дело с царским наследником неладно. На мгновение командующий увидел тёмное лицо Петра с глазами пронзительными, глядящими сквозь человека; бледный лик царского наследника с жидкими волосёнками, спадающими с угловатого, вдавленного в плечи затылка. Подумал: «Знать бы, чем обернётся участие в том розыске завтра и через годы».
Офицер у дверей стоял молча. С плаща, с ботфорт на кирпичный, затоптанный пол налилась лужа. Но не брякнула на нём ни одна пряжка, не скрипнул ни один ремешок. Понимал он: дума у генерала нелёгкая.
Подскочил денщик. Рожа рябая, глаза быстрые. Генерал отдал конверт, снял плохо гнущимися пальцами с цепи на толстом животе ключ и проследил внимательно, как денщик уложил письмо в походный железный ящик. Вновь тщательно прицепил ключ к цепи и, кряхтя, стал натягивать ботфорты. Морщился. Ботфорты ссохлись у огня и на ноги не лезли.
Ствол берёзы в камине развалился россыпью жарких золотых углей. Комната осветилась багрово.
Генерал поднялся с кресла. Он был двумя головами выше и денщика, и царёва посланца. У офицера из Амстердама даже лицо вытянулось. Но Вейде и без того знал, какое впечатление производит его могучая фигура.
– Мне приказано, – отрапортовал офицер, – участвовать в вашем предприятии.
– Как звать? – спросил генерал.
– Капитан Александр Румянцев, – ответил офицер бойко.
Мимо дома спешно маршировал отряд солдат. Из-под ног летела грязь. Солдатских лиц было не разглядеть за дождём, только медные кики посвечивали над головами. Офицер на коне возвышался над строем тёмной горой. Ветер заваливал лошадиный хвост на сторону. Офицер разевал рот, кричал, но голоса не было слышно.
«Дорога до Москвы трудна, – думал генерал, – но навряд ли царевича забили воры дубинами в литовских лесах или польских пущах. Царевич не глуп, один не поедет, да и за золото царское коней ему дают не морёных. А бродяга что ж? Бродяга зимой в лесу голоден, и конь у него хром».
Генерал отвернулся от окна:
– Путь из Москвы в Копенгаген непременно лежит через Митаву, а потом уж через Мекленбургию и далее. Немало харчевен, почтовых станций и постоялых дворов по пути, но начинать, я думаю, всё же надо с Митавы. Город сей стоит на большой дороге, и народ там торговый, воровской и дерзкий.
Генерал замолчал, глянул на денщика. Тот без слов, приседая от усердия, вылетел в дверь пулей. В окно видно было, как пробежал он через дорогу, прикрываясь от дождя драной рогожей.
– Людей, – сказал Вейде офицеру, – я дам для розыска надёжных. И таких, что молчать умеют.
И опять за окном пробежал денщик. Загремели по камню шаги. В комнату вошли два крепколицых усача. Встали истуканами у входа.
Генерал кашлянул глухо и, как крепкие дубовые колоды, непреклонно сжал губы...
Через самое малое время из Ростока вышел на рысях небольшой конный отряд. Видно было, что люди поспешают.
Из оконца одного из последних домишек деревушки глянуло на всадников измождённое старушечье лицо. Что, мол, там за шум и кто шумит? Не сбавляя шага, отряд проскакал мимо. Старуха поднесла руку ко лбу, перекрестилась. Время было такое, что, если военные люди не задерживались у твоего двора, – благодари бога.
У домишка старушечьего две обломанных ветлы да груда плиточника серого в грязи. Ещё вчера стояли столбы, поддерживая ворота, но прошёл военный обоз и столбы своротили.
– А ведь старый Ганс строил лет пятьдесят назад, – плакала старуха. – Короли дерутся, а людям-то как жить?
Старуха окно завесила тряпочкой, отгородилась от беспокойного мира.
На разъезде, где дорога разбегалась на три стороны, всадники остановились. Ехавший первым капитан Румянцев осадил лошадь. Норовистый, мышастой масти жеребец поднялся было на дыбы, сиганул в сторону. Но офицер засмеялся, стегнул жеребца между ушей, прижал сильно поводья. Жеребец присмирел. Отвернувшись от ветра, капитан сказал несколько слов.
Отряд распался. Трое поскакали на юг, по узкой дороге, уходящей вдаль среди дуплистых старых вётел, другие направили коней на запад, к темневшему невдалеке взгорку, а Александр Румянцев повернул жеребца на восток. Туда, где за чужими границами лежала русская земля. Жеребец пошёл боком, заплясал по грязи, забил копытом.
– И-эх! – дико, по-степному, гикнул Румянцев. Вытянул жеребца плетью, толкнул вперёд. Тот пошёл, широко выбрасывая ноги...
Через полчаса следы коней на дороге нахлестало дождевой водой, они размылись, расплылись, растеклись грязными струйками. А всадников уже давно и видно не было за завесой серой измороси.
Петровские указы промедления в действии не терпели, и дело совершалось скоро.
* * *
В те же дни получил письмо из Амстердама русский резидент в Вене Авраам Павлович Веселовский. Царский гонец проскакал пол-Европы и торопился так, что сломал карету, запалил двух лошадей, но поспел в указанное время.
В столицу Германской империи гонец прибыл ранним утром, едва открыли крепостные ворота. Карета, грохоча, прокатила по узким, путаным улочкам и стала возле тёмного, спящего дома. Фасад его венчался пышной каменной кладкой по последнему штилю барокко. В оконцах не было ни огонька.
«Спят, – подумал гонец, – а мы разбудим, а мы поднимем, а мы плясать заставим».
Выпрыгнул на мостовую. Весело, несмотря на дальнюю дорогу, под усами его сверкнула подковка белоснежных молодых зубов.
На властный, требовательный стук гонца в дверь ответили испуганным шёпотом. Зашикали: рано-де, и хорошие люди приходят, когда хозяева их ждут. Но офицер ударил в резную, медными гвоздями обитую дверь кованой шпорой.
В тишине узкой улицы лязгнул засов, и дверь отворилась. Гонца впустили в дом.
В тёмном вестибюле толпилась многочисленная дворня. Авраам Веселовский представлял российского царя при чопорном, кичливом дворе германского цесаря широко и богато.
Гонец потребовал хозяина.
– Что ты, батюшка, – зашамкал старый слуга, – почивать изволят.
Бородёнка у слуги тряслась, слезливые глаза помаргивали. За плечами у него стали два крепеньких молодца. Такие возьмут незваного гостя под руки и вмиг вышибут вон. Но гонец так глянул, что старик, охая, засеменил в тёмные покои.
Молодцы отступили.
Внесли свечи. Свет их вывел из темноты высокие зеркала у стен, пышные золочёные диваны, какие-то диковинные растения с яркими цветами, спускающимися до полу. Но гонец глазами по сторонам не шарил. Лицо его было строго. Втянул только носом сладкий запах, стоящий в зале, но подивился ли ему или нет – видно не было.
Пламя свечей подхватило сквозняком, взметнуло вверх.
Вышел Веселовский – мятый, сонный, с брюзгливо сложенными губами. На службе своей беспокойной привык он ко всячине, не удивлялся и тому, чем бы иной и поражён был. Откашлялся хрипло. Встал у свечей. На голове представителя российского царя полосатый ночной колпак, на плечах широкий красный халат, подбитый мехом. Всё говорило – спал человек, и спал сладко, а раз так – душа у него покойна и злых мыслей за ним нет.
Веселовский кивнул холопам, стоящим у стены. Те вышли. Веселовский сложил пухлые руки на животе. Но не так прост он был, каким хотел казаться, и глазом настороженным царапнул, как сова из дупла, по неподвижной фигуре гонца. Смекнул: лицо каменное, такого за неурочный визит не облаешь. Знал царских удальцов. Такой и бога обворует, ежели прикажут.
Веселовский взял письмо молча. Приблизил к огню, пробежал бегло. Царь вызывал его в Амстердам.
– Карета, – сказал гонец, – у дома.
Голос его громкий отдался эхом под высоким потолком.
Авраам Павлович как ни искушён был, а обомлел от такой прыти. Сунул руку в карман халата, достал табакерку, запустил злую понюшку в нос для прочистки мозгов. Прочихался, утёрся пёстрым платком, переспросил с недоумением:
– Как, сейчас же?
На запалённом лице гонца не дрогнул и мускул. Веселовский понял: ехать надо, и ехать немедля.
Бочком-бочком резидент ушёл в темноту. И сразу по дому загуляли голоса, раздалось женское всхлипывание, зашаркали шаги.
По-европейски жил в Вене российского царя дипломат и столики, креслица, пуфики на гнутых ножках расставил не по-русски, а сборы всё же остались как в Твери или в Вятке. Если ехать случалось, хотя и недалеко, за три версты, к соседу, весь дом всполошат, всех на ноги поднимут. И крику будет, шуму, суеты, неразберихи – словно и свету конец.
К гонцу, шаркая по каменным плитам, вышел давешний старый слуга с подносом. На подносе мясо холодное на блюде, дичь какая-то в перьях в затейливой плошке, чарка, водка в зелёном гранёном штофе.
Без церемоний, так что ветхого слугу даже качнуло в сторону, ночной гость ботфортой подвинул золочёный невесомый стульчик и, не снимая плаща тяжёлого, а только закинув за плечо длинный шерстяной офицерский шарф, сел к столу. Не выбирая, взял кусок мяса, впился в него жадно. Кости захрустели на зубах. Видно было, не засиживался он на пути в придорожных харчевнях и наголодался люто.
Вышел Веселовский в шубе дорожной, в шапке меховой. Лицо кислое. Нелегко ему было подниматься из пуховиков и перин жарких и трястись в чёрт-те какой карете по неведомым дорогам.
«А попробуй не поднимись! – подумал. – И куда торопит, толкает в спину, кнутом гонит царь, в немецкий кафтан обряженный?.. Лучше молчать о том».
Резидент взглянул на гонца, сидящего за столом: «Видишь, какие у него хваты под рукой. С такими не забалуешь».
Ночной гость встал. Вытер рукавом мундира измазанный жиром рот. Веселовский прищурил глаз на поднос. Блюда были как подметённые. Штоф пуст.
– Кхе-кхе, – кашлянул резидент.
Гонец, не оглядываясь, пошёл из дома первым. Звенел шпорами. У кареты остановился всё же и почтительно распахнул дверцу перед дипломатом царским. Веселовский с сомнением сунулся в ненадёжный возок. В карете пахло кожей и дёгтем.
– Трогай! – крикнул гонец кучеру, словно каркнул, и захлопнул дверцу. Сел тяжело, как чугунный. Притиснул дипломата. Карета покатила по неровному булыжнику.
Дворня на широких ступеньках подъезда стояла, низко склонив головы. Веселовский с досады отвернулся. Не захотел смотреть: «Чуть ли не среди ночи из дома выбили. Обидно».
Кони свернули за угол. За оконцем махоньким слюдяным встала громада собора Святого Стефана – слава Вены. Сооружение старое, тёмное от времени, величественное. Невольно голову склонишь и перед богом и перед людьми, поднявшими сей прекрасный храм.
Собор миновали, и колёса громче застучали по мостовой, распугивая редких в ранний час прохожих.
Вена просыпалась поздно. К чему торопиться в богом спасаемой Германской империи? Пусть поляки торопятся, русские. А здесь всё устоялось, всё освящено обычаями ещё римскими.
Веселовский, запахнув поплотнее шубу, устроился удобнее, готовясь к дальней дороге. Воровства за собой он не знал и ехал к царю без боязни. Умом своим, наторевшим на дипломатических ристалищах, искал причины столь срочного вызова в делах межгосударственных. Хитрая лиса был дипломат царский в Вене. Знал много.
Гонец перекатил в его сторону глаза. Но Веселовскому было не до него. Из куньего тёмного воротника – широкого, богатого, такого, что иной бы из него шубу сшил, – лишь нос торчал.
Карету потряхивало.
Ведомо было Веселовскому, что задуманный Петром десант на берега Швеции из-за проволочек и попустительства союзников не удался. Знал он и о происках парижского двора, готового помочь Карлу XII и золотом и оружием в его борьбе с царём российским. Веселовский догадывался о помыслах Петра найти примирение с Карлом. Россия вышла на Балтику прочно, стала у берегов твёрдо, и самое время пришло мир учинить, закрепив монаршими подписями и печатями литыми завоёванное кровью русского мужика. Ни к чему было войной зорить, опустошать северные сии земли. И так попалили много, мужиков по лесам разогнали. Деревни стояли безлюдные, избы заколочены. Ветер на крышах ворошил сопревшую солому.
«Кто хлеб-то сеять будет? – в нос хмыкнул. – Кто новую столицу Питербурх провиантом обеспечит? Привезти можно, конечно, издалека – и хлеб, и мясо. Но сколько телег обломается, сколько мужиков погибнет в дороге? А земли – вот они. Под самой столицей новой. Мир нужен. Мужик обстроится и поля запашет».
– Грехи наши, – кряхтел Веселовский.
Как лодка на неспокойной воде, ныряла карета по рытвинам и водомоинам. Того и гляди вывалит на обочину. Мотало Веселовского. Хватался он обеими руками за попутчика своего, сидевшего столбом, ударялся шибко о стену кареты. И всё думал: «Так что же ждёт в Амстердаме, у царя?» Прикидывал и так и этак, но до причины истинной не додумался. Слишком неожиданной оказалась весть.
Резидент поглядывал в оконце хмуро.
* * *
По другой дороге и в иную сторону катила карета, из окна которой выглядывало не лицо, затуманенное мыслями невесёлыми, а женская хорошенькая головка с карими живыми глазками, с румянцем на щеках, с нежными локонами, выбивающимися из-под мягкого, дорогого платка. Любопытство было в тех глазках, и хотели охватить они и лес вдоль дороги, и поля, и дальние деревушки с уже нерусскими, высокими, черепицей крытыми кирхами. Даже сорока вертлявая, крутившаяся над дорогой, занимала весёлую путешественницу. Кричит птица, стрекочет, хочется ей ухватить оброненный кем-то кусок не то хлеба серого крестьянского, не то мяса, в грязи вывалянного. Вороны отгоняют её. Хлопочет сорока, залетает с разных сторон. И обманула-таки, украла кусок, бросилась в придорожные кусты.
Засмеялась красавица в карете, обернулась к спутнику, молча приткнувшемуся в тёмном углу.
За первой каретой поспешала вторая. Там трое удальцов тряпочку чистую расстелили на откидном, мудрёном стульчике. Тут и вино, и табак, и кости игральные. Весело. Так и самый дальний путь пролетит незаметно. А поезд на наезженной дороге, видно было, не близко собрался. Сундуки тяжёлые и в задках карет, и на крышах громоздятся тесно, высоко. Рессоры примнуло. И сундуки большие, сработанные хорошими мастерами из дерева доброго. В таких сундуках тряпки пустяковые не возят.
Похохатывают молодцы. Кости катают. Лица довольные. Кони бегут резво.
Красавица в первой карете не отстаёт от своего спутника, тормошит его. Тот вяло улыбается засмякшими губами:
– Ах, оставь, Ефросиньюшка. Оставь, не до того.
Лицо у него бледное, осунувшееся, глаза задумчивые. Взглядывает он в оконце с опаской. А опасаться ему надо. Он-то и есть причина Петрова волнения и беспокойства. Из-за него скачут по всей Европе гонцы, ночами глухими поднимают с постелей дипломатов важных, тревожат генералов. За ним, за ним и только за ним гонят коней вскачь по дорогам офицеры гвардейские. Храпят кони, роняют жёлтую пену и несут всадников без остановки. Ибо то законный наследник русского царя, повелевающего землёй неоглядной, раскинувшейся от холодных северных морей до самой туретчины, уходящей за Урал-реку, туда, куда и люди-то не ходили. Экая громада с народом бесчисленным, никем не сосчитанным! И он, путешественник тот, утомлённый дорогой, – царевич Алексей – должен унаследовать и царский скипетр, и шапку Мономаха, и власть над землёй той и народом её. Он управлять должен необозримым царством и вести за собой людей его. А наследник-то и исчез. Как сквозь землю провалился. Забеспокоишься в таком разе, пошлёшь гонцов.