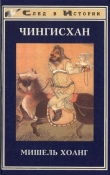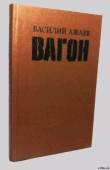Текст книги "Ждите, я приду. Да не прощен будет"
Автор книги: Юрий Федоров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 37 страниц)
В юрте, поставленной нукерами под высокими соснами, было тесно и шумно от собравшихся людей. Ярко горел огонь очага, раздавались возбуждённые, весёлые голоса. Кто-то неловко задел поленья в очаге, взметнулся столб искр, но это только подхлестнуло голоса и общее возбуждение.
Ближе других сидел к огню Есугей-багатур. Жаркое пламя освещало его лицо, высвечивало медь волос. Есугей отличался широким разворотом плеч, и, хотя он сидел, приметить можно было, что это человек высокого роста, в нём нет ни капли лишнего жира и сплетен он из тугих, крепких мышц. То, что его называли багатуром, было не похвалой, но подтверждением действительности.
Он и впрямь был багатуром.
– Ну, ну, – крикнул Есугей нетерпеливо и приоткрыл полог юрты, – баурчи[14]14
Баурчи – человек, ведающий столом.
[Закрыть], что же ты!..
– Сейчас, сейчас, – ответили ему, и баурчи, приседая от натуги, внёс в юрту большой медный до блеска начищенный котёл, полный мяса.
Баурчи встретили радостными восклицаниями. Он навесил котёл над огнём, оборотился, блестя глазами, к собравшимся в юрте:
– А теперь...
Хлопнул в пухлые ладоши.
Полог юрты широко распахнулся, и двое мальчиков на досках внесли живую печень. Алая, облитая кровью, она парила, трепетала, её только что вырезали из изюбра.
– Э-э-э! – раздалось враз несколько голосов. – Что же ты медлил!
Баурчи толкнули в жирный бок. Тот в ответ только засмеялся.
По кругу пошёл бурдюк с архи[15]15
Архи – водка, приготовленная из молока.
[Закрыть]. Зазвенели медные чаши.
Ах, звонкие чаши пиров! Сколько высоких слов вызвали они к жизни, породили легенд, невероятных рассказов, сколько принесли радости, но... и горя.
Лукавые, коварные, многоликие чаши пиров.
Печень резали ножами, ели жадно. Есугей внимательно следил, чтобы каждому достался достойный кусок. Он был здесь хозяином, как был хозяином и на охоте, на которую позвал не только брата Даритай-отчегина и близких родичей Сача-беки, Таргутай-Кирилтуха, Алтана, но и других нойонов племени.
Весь родовой цвет тайчиутов.
Есугей решил так: охота – великая радость для степняка, она горячит кровь и смягчает сердце, а когда люди, после гоньбы за зверем, сядут вкруг очага да отведают архи, то и самый жёсткий будет открыт его словам. А он хотел сегодня сказать нойонам о многом.
Печень щекотала губы.
Откусывая от ломтя с острия ножа, Есугей исподволь оглядывал собравшихся под войлоками юрты. У каждого из гостей были свои привычки и свой характер. Есугей и без этой встречи мог сказать, как поступит тот или иной в различных случаях. Для этого не нужно было терять время в гоньбе за зверем, но он всё же решил собрать их вместе, так как слишком важно было то, о чём он решил повести речь.
Брат Даритай-отчегин неожиданно громко захохотал, перекрывая бухающим, как барабан, «хо-хо-хо!» голоса в юрте. Что его рассмешило, в гуле разноголосицы Есугей не разобрал. Громкий смех не выражал достаточного почтения к старшему брату, но сегодня был кстати.
«Пускай шумят, – подумал Есугей, – пускай будет больше веселья. Когда человек весел, он добреет к словам другого».
И сдержал желание остановить брата, даже вида не подал, что недоволен. Засмеялся и сам шутке соседа.
Челюсти работали проворно.
В котле закипал шулюн[16]16
Шулюн – мясное блюдо с добавлением большого количества трав.
[Закрыть]. Под тяжёлой крышкой фыркало, урчало, всплёскивалось. Звуки эти после степного ветра и долгой скачки выбивали слюну под языком. Но баурчи не торопился открывать крышку. Он поправил огонь и, перехватив нетерпеливые взгляды, развёл руками: рано-де, рано. Баурчи знал непременное правило любого пиршества: мясо надо подать тогда, когда язык гостя вспухнет во рту в ожидании.
Сей миг не наступил.
Сидящие вкруг очага были заняты рассказами о своих подвигах на охоте. Каждому хотелось высказаться, как удачлива была его стрела, ретив конь, да и сам он был не промах, настигнув зверя. Без таких рассказов охотничий пир теряет прелесть. Но баурчи угадывал – Есугей-багатур собрал гостей не для того, чтобы вкусно накормить жирным мясом. У каждого приглашённого на охоту вдоволь было мяса и в своей юрте. А того, кто по утрам стучит мешалкой по стенкам холодного и пустого котла, сюда не звали.
Бурдюк с архи вновь пошёл по кругу. Чаши зазвенели звонче.
Блестели глаза, блестели облитые жиром губы, и лица были открыты, как бывают они открыты в такую минуту.
Есугей сделал глоток. Архи была хороша – терпкая, острая, но он не торопил опьянения, да, наверное, сейчас и не смог бы опьянеть. В глубине груди стыло холодное, отрезвляющее ожидание беды.
Десять дней назад один из табунщиков Есугея, по глубокому снегу прискакав с дальних пастбищ, сообщил о готовящемся нападении на их племя кочующих вдоль Онона мангутов.
За долгую скачку табунщик застыл на ветру, губы едва выговаривали слова. Но, хотя и с трудом, он повторил:
– Мангуты, мангуты...
Известно это стало случайно.
От табуна отбился малый косяк кобылиц. Десяток голов. Косяк по льду перешёл Онон и углубился в распадки. Табунщик поспешил следом. Долго плутал по распадкам, а когда отыскал кобылиц, из перелеска, что виднелся за логом, показались четверо всадников.
Табунщик затаился у сугроба. Вдавился в снег, уткнул лицо в рукава халата. Сердце стучало тревожно: боялся – увидят.
В степи встретить верхоконных чужаков было всегда опасно.
Всадники остановились рядом. Слышно было дыхание коней, звон удил, похрустывание снега под копытами. Один из всадников сказал:
– Гляди, косяк. Тайчиутские кони. Надо бы отогнать.
– Э-э-э, – ответил другой, – десяток кобылиц... Зачем пугать заранее тайчиутов? У этих собак мы тысячные косяки угоним, – шмыгнул носом, – подожди... Зачем брать щепоть, когда можно ухватить горсть!
Все засмеялись.
Третий сказал:
– Да и ждать-то недолго.
По крупу коня ударила плеть, кто-то из всадников гикнул, и, взяв с места намётом, четверо ушли за увалы.
Услышав этот рассказ, Есугей хотел было кинуться поднимать племя, но, подумав, остановился. Снег был столь глубок, что только безумный мог повести людей в набег.
«Нет, – посчитал он, – что-то здесь не так. Кто погонит коней, когда снег по брюхо? Нет, что-то не так...»
Табунщик сидел, повесив голову. Скакал ночь, устал.
Есугей дал ему подогретой архи. Табунщик выпил чашу, отёр рот рукавом. В глазах засветилось живое.
Есугей в другой раз расспросил его.
Табунщик повторил рассказ слово в слово.
Но Есугей только утвердился в мнении, что мангуты не должны, не могут сейчас напасть на его племя.
Он посидел молча, хмуря лоб, хлопнул ладонью по колену, сказал:
– Ладно. Молодец, что прискакал. Хвалю.
И поднялся от очага. Вместе с табунщиком Есугей вышел из юрты. Увидел, что мокрый от гоньбы конь табунщика оделся ледяной коростой. Хрипел у коновязи.
«Да он запалил коня, – подумал, – нет, сейчас ждать набега не след». Сказал как о решённом:
– О вести своей никому ни слова.
Табунщик с удивлением вскинул глаза.
Но Есугей повторил:
– Ни слова.
Сжал челюсти. На скулах вспухли злые желваки. Повернулся к нукерам, стоящим у юрты, крикнул:
– Дайте ему коня! А этого, – указал на стоящего у коновязи, – в табун. Да выводите, выводите как следует.
Нукеры подвели коня. Табунщик с недоумением и растерянностью на лице поднялся в седло.
– Езжай, – сказал Есугей жёстко, но, смягчаясь, добавил: – Будь спокоен.
Табунщик тронул коня, но всё поворачивался, поворачивался к Есугею, всем видом выражая недоумение.
Есугей проводил его взглядом и вернулся в юрту.
С этого дня ощущение опасности уже не покидало его. Что бы Есугей ни делал, в груди шевелилось недоброе. О мангутах, размыслив, он решил так: ежели и нападут, то не раньше чем сойдёт снег. Это успокоило, но душевной крепости он не обрёл. Знать, не мангуты беспокоили его. Но только о мангутах заговорил Есугей с нойонами, так как скрытые страхи и ощущение беды были неопределённы, а мангуты оставались действительностью. Заговорил, когда баурчи накормил гостей шулюном и бурдюки с архи опустели. Сам он едва притронулся к мясу, и его чаша с архи была полна до краёв.
Говорил он резко, и расслабившиеся от мяса и водки лица гостей отвердели, а «великий едок» Таргутай-Кирилтух, широко развалившийся после шулюна на подушках, поджал ноги и сел прямо.
В голосе Есугея не было раздражения, тем более страха, но были такие тревожные ноты, которые можно было принять и за раздражение, и за страх, и даже за упрёк в том, что вот сидят они, нойоны, едят мясо, пьют архи, а племени грозит опасность.
Сообщение о мангутах насторожило всех. Но Есугей оглядел лица и прочёл в них то, что и ожидал. Каждый из сидящих у очага разом пересчитал свои табуны, стада, отары и прикинул, как и куда отогнать их от Онона, чтобы сохранить при набеге мангутов. В юрте вроде бы даже произошло движение, как если бы все отпрянули друг от друга.
«Жадные, алчные псы, – едва сдерживаясь, подумал Есугей, – пальцы у каждого гнутся только к себе».
Есугей склонился над очагом. Совал ветки аргала в жар. Хотел успокоиться, но, швырнув в пламя последний сучок, отвернулся от огня и, всё же не выдержав, ударил в самое больное место, не пожалел гостей:
– Вы считаете своих кобылиц и овец! Думать же надо о единении сил! Убегающему всегда вонзают копьё в спину. Убегающий обречён. Так было и так будет. Надо выбрать хана, который станет над нойонами племени.
И поторопился с этими словами. Слишком жёстко натянул поводья. Слова резанули собравшихся, как плеть круп коня. Мечом хорошо владел Есугей, а слова его были неуклюжи и тяжелы. Он навалился на гостей, как медведь на охотника. Не учёл того, что даже правду – а она всегда горька – нельзя совать в рот соседу комом, который станет поперёк глотки. Жир с блюда и тот скатывают в шар и тогда только несут к губам того, кого хотят угостить.
Люди никогда не любили выслушивать упрёки. Их надо хвалить, и они будут слушать тебя. Слушать внимательно.
А тут уж, как сумеешь, переложи похвалы нужной тебе правдой, хотя бы и горькой.
Есугей такого не сумел.
Перемена в разговоре произошла так внезапно, как если бы сидели люди под солнцем на зелёной, благодатной лужайке, радовались редкой счастливой минуте и вдруг налетела бы туча, закрыла небо и, всё сметая на своём пути, ударил вихрь, сорвал расстеленную кошму, развалил поленья костра, покатил праздничные чаши.
Таргутай-Кирилтух поморгал тяжёлыми веками, завозился на кошме, упёрся ладонями в подушки и вдруг, качнувшись вперёд и приблизив потное лицо к Есугею, пролаял:
– Ты надоел со своими речами! Хан, хан... Мангуты... – Он выпятил губы. – Ни к чему пугать этими трусливыми собаками. Они всегда кружили около наших табунов, однако мои кони целы и по сей день. – Он раскинул руки и захохотал: – Ха-ха-ха...
Щёки широкого лица, свисавшие сумками, затряслись от смеха.
– Ты пугаешь, – сказал он, – а мне не страшно...
И ведь смеялся, но бледен был от гнева. Бледен и зол необыкновенно.
– Таргутай-Кирилтух, – остановил его Есугей, – язык – не бараний курдюк, который чем больше выказывает себя, тем большая ему цена. Я говорю даже не о мангутах. Они и впрямь слабы и, наверное, не осмелятся напасть на наше племя. А если нападут найманы? Сильное племя. Хори-туматы?
– Хори-туматы кочуют далеко. У Байкала. Они лесные люди, зачем им идти в степи?..
– Да, хори-туматы кочуют у Байкала, но разве мало в степи других племён, которые волками смотрят на нас?
– На волка есть лук и стрела.
– Но у нас нет руки, которая натянет тетиву.
– Ты так ослабел, – огрызнулся Таргутай-Кирилтух, – что не можешь натянуть тетиву? Я не жалуюсь. Моя рука справится с луком.
– Вы, наверное, забыли, – сказал Есугей с горечью, – как говорили старики: «Пусть враг тебе кажется мышью, но ты имей силу тигра».
Но его, казалось, никто не слышал.
Холодное жжение не проходило в груди у Есугея. Недоброе предчувствие томило его всё больше и больше.
«Что же это, – подумал он, – как переломить упрямство этого кабана?»
Он в упор взглянул в глаза Таргутай-Кирилтуха. Маленькие, глубоко утопленные в жирных складках, налитые яростью. Но не только ярость увидел Есугей в глазах нойона. Из узких щелей, из-под низко, котлом надвинутого лба выплёскивалось столько гордыни и упоения собственной силой, что у Есугея мелькнуло в сознании: «Нет, такого не сломить. Да и зачем я взял так круто?»
Есугей приподнялся на кошме, перегнулся через очаг и ткнул пальцем в Таргутай-Кирилтуха.
– Тебя, – сказал, – изберём в ханы! Тебя!
Таргутай-Кирилтух откинулся на подушки.
– Или любого другого из них. – Есугей широким размахом руки обвёл собравшихся в юрте. – Поймите, коню нужен всадник, чтобы держать поводья. В собачьей стае есть вожак – и в стае даже шелудивый пёс идёт на медведя. Стаю объезжает верхоконный, а одного пса палкой забьёт и слабая старуха. – Он вновь ткнул пальцем в Таргутай-Кирилтуха. – Ты не знаешь этого?
Но тот только просопел в ответ неразборчивое. Перспектива стать ханом выбила Таргутай-Кирилтуха из седла.
В разговор вступил Сача-беки. Подбородок его блестел от жира.
– К чему такие слова, – сказал он, – сейчас, после славной охоты? Выпьем ещё архи и забудем о мангутах.
Этот был из тех, о ком говорят: такого в реку брось, и он вынырнет с рыбой во рту.
Есугей не дал ему договорить. Вновь изменяя своему правилу быть осторожным и в делах, и в словах, он выкрикнул:
– Так всегда бывает у нас: одного жрёт гордыня, а у другого только и беспокойства что о своём брюхе!
Не выдержал. Ощущение беды поднялось, словно волна под горло. Ещё шаг – и захлебнёшься. Хотел убеждать, а сорвался на крик. Всё наболело в нём, чуть тронь, и испепеляющая боль вспыхнет в глазах. Племя тайчиутов стояло голым на леденящем степном ветру, и он кожей чувствовал хлещущие струи ветра. А эти – сидящие перед ним, – казалось, были одеты в бараньи шкуры, не продуваемые никакими ветрами.
В юрте заговорили все разом, даже не заговорили, а закричали, перебивая друг друга.
Баурчи, стоя у очага, вертел головой, опасливо оглядываясь. Он знавал и такие пиры, которые оканчивались резнёй. На охоте нельзя было перейти чужую тропу, помешать выстрелу из лука, и этого придерживались строго, а так вот, набив брюхо мясом и налив архи, случалось всякое.
Каждый в юрте, горячо споря, тараща глаза и размахивая руками, всё же знал: Есугей прав. Племя тайчиутов давно разобщено на рода, и нет среди людей уважения друг к другу. Когда-то, давно, над всеми тайчиутами стоял хан Хабул, дед Есугея, и племя тайчиутов было сильным. Никто в степи не смел покушаться на их табуны и стада. С тех пор миновали годы. Грозную силу сплочённого в кулак племени соседние племена уже забывали. Вон даже хилые мангуты скалили зубы, а коль собака рычит – то, знать, укусит. Но само понимание слабости племени только ожесточало взаимную неприязнь. И Таргутай-Кирилтух, и Сача-беки, и Алтай, и любой из нойонов винили в разобщённости и неприятии друг друга не себя, а соседа. Так было удобнее. А взаимная ожесточённость порождала страх, хотя и скрываемый, но живущий в каждом. Страх перед мангутами, найманами, другими степными племенами, которые по отдельности могли раздавить любого из тайчиутов.
Да, это было страшно.
Племена в степи вырезали до корня, не щадя ни мужчин, убиваемых в первую очередь, ни стариков, ни женщин, ни детей.
Жизни людские не ценились.
По кошме, крутясь, покатилась медная чаша. Со звоном ударилась о камни очага.
Архи растеклась большим пятном.
Сосед, сосед... Он всегда виноват хотя бы потому, что у него шапка лучше и уж точно – жена красивее. Трудно, ох трудно найти с ним мир. От зависти краснеют у людей глаза, и нездоровое чувство и ночью не даёт спать, и днём точит душу. Нет зверя злее зверя зависти.
– Ладно, – прервал голоса Есугей, – верёвка должна быть длинной, но речи короткими. Скажите одно: вы готовы выбрать хана племени или будете только болтать языками?
На вопрос Есугея никто не ответил. Пригнули головы. Замолчали. И только Таргутай-Кирилтух сопел и перхал горлом, как если бы подавился костью. И он первый бросил чашу об пол и поднялся на ноги.
Нойоны из юрты Есугея выскакивали, как разъярённые осы из дупла, в которое сунули пылающую головешку.
Таргутай-Кирилтух откинул полог, в сердцах плюнул, наступил на порог[17]17
Наступить на порог – значит смертельно оскорбить хозяина юрты.
[Закрыть] и кинулся к коновязи.
На коней садились и другие нойоны.
Коновязь опустела. Только что два десятка коней, радуясь лёгкому морозцу и щедро, охапками наваленному душистому сену, взбрыкивали у юрты. И вот – будто не было ни жаркой охоты, ни сладкого пира, ни людского многоголосья и смеха. Лишь истоптанный зло снег да разбросанные рыжие клоки сухой травы.
Есугей выскочил из юрты за гостями в раздернутом на груди халате, но остановился.
Его нукеры, хмурясь, отворачивали лица.
Не похож был их нойон в эту минуту на неторопливого, сдержанного, уверенного в себе Есугея, каким привыкли его видеть.
Нет, не похож.
Последним отъехал от юрты Сача-беки. Из-под косматой шапки глянули на Есугея насмешливо блеснувшие глаза. Губы Сача-беки растянулись в крике. Но слов Есугей не разобрал. В голове шумела кровь.
– М-м-м, – с клёкотом в горле завизжал Есугей и ударил кулаком что было силы по бревну коновязи. Не хватило слов выразить глубину отчаяния. Есугею нестерпимо захотелось вскинуть руки к голубому небу и крикнуть: «Ну почему нет тропы от человека к человеку и доколе это будет? Небо, Великое небо, смягчи страждущие сердца!»
Но он не поднял рук и не крикнул этих слов.
Ветер шевелил верхушки золотых сосен, тихо гудел в ветвях. Жёлтые хвоины ложились на белый снег. Есугей поднял глаза к вершинам сосен. И так стоял долго, словно хотел разобрать, что там, в этом ровном могучем гуле. Но услышал только одно: «У-у-у... у-у-у...у-у-у...»
Небо не хотело или не могло подсказать ничего.
Он повернулся и вошёл в юрту.
По юрте были разбросаны подушки, чаши, очаг едва дымился, котёл был опрокинут.
Брат, Даритай-отчегин, вскинул на Есугея глаза. В них был упрёк. Но он тут же опустил лицо.
Есугей подсел к очагу, стал собирать головешки на тлеющих углях. Складывал колодцем. Пламя затрепетало на слабой былинке, поднялось выше, охватывая обгорелое полено, набрало силу и смелее вскинулось кверху. Огонь разгорался. Цепкие языки въедались в древесину, пробивались меж поленьев, и уже дохнуло жаром от огня на Есугея, согрело руки.
«Так что же я, – подумал с горечью Есугей, – не смог, как этот огонь, согреть всех, кого пригласил в юрту? Зажечь, как языки пламени зажгли поленья?»
В другой раз взглянул на брата.
Тот молчал.
В степи говорили: «И под правду соломку стелют». Но ведь и так сказано было: «Без правды жить легко, но помирать трудно». Есугей положил ладонь на воспалённый лоб. Подумал: «Как это понять?» И прежняя тревога поднялась в груди.
– Я упрекал их в гордыне, – сказал он, – но, видно, и сам полон ею. Мне некого винить.
Наверное, это были самые точные слова, которые в гневе, раздражении и ярости были произнесены сегодня в юрте.
Есугей закусил до крови губу. Задумался. Присел на подвёрнутую под себя ногу, смотрел на огонь, но огня не видел.
4Злополучный день на том не кончился.
В войлоки юрты начал толкаться ветер. Порывы становились всё напористее, непрестаннее, а снег сёк по стенам с большей и большей силой.
Метель заходила над степью.
Тяжко быть застигнутым ветрами в степи и трудно слушать их голоса. Низкие, гнетущие звуки тревожат, выматывают душу, поднимая в ней, быть может, и давнее, и забытое, что, наверное, она и сама бережёт от себя, пряча в дальние тайники. Зверьё и то стремится уйти от метели. Волк забивается под коряжины. В нору укрывается лиса. И даже кабан, обложенный толстым салом, ныряет в водомоины.
Метель разыгрывалась круто.
Полог юрты откинулся, и в свете очага объявился нукер. Отёр лицо от снега красной, мокрой рукой, стряхнул влагу, сказал хрипло:
– Караван в степи. Метель настигла. Купец просит приютить.
Это было неожиданностью.
– Караван? – переспросил с удивлением Есугей. – Чей? Откуда?
– Издалека, – ответил нукер и потянулся к огню. Знать, замёрз. Совал руки в жар.
Есугей поднялся от очага, вышел из юрты.
Ветер подхватил полы халата, взвил до головы, бросил в лицо обжигающий снег. Ослеплённый метельным порывом, Есугей успел разглядеть: к юрте, под сосны, пробиваясь из долины сквозь снежные сполохи, подтягивалось с десяток верблюдов да с полсотни навьюченных лошадей.
Хвост каравана тонул в снежной замяти.
К Есугею, торопливо и низко кланяясь, подступил человек, до глаз закутанный в забитую снегом ткань. Напрягая голос, широко раскрывая рот, сказал, что он благословляет небо, которое вывело его к юрте нойона из взбесившейся степи. Ветер мял, рвал слова, отбрасывал в сторону. Губы купца дрожали.
– Там, – он поднял руку и указал вдаль, – пляшут злые духи. Они бы погубили караван и людей, если бы благословенный нойон не встретился на пути. Да будут счастливы и долги его дни.
Купец склонился в поклоне, словно сломался пополам.
По говору Есугей предположил – купец привёл караван из Китая. И не ошибся. Это был Елюй Си. Обладатель пайцзы императора Цзиньской империи.
Елюй Си склонился в поклоне ещё ниже. Он просил разрешения укрыть караван в сосняке близ юрт нойона. И всё вглядывался, вглядывался в лицо Есугея. Снег под ногами купца скрипел остро и зло, говоря знающему человеку, что мороз крепчает. При ветре, который разыгрывался всё сильнее, для каравана в степи это означало одно – смерть. Глаза купца молили.
– В снегах, – кричал он с отчаянием, – нет места живому! Если нойон разрешит – то спасёт и товары, и людей!
Обычай тайчиутов не позволял отказать в гостеприимстве путнику. Есугей помедлил мгновение, сказал:
– Пускай караван укроется в сосняке, а тебя, купец, прошу в юрту. У моего очага всегда есть место для гостя.
– О-о-о! – воскликнул купец и живо оборотился к людям у верблюдов. Что-то крикнул на своём языке. Тотчас двое сняли с передового верблюда тяжёлые сумы и подтащили к купцу. – Нет слов для благодарности! – прокричал купец, вновь переламываясь пополам. – Да благословит небо благороднейшего из нойонов!
Новый порыв ветра с ещё большей силой взвихрил снег, закрыв разом и верблюдов, и навьюченных коней, да и купца, в двух шагах стоящего от Есугея.
В юрте пожарче разожгли очаг, и баурчи захлопотал у котла.
Когда купец снял заснеженную ткань, то оказался небольшого роста немолодым человеком, подвижным и словоохотливым. Он быстро и ловко развязал сумы – руки так и летали – и щедро одарил хозяина и его брата.
Есугею с бесчисленными поклонами купец передал узду для коня, обложенную бронзовыми украшениями. Бронза матово сияла в свете очага, искусная насечка на матовом поле свидетельствовала – это работа большого мастера.
Даритай-отчегина купец одарил кинжалом с рукоятью из жёлтой кости и яшмы. Сказал:
– Этой рукояти много лет. – Провёл пальцем по гладкой, полированной поверхности камня. – Так умели резать яшму старые мастера.
Есугей и Даритай-отчегин приняли подарки молча.
Степной обычай не позволял выказывать радость, если даже подарки того стоили.
Купец наделил и баурчи множеством мешочков с рисом, необыкновенно тонкого помола пшеничной мукой, сушёными и засахаренными фруктами.
И всё говорил, говорил, говорил.
Есугей подумал: «Шибко испугался в метельной степи, посчитал – конец. А тут юрта и жаркий очаг. Радость велика – оттого несдерживаемые слова и щедрые подарки». Улыбнулся. Такое было понятно.
Ел купец жадно, дочиста обгрызая мелкими, крепкими зубами бараньи кости, и быстро опьянел, выпив архи. Он смеялся дробным, рассыпчатым смехом, воздевал руки, показывая, как у него от непривычной водки кругом идёт голова. И никто не заметил, как, в смехе и шутках, он протянул на мгновение руку к чаше Есугея и утопил в ней маленький золочёный шарик.
Золотая искра скользнула в чашу и погасла в архи.
Купца уложили спать тут же в юрте, укрыв толстой бараньей полостью.
Он сразу уснул.
Есугей, напротив, долго ворочался на жёстком войлоке.
Метель разыгралась вовсю, и юрта гудела, как барабан, под напорами ветра.
Есугей перебирал в памяти случившееся за день. Удивительно, но в ночных раздумьях он не вспомнил о купце. Перед ним всплывали и всплывали из темноты лица Таргутай-Кирилтуха, Сача-беки, смеющегося брата Даритай-отчегина. Вспоминались слова, вскинутые в ярости руки. Он отчётливо увидел гутул Таргутай-Кирилтуха, поставленный на порог юрты. Но и лица, и восстановленные в памяти слова не вызывали ни обиды, ни гнева. И даже томившее его последнее время ощущение беды ушло, не оставив следа. Жила только досада на то, что не сумел найти убедительные слова, которые заставили бы нойонов задуматься над несчастным положением племени. Он спрашивал себя: что его возмутило в минуту спора? Таргутай-Кирилтух своим упрямством? Неумные речи Сача-беки? И тут же вспомнилось, что ещё старики говорили: «Любишь мёд – не морщись, когда жалят пчёлы». Упрямство Таргутай-Кирилтуха и слова Сача-беки и были как раз пчелиными укусами. С ощущением досады он и уснул под свист метели. Последнее, что отметило сознание, прежде чем он окунулся в сон, были удары ветра в войлок юрты.
И первое, о чём подумал Есугей, проснувшись поутру, было: «Метель, метель. С вечера усиливалась метель».
Он прислушался.
Ветер стих.
Есугей вытянулся на кошме.
Очаг догорел, и игольчатой свежести холодок обвевал лицо. Но это было приятно – утренняя свежесть после сна бодрила. Есугей любил просыпаться рано поутру в тихой юрте и неторопливо размышлять о предстоящем долгом дне.
В юрте пахло пеплом прогоревшего очага, пресными запахами войлоков и остро и сильно ударяло в нос свежестью хвои и снега, нанесённых в открытое отверстие над очагом. Для Есугея это были, наверное, лучшие минуты дня.
Он отбросил баранью полость, поднялся. Шагнул к выходу из юрты, кулаком разбил ледок в кадушке с водой, плеснул в лицо полной пригоршней.
Вода, как и утренняя свежесть, вливавшаяся в юрту в отверстие над очагом, была напоена запахами хвои и снега.
«День, – отметил он, – начинается хорошо».
Есугей ощущал желание двигаться и действовать.
Когда он вышел из юрты, солнце ещё не всходило, но на востоке объявилась широкая алая полоса.
Такое можно увидеть только в заснеженной степи: краски подсвеченного солнцем неба зеркально, как в воде, отражаются в снежном безбрежии, и край земли, кажется, сгорает в нестерпимом для глаз пламени.
Шаманы говорили, что алые краски восхода – кровь добрых духов, проливаемая, чтобы отнять в ночи солнце у тьмы.
Может, так оно и есть, кто знает... Есугей считал себя воином, и ему в голову не приходило судить о силах Высокого неба, но, когда он видел пылающую зарю, ему хотелось вскочить на коня, вцепиться в гриву и скакать, скакать в огненную даль. В эти мгновения всё казалось возможным. Да, в начале дня многим кажется всё возможным. Сумерки вызывают сомнения.
Вспомнив в свете зари не получившийся накануне разговор, Есугей подумал, что ещё можно найти тропу к Таргутай-Кирилтуху, Сача-беки, Алтану и другим нойонам, с проклятиями ускакавшим от его юрты. Надо начать всё сначала. Вспомнил, как говорили старики: «Если вода не течёт за тобой – иди за ней». Он решил – начну разговор вновь. И заторопился, заспешил. Сказал нукерам:
– Сворачивайте юрты. Возвращаемся в курень[18]18
Курень – родовое поселение.
[Закрыть].
И вдруг подумал о вчерашнем купце. Многословном, маленьком человечке, щедром на слова и подарки. Оглянулся и не увидел ни верблюдов, ни вьючных коней каравана.
– А где купец? – спросил у старшего нукера.
– До рассвета, – ответил тот, – купец поднял караван и ушёл в степь. Теперь, наверное, далеко. Очень благодарил, но сказал, что дела не терпят, оттого и спешит.
Есугей удивлённо пожал плечами. Такая поспешность была странной.
«Но, – подумал, – у каждого свои заботы».
И опять забыл о купце.
Домой собираются споро. Юрты свернули в одночасье, навьючили коней и тронулись в путь.
– Э-ге-гей! – закричали нукеры, взмахивая плетьми.
Метель, как это бывает, выгладила степь, а утренний крепкий мороз уплотнил снег, и кони шли по целине без усилий, ровно и угонисто. Жеребец Есугея, тяжёлый, мохноногий, но сильный в ходу, нет-нет подавался грудью вперёд, косил на хозяина лиловым глазом, прося повод. Снег гремел под копытами, и жеребцу так и хотелось рвануться во всю прыть в степную даль. Есугей, однако, сдерживал его. Знал – дорога неближняя, силы пригодятся. Наклонился, похлопал жеребца по мощной шее.
Неожиданно жаркая ладонь закрыла Есугею глаза и неведомая тяжесть обрушилась на плечи. Он выпустил повод и, кренясь в седле, упал в снег.
Даритай-отчегин, скакавший рядом с братом, ничего не понял. Мгновение назад они были бок о бок, и вдруг Есугей, не вскрикнув, не вымолвив слова, оказался на снегу.
Даритай-отчегин вздёрнул поводья, останавливая и разворачивая коня. Увидел: Есугей странно замедленно поднимается, опираясь руками о снег. Руки его тонут в сугробе, и он валится на сторону.
Даритай-отчегин подскакал, скатился с седла. Удивлённо выкрикнул:
– Что с тобой?
Оглянулся, ища глазами человека, который мог пустить стрелу. В степи случалось всякое. Вокруг, однако, стелилась целина без единого увала или кустика, за которыми можно было укрыться.
Подскакали нукеры.
Даритай-отчегин обхватил Есугея за плечи.
– Что, что с тобой? – крикнул в лицо.
Есугей в ответ только тряс головой. Потом подхватил пригоршню снега, жадно проглотил, выговорил с трудом:
– В глазах муть... Кругом всё идёт.
Шагнул к жеребцу, схватился рукой за луку, но ногу в стремя вставить не смог. Нукеры подняли его и усадили в седло. Есугея качало, и было очевидно, что он снова упадёт.
– Да что с тобой? – ошарашенно повторил Даритай-отчегин, придерживая брата за колено.
– Жжёт, – ответил Есугей и раздёрнул на груди халат, – жжёт...
Он вдыхал морозный воздух открытым ртом, пар клубился у лица, но дыхания не хватало. Лицо начало синеть.
– В курень! – перхая горлом, выкрикнул он. – В курень!
Даритай-отчегин сорвал с пояса аркан, начал приторачивать Есугея к седлу. С коней слетели нукеры и накрепко, в три охлёста, окрутили Есугея арканом. Притянули к высокой луке. Даритай-отчегин обхватил его за плечи и тронул коней. Крикнул нукерам:
– Вперёд!
Так, придерживая брата за плечи, Даритай-отчегин поскакал к куреню. За дорогу он взмок от напряжения, халат дымился на спине, лицо пылало. Но об этом он не думал, в голове было одно: «Только бы не уронить Есугея». А тот, чувствовалось, вовсе ослабел в седле. Валился на стороны, и, если бы не рука Даритай-отчегина, его бы и аркан не удержал.
Из юрт выскакивали люди и с удивлением смотрели на намётом влетевших в курень всадников. С охоты обычно возвращались шагом, радостные, ведя обвешанных дичью коней в поводу. Сейчас происходило непонятное и, скорее всего, страшное.
Беду в степи чувствовали сразу. Приучены были годами, и ощущение опасности жило у каждого в крови, передаваемое от отца к сыну и от сына к внуку.