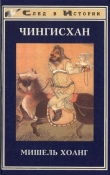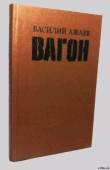Текст книги "Ждите, я приду. Да не прощен будет"
Автор книги: Юрий Федоров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 37 страниц)
Тумен Субэдея рвался через степь на жёлтую звезду, светившую на предрассветном небе. Мотались гривы по ветру, вскидывались лошадиные морды с закипающей пеной на губах. Но ветер, как и было предсказано, дул южный, мягкий, тёплый.
Кони шли хорошо.
Без остановки шёл по снежной равнине и тумен во главе с Темучином. Скакавший бок о бок с ним Джелме удерживал крепкой рукой древко туга. Белые хвосты туга стелились по ветру. Среди тысяч выведенных Темучином в поход не было и одного сомневающегося в победе. Да, победа в головах воинов была неотделима от имени Темучина. Почему, как и когда пришла уверенность к каждому, сказать было трудно. Скорее, вера зрела день за днём, и причиной тому была удачливость Темучина во всём.
Он прискакал в курень хана Тагорила на чужом, хромом и загнанном жеребце, а вскоре привёл в тот же курень тысячи лошадей Кирилтуха. Он отправился в земли тайчиутов с сотней всадников и вихрем прошёл эти земли из конца в конец, не потеряв ни одного воина. Он свалил могучего хана, даже не встретившись с ним в сече. Воины-кереиты, ходившие с Темучином в поход, рассказывали такое, что было достойно песен улигерчей[52]52
Ултерч – сказитель, улигер – старинное сказание.
[Закрыть]. Говорили – Темучин может переходить реки и никто не найдёт следа, где он вошёл в поток и где вышел из него, так как его переносят через воду духи. Темучин – убеждали – проникает через войска врага невидимым, так как его укрывают халатом, скрывающим от глаз противника, всё те же добрые духи. Слово его – утверждали – верно, как верно то, что после ночи над степью взойдёт солнце. И рассказывали, что он обещал своим нукерам, Субэдею и Джелме, высвободить из ямы их отца, в которой тот сидел годы, и высвободил, едва ступив на землю тайчиутов. Говорили, что он необыкновенный стрелок из лука и может пустить стрелу в небо, другой расщепить её пополам, и уже называли его мергеном. Тогда же стали обращаться к Темучину, величая его гуай и ецеге. Первыми это сделали Субэдей и Джелме, да они и не могли по-иному, так как, пока отец их не был освобождён из ямы, Темучин был для них отцом. И, уж безусловно, в каждой юрте были сказаны слова о его бескорыстии.
«Из приведённых из похода на земли тайчиутов тысяч отменных жеребцов, дойных кобылиц и овец, – говорили, – он не взял себе ни головы, но всё отдал на боевое снаряжение воинов».
И это было правдой. Богатства Темучину были ни к чему. Отары овец, табуны кобылиц, белые юрты, дорогое оружие, развешанное вокруг очага, хурачу, склоняющие перед нойоном головы... Нет, он твёрдо шёл к намеченной цели. Она была для него дороже того, что люди считают богатством. Темучин без сожаления отдал военную добычу, и теперь войско его выступило в поход на земли меркитов, вооружённое длиннолезвенными китайскими мечами и с полными колчанами стрел с наконечниками для дальнего боя. Не было воина, который шёл бы за Темучином на хромом коне и с пустыми чересседельными сумами. У каждого был запас хурута и сушёного мяса на десять дней, и многие вели за собой двух, а то и трёх заводных коней. Нет, с таким нойоном во главе никто не сомневался в победе. А эта уверенность была, наверное, более грозным оружием, нежели мечи и стрелы. Во всяком случае, так считал Темучин. Накануне выступления, поддерживая веру в победу, он сказал перед туменами:
– Я, обдумывая поход, веду в сражение, но победу одержите вы! Каждый!
И, подняв плеть, ткнул рукоятью в стоящего перед ним, а затем указал на другого, третьего, десятого. И такая сила была в этом движении, такая убеждающая властность, что всадники невольно выпрямились в сёдлах.
Сейчас Темучин, как всегда чуть боком сидя в высоком седле, поспешал впереди тумена, утопив голову в воротник серого грубошёрстного шабура, перетянутого широким кожаным поясом. Шабур, да и вся воинская справа Темучина ничем не отличалась от одежды и вооружения его воинов. Он шёл на то обдуманно, считая, что только глупец может скакать впереди туменов, бахвалясь богатой одеждой и раззолоченным оружием. Мысли были заняты иным. Из-под низко надвинутого на лоб лисьего треуха внимательно и сосредоточенно поглядывали льдисто-холодные глаза. И ясно было, что они примечают не только всё окрест – степь, покрытую тающим снегом, редкие в этих местах перелески, поднимающиеся то тут, то там холмы и даже следы, пересекающие путь тумена, – но ещё и другое угадывалось в их глубине. Этим другим – то озабочивавшим, то просветлявшим взгляд – были думы о предстоящем сражении. Он, Темучин, всё сейчас делал впервые. Впервые вёл тумены за собой. Впервые под его началом были не только простые воины, каких он водил в земли тайчиутов, но и десятки природных нойонов, отношения с которыми надо было чётко определить. Наконец, он впервые должен был вступить в сражение не с сотней воинов, но с многотысячным войском. Ему было о чём подумать. Изменения в глазах меняли и лицо, так как глаза, и прежде глаза, выказывают на лицах огорчение и радость, печаль и озабоченность, как и всю остальную гамму человеческих чувств. Темучин о том знал и, не желая, чтобы окружающие видели его переживания, молча глубже и глубже упрятывал лицо в воротник шабура. Но со стороны казалось, что идущий впереди тумена спокоен, уверен в предстоящем и ему ни к чему ненужные разговоры с поспешающими вокруг него нойонами. Он бережёт силы для главного. Крупная фигура Темучина тяжело глыбилась на мощно и, казалось, без усталости идущем жеребце.
В своём плане нападения на меркитов Темучин не оставил для хана Хаатая и малейшей возможности на выигрыш сражения.
Темучин условился с Субэдеем, ведущим второй тумен, прийти к куреню хана Хаатая с разрывом в день.
В том был смысл.
Темучин понимал, что скрыть в степи два тумена невозможно, какие бы меры предосторожности он ни предпринимал, как бы ни таился по балкам и перелескам. Тысячи воинов провести через земли меркитов незаметно – нельзя. Кто-то увидит их обязательно. Увидят и сразу дадут о том знать Хаатаю. Хан меркитов поднимет в сёдла всех, кого может собрать, поведёт против обнаруженного тумена и станет в удобном месте. Когда один тумен завяжет сражение, подошедший позже ударит в спину воинам Хаатая. Такого удара – был убеждён Темучин – меркитам не выдержать.
Саврасый сбавил ход, и Темучин по запотевшим бокам жеребца, по участившемуся дыханию понял, что тот начал уставать. Он мог бы идти ещё, но Темучин знал, что уж если Саврасый запотел, то ещё больше устали кони воинов, и не стал медлить – остановил тумен. Да и не было нужды утомлять коней.
Всё шло так, как он задумал.
Темучин, будто не он минуту назад, ссутулившись, сидел в седле, перенёс ногу через высокую луку и, высвободив гутул из стремени, легко спрыгнул на снег. Талое снежное крошево вязко чавкнуло под подошвами. Темучин оборотился к нукеру, передал поводья, сказал:
– Расседлай и оботри. Дальше пойдём на заводных конях.
Он всё время держал в памяти путь, который должен был пройти тумен Субэдея, и считал, что времени на долгую стоянку нет. Только-только поменять коней и в путь.
Повернулся к нойонам. Те ждали его слова. Темучин прошёлся взглядом по лицам и, к удовлетворению, не увидел на них усталости. Но одобрения не выказал. Знал – это понадобится позже, когда люди по-настоящему устанут. Сказал только, чтобы все пересели на заводных коней. Распоряжение тут же было выполнено. Это тоже порадовало Темучина, и он, садясь на подведённого заводного жеребца, подумал: «Нет, зима прошла не зря».
Свежий жеребец пошёл широким шагом.
5Сменил коней и тумен Субэдея. И сменил в другой раз, и если тумен Темучина шёл вполсилы, то его воины коней торопили. Темучин так сказал Субэдею: «Ты должен пройти земли меркитов, как стрела, пущенная сильной рукой».
И путь Субэдею был определён не по балкам и буеракам, а по открытой степи. Тумен обходил курени нойонов Хаатая, но не стремился таиться от каждого взгляда.
На третий день гонки к Субэдею на взмыленном коне подскакал нойон Чимбей и, встав стремя в стремя, закричал что-то, широко разевая рот. Лицо его было красно от секущего ветра, халат на груди обледенел, застывшие руки нойона с трудом удерживали поводья. Субэдей слов не разобрал и придержал коня. Чимбей, тесня грудью жеребца коня Субэдея, закричал:
– Ты загнал всех!.. Нужна стоянка... Надо обогреться...
Он задыхался.
Подскакали другие нойоны.
Субэдей вовсе остановил коня.
Распаляясь больше и больше, тряся щеками, Чимбей прокричал в лицо Субэдею:
– На мне халат обледенел до тела!
Бросив поводья, он рвал ворот. Пальцы скользили по льдистой корке.
– Если ты не остановишь тумен, я остановлю своих воинов!
И тут произошло то, чего никто не ждал.
Субэдей, не повернув головы к нойону и не повышая голоса, сказал подскочившим нукерам:
– Снимите его с седла, посадите лицом к хвосту жеребца, привяжите арканом и плетьми гоните назад в курень. Пускай костёр ему разожгут его женщины.
Вскинул плеть над головой, воскликнул высоко, с клёкотом в горле:
– Урагша!
Ударил плетью по крупу коня и рывком послал вперёд.
Нойоны поскакали следом.
Чимбей закричал что-то, но крик утонул в грохоте копыт. Его уже стаскивали с седла, валили, тянули за рукава халата. Он барахтался в сильных руках, но видно было, что против жилистых, крепких нукеров ему не устоять. Чимбея спеленали арканом и, посадив лицом к хвосту, приторочили крепко-накрепко к высокой луке. Жеребец нойона завертелся под хозяином, но его погнали плетьми в хвост поспешавшего по степи тумена.
В рядах тумена, прибавившего в ходе, поначалу не поняли, почему нойон Чимбей – заносчивый и чванливый, – сидя лицом к хвосту жеребца, поспешает поперёк хода войска. Но когда поняли, в рядах тумена вспыхнул хохот. Хохотали и молодые, и старые. Разевая рты, валились на шеи коней, закидывались в сёдлах, выпускали из рук поводья. Хохот рвался неудержимо из осипших на ветру глоток, выжимал слезу из воспалённых глаз, гнул людей пополам.
Нойон трясся в седле, как мешок с овечьей шерстью, и живой ли это человек или уже мёртвый – понять было трудно. Лицо Чимбея посинело, как у удушенного, глаза разом ввалились и ежели и глядели, то явно не понимая, что с ним случилось. Большего позора он не испытывал.
А Субэдей гнал и гнал своего коня. И не оглядывался. Нойоны, угнув головы, поспешали за ним. И в мыслях и у одного, и у другого, и у третьего родилось: «Круто, ох круто берёт Темучин». А то, что это Темучина приказ – не сомневался ни один из них.
«Сын кузнеца Субэдей, – думали, – не посмел бы так природного нойона опозорить. Это Темучин. Только он, он!»
А то, что времена новые наступают, не помыслили, как не помыслили и о том, что каждый из них всё то же новое время приближает, идя в поход против меркитов. По-старому о богатой добыче думали нойоны, о табунах меркитских кобылиц, о толпах пленников, о невольницах красивых мечталось нойонам.
А приказа Темучина Субэдею не было.
Было другое.
Перед походом, как и полагалось обычаем, Темучин и Субэдей вышли в степь поклониться духам войны. Глубокие предутренние тени лежали у юрт. Как это и должно, держась за концы одной плети, неспешно и бесшумно Темучин и Субэдей двигались вдоль длинного ряда жилищ. Из какой-то юрты выглянула женщина, но, увидев их, метнулась назад, задёрнула полог. Поняла: «Воины перед походом идут поклониться духам. Дорогу им переходить нельзя».
Они вышли в степь. Бледная полоска света едва намечалась у окоёма. И, обратившись лицом к этой чуть приметной на тёмном предрассветном небе полосе, по-прежнему держась за концы одной плети, они враз, оба, прокричали вдаль:
– Великие духи, мы отдаём себя вам!
Едва слова сорвались с губ, их подхватил ветер, смял и унёс в степь. Тишина обрушилась на головы двух стоящих людей, словно говоря: «Голоса ваши слабы и немощны перед величием степных просторов, но ждите – ответ будет».
И они стояли в ожидании. Стояли долго. Ветер обдувал лица, леденил открытые шеи, студил руки на связывающей их плети.
Полоска света у окоёма расширилась.
Две пары глаз – зелено-голубые Темучина и тёмные, почти чёрные Субэдея – неотрывно следили за каждым изменением, происходившим в этом первом обозначении будущего дня у края земли.
От них двоих слов больше не требовалось. Всё, что они хотели и могли просить у духов, должно было оставаться в мыслях. Духам не нужны слова. Они читают в головах. Слова людские лживы.
Полоса света над степью росла, и новыми красками замерцал тёмный купол необъятного неба. Оно не стало светлей, не прояснилось, но, напротив, сгустило недостижимую глубину, выделив яркость рассветной полосы, откуда и должен был явиться знак для двоих, стывших на ветру в ожидании.
Это был самый напряжённый миг обращения к духам.
И вдруг солнце объявилось из-за края земли. Чистый, огненный, слепящий диск. И ни единой краски на полосе рассвета. Ни алости зари, ни блёклости тумана.
Тем духи сказали: «Идите. Крови не будет. Вы вернётесь живыми!»
Темучин и Субэдей опустились на колени.
Теперь можно было сказать слова. И Темучин сказал: «Если я не верю тебе, как осмелишься ты поверить мне? Я верю и говорю перед лицом Великого неба: каждый твой шаг – мой шаг, каждое слово – моё слово, каждый удар – мой удар».
Вот и всё, что было сказано тогда, на рассвете. А то, что уросливый конь признает только крепкие каблуки и твёрдую руку, сдерживающую поводья, Субэдей знал, как знал и то, что тумен, который он вёл к сражению, и есть этот самый норовистый конь.
В середине дня в виду тумена на далёком холме показались всадники. Они с ходу выскакали из лощины и замерли, как стайка сайгаков, увидевшая охотников. От головы тумена с десяток нукеров бросились было к ним, но Субэдей предостерегающе вскинул руку. Нукеров остановили. Субэдей, словно и впрямь перед ними были сайгаки, а не меркитские воины, не без интереса рассматривал всадников. В голове прошло: «Ишь как насторожились, знать, мы неожиданность. Встреча для них случайна. Скакали куда-то по приказу нойона, и путь их был недалёк. Кони неморёные».
Передовой из всадников, привстав на стременах, крутил головой. Не то удивлён был шибко, не то растерян. А может, и то, и другое. Конь под ним завертелся. Всадник выше привстал на стременах, столбом вытянулся. И вдруг опустился в седло, ударил коня плетью, и всадников как ветром сдуло с холма.
«Ну, вот и всё, – подумал Субэдей. – Хаатай весть о нас получит».
И это прозвучало в нём, как удар в литавры, зовущий к бою. Десятки глаз были сейчас обращены к нему, но никто не ведал ни об этой прозвучавшей в нём меди, ни о том, что она всколыхнула Субэдея до глубины, и перед его мысленным взором встал слепящий огненный диск, увиденный им вместе с Темучином у края неба. Знак победы. Субэдею захотелось закричать, крик рвался из груди, подкатил к горлу, и он с трудом сдержал его. Победный клич надо было оставить на то мгновение, когда он бросит людей на стоящего перед ними врага.
Субэдей повернул сумрачное лицо к нойонам, сказал:
– Коней переседлать, разжечь костры, варить горячее и мяса не жалеть.
Увидел: глаза у людей повеселели. Подумал: «Хаатай не замедлит со сборами, но время у нас есть. Пускай воины отдохнут и наедятся. А Хаатай примчит на загнанных конях. – Губы Субэдея искривились в усмешке. – Да и небось голодный. Подавится лепёшкой, как весть получит о приближающемся войске. Мы подождём».
6Ждал и Темучин. Не сходя с Саврасого, он стоял в невысоком, но всё же скрывающем всадника кустарнике и вглядывался в уходящую вдаль степь. Ожидание для него всегда было трудно, но эти часы стояния вблизи куреня хана Хаатая переживались особенно напряжённо. Он провёл тумен через степь, провёл так, что не увидел ни один человек, и вот, достигнув цели, вынужден был остановиться. Держала тумен неизвестность – вышел или нет хан Хаатай навстречу Субэдею?
Саврасый, чувствуя напряжение хозяина, тянул повод, переступал с ноги на ногу. Он был нетерпелив, как и Темучин. Добрая лошадь и хозяин схожи характерами.
На рассвете Темучин послал к куреню Джелме с десятком воинов, и надо было дождаться их возвращения.
Не видя в кустарнике всадников, в степи на расстоянии полёта стрелы мышковала лиса. Крупная, ярко-рыжая на всё ещё сохраняющем белизну снегу, она высоко вскидывалась вверх, падала на четыре лапы, припадала головой к насту, прислушиваясь к ходу невидимой под льдистым покровом мыши, и опять вскидывалась, пугая свою добычу и стремясь обнаружить её по звукам движения. Но Темучин не замечал лису, хотя в другое время вид играющего на снегу великолепного зверя не прошёл бы мимо его внимания. Вернее, он всё же видел лису, но рыжее пламя на белом скользило перед ним, не оставляя следа в сознании, поглощённом ожиданием. Однако, когда лиса настороженно замерла, вероятно услышав только её слуху доступный шум, Темучин отчётливо разглядел мышкующего зверя и даже проследил направление её взгляда. Лиса припала к земле, бросилась за пригорок, и тут же оттуда, куда за мгновение до того были устремлены её глаза, показались всадники.
– Джелме! – возбуждённо воскликнул кто-то из стоящих рядом с Темучином нойонов. – Джелме!
У Темучина ничто не изменилось в лице. Он ждал. Хотя, быть может, именно в это мгновение со всей остротой понял, что от того, какие вести принесут скачущие к нему через заснеженную степь всадники, зависит успех трудного похода через степь. А скорее, не только похода, но и всех усилий, отданных на подготовку войска, мечтаний и трудных дум этой зимы, долгих разговоров с ханом Тагорилом и его нойонами. Вести эти должны были подвести последнюю черту и под походом в земли тайчиутов, добыча от которого ушла на вооружение войска.
Кони скакали тяжело – здесь была низина, и снег сохранялся высокий, – ошметья летели из-под копыт, клубами рвалось жаркое дыхание, и казалось, что кони никогда не доскачут до кустарника. Лицо Темучина дрогнуло. Зашевелилась кожа лба. Вспухли желваки под широкими скулами. Задрожали щёки. Но это было мгновение. Короткое мгновение – и так как взгляды окружающих были прикованы к приближающимся всадникам, он успел овладеть собой прежде, чем кто-нибудь заметил необычное для него проявление чувств. Словно узду намотал на кулак и вздёрнул до предела.
Когда всадники подскакали к кустарнику и осадили коней, лицо Темучина было, как всегда, бесстрастно.
– Хаатай вышел из куреня, – выдохнул с клубом пара Джелме, – с ним тысяч пять – семь воинов. Идут на рысях к Керулену.
Этих слов и ждал Темучин. И ежели у Субэдея дозорные Хаатая, обнаружившие его тумен, вызывали в груди гремящий звук меди, зовущий к бою, то сообщение Джелме для Темучина прозвучало не менее выразительно.
Минуты прошли с момента, как Джелме подскакал к стывшему на ветру в тишине кустарнику, перед которым мышковала сторожкая лиса, и здесь всё разом изменилось, наполнившись звуками и движением. С громкими криками поскакали к своим воинам нойоны, затрещала лоза под копытами коней, и множество всадников, как в половодье бурливая вода, закрыло только что белевший ещё зимней чистотой снег. Истоптало, ископытило его в грязное месиво и неудержимой громадой полилось дальше.
Однако, при всей внешней стихийности и хаотичности движения потока, угадывалась направляющая его могучая воля. И этой направляющей могучей волей был Темучин.
Он уже прикинул в мыслях, сколько времени потребуется Хаатаю, чтобы сблизиться с туменом Субэдея, и, рассчитав, какое расстояние надо пройти его, Темучина, воинам, сдержал поток в беге и направил в обход лежащего на пути куреня. В курень можно было вернуться после сражения, а сейчас это помешало бы разбегу ведомого им тумена.
Грозное движение нарастало. Кони вытягивались в беге, били копытами, и хотя степь была заснежена, однако отзывалась глухим, тяжким звуком на бесчисленные удары в её грудь. Казалось, гремели и рокотали тысячи бубнов. Так поёт туго натянутая на обод подсушенная кожа, когда в неё бьют не кулаком, но едва лишь касаются умелыми и сильными пальцами. Бубен вибрирует, перекатывает звук на густых низких нотах, ворчит и торжествует, выпевая грозную песню войны. Трудная это песня. В ней кровь и стенания, боль и крики ужаса, но и чистый голос мужества, бойцовского молодечества, силы, ломающей противостоящую силу. Не в каждом песня войны вызывает ответное и согласное звучание, многие, напротив, никнут при первых её звуках, склоняют головы, опускаются на колени, моля Великое небо о снисхождении и пощаде.
Жестокая эта песня была песней Темучина.
Он родился в грозный век, рос под тяжкой его рукой, которая чуть не вбила в землю едва вставшего на ноги мальчишку, и оттого, знать, а может быть и по другим причинам, о которых не дано ведать людям, при звуках этой песни в груди Темучина поднималась мощная мелодия, охватывающая всё его существо. Людей, в ком песня войны воспламеняла кровь, в степи звали багатурами, а Темучин был багатуром багатуров.
В строй воинов Хаатая тумен Темучина ударил в ту минуту, когда те сошлись в схватке с воинами Субэдея. Темучин отбил щитом направленное ему в грудь копьё меркита и, перегнувшись через голову Саврасого, сам ударил. Но меркит был ловок. Он уклонился от меча, и тогда Темучин нанёс ему сильнейший удар щитом в лицо, обеими руками ухватил за грудь и живот, сорвал с седла и, как мешок с шерстью, швырнул в гущу кинувшихся было к нему меркитских воинов. Это было так неожиданно и страшно – вскинутое над головой, распростёртое в воздухе, беспомощно барахтающееся тело, – что строй меркитов раздался в стороны. И даже Джелме и второй нукер, шедший в связке с Темучином, невольно откачнулись. Такая разящая сила исходила от него, такая мощь выказалась. А Темучин искал глазами Хаатая. И нашёл его. Схватка была мгновенна. Хаатай упал под ноги коня с разрубленным черепом.
Изначально было видно, что меркиты обречены на гибель. Смерть их хана только ускорила избиение. И всё-таки это были смелые воины. Ни один не бросил оружия. Зажатые между уплотнившимися рядами туменов Субэдея и Темучина, они продолжали сражаться. Их валили ударами мечей, выбивали из седел стрелами, топтали копытами коней.
Темучин выбрался из сечи и остановил Саврасого, тяжело поводившего взмыленными боками. К нему тотчас подскакал Субэдей. Темучин вытер меч о полу халата, опустил в ножны и только тогда оглядел поле сражения. В трёх-четырёх местах ещё рубились воины, но сопротивление меркитов было сломлено, и теснимые, словно овцы отарщиками, воины Хаатая толпой сгонялись к берегу Керулена.
Темучин, рассматривая толпу пленных, сказал Субэдею:
– Хороши воины у Хаатая. Смелые воины... Но нам они не нужны. Севший на чужого коня – быстро слезет.
Натянул поводья Саврасого.
Пленные были порублены. Но это была не последняя кровь, пролитая в тот день.
Темучин, полуприкрыв страшные после схватки глаза, не торопясь правил Саврасого к куреню Хаатая. И трудно было сказать, что это он малое время назад, выхватив из седла, вскинул над головой барахтающееся тело меркитского воина и ударом меча развалил череп хану Хаатаю, который был вовсе не слабым в сече. Хаатая, как и Темучина, звали багатуром, и меч его был грозен.
Темучин мерно раскачивался в седле. Жёлто-бронзовое лицо стыло на ветру.
У человека менее цельного, суетного одержанная победа вызвала бы прилив гордыни, самолюбование, и это тут же выразилось бы в жесте, слове или в каком-либо самоутверждающем поступке. А здесь – нет: не было ни гордыни, ни самолюбования. Не было даже торжества отмщения за прошлые обиды. Торжество тоже имеет очевидные приметы в своём внешнем обличье.
Было другое.
Крупный, крутоплечий человек тяжко, грузно сидел в седле притомлённого жеребца, как может сидеть только выполнивший до конца забравшую физические и душевные силы работу. Однако, хотя работа его и была нестерпимо трудна, ни в лице, ни в фигуре Темучина не было приметно тупой расслабленности, но, напротив, ощущалась одухотворённость, как бывает тогда, когда в человеке есть убеждение: «Да, работа утомила, она выпила соки мышц, исчерпала душевные возможности, но она была необходима, и я справился с ней». Так оно и было с Темучином. Он весь был пропитан верой, что идёт тропой, указанной ему Высоким небом, и только Высоким небом. А значит, нет места ни самолюбованию, ни гордыне, как нет места и сожалению о потраченных силах.
Малиновое солнце всходило над степью, окрашивая всё окрест в алые тона. Воздух был необыкновенно чист, прозрачен, и видно было далеко-далеко, до края степи, а может быть и дальше, за край, только различить это глазу было не дано.
Неожиданно на горизонте объявились чёрные точки. Одна, две... Потом с десяток. Они слились в чёрное пятно, и оно двинулось навстречу тумену.
Субэдей, скакавший рядом с Темучином, поднял козырьком руку над глазами, вглядываясь вдаль. Лицо насторожилось. Насторожился и Джелме. Раздались тревожные голоса:
– Кто это?
– А вон, смотри, ещё...
Темучин поднял голову, вгляделся. Различил – всадники, сотня или чуть более. Но было в них что-то странное, однако расстояние не давало разглядеть их достаточно ясно. И всё же он разглядел, в чём была странность приближающихся всадников. Навстречу тумену двигались люди на перегруженных поклажей конях. Чересседельные сумы были полны, раздувая бока коней, а и сверх их навалено было что-то, громоздящееся выше всадников.
Темучин выпрямился в седле.
Всадники приближались.
И вдруг первый из них, широко раскрывая рот, закричал, захлёбываясь от радости:
– С победой! С победой!
Темучин натянул поводья и остановил Саврасого.
Остановились и те, кто скакал с ним рядом.
– С победой! С победой! – всё вопил и вопил, ударяя гутулами в бока шатающейся от груза лошади, первый из сотни на дороге.
И тут Темучин узнал его. Это был нойон Кучу к. Лицо нойона было красно не то от натуги, с которой он выкрикивал своё «С победой! С победой!», не то от усилий, с которыми он удерживал поклажу, наложенную на чересседельные сумы и наваливающуюся ему на спину. В том положении, в каком нойон находился в седле, удержаться и впрямь стоило больших сил.
Нойон подъехал и раскрыл было рот, но, вглядевшись в лицо Темучина, решил воздержаться от дальнейших поздравлений. Забормотал невнятно:
– Мы здесь, у куреня, задержались... Как мимо добра пройти... Хану Хаатаю-то конец... Вот мы и...
Темучин молчал и только смотрел на Кучука. Но как смотрел! Глаза его – широко распахнутые, ясные, яркие на жёлто-медном лице – всё больше и больше разгорались холодным огнём. Он не разглядывал ни поклажу на коне нойона, ни поклажу на конях его нукеров, ни коней, ни всадников, и даже нойону в лицо он не глядел. Скорее всего, когда так смотрят, заглядывают только внутрь себя, и он, Темучин, в эту минуту, наверное, заглядывал в свою душу. А может, ещё и тропу разглядывал, которую ему указывало Высокое небо.
Тысячи воинов были за спиной Темучина, тысячи коней, десятки людей и коней окружали и с одной и с другой руки, и всё это множество людей молчало вместе с ним, а застывшие кони не смели не то что копытом о наледь дороги ударить, но и уздой брякнуть.
Нойон Кучук полез с лошади, неловко высвобождая гутул из стремени. Но гутул зацепился за чересседельную суму и не выходил из стремени. Нойон в отчаянии рванул ногу, и со спины коня с глухим стуком посыпалась на обледеневшую дорогу поклажа.
Строй на дороге по-прежнему молчал.
Нойон опустился на колени и пополз к Темучину.
– Пощади, – сказал хрипло, едва различимо, и яснее выговорил: – Прости... – И опять едва различимо, но с мукой и смертной тоской: – Пощади...
Протянул руки к Темучину:
– Пощади!
Рванул халат на груди, обнажая тело.
Медленно-медленно Темучин повернул лицо к Джелме, и все услышали жёсткое, хлёсткое – фи-и-ю, – стрела ударила под горло Кучуку, как раз меж раздернутых краёв ворота халата. Тело нойона откинулось, напряглось, как если бы он пытался подняться с колен, и пошло вперёд. Кучук упал лицом на наледь дороги. Стрела Джелме была стрелой для дальнего боя и, прошив навылет грудь нойона, вышла сзади на половину длины. Окровавленный наконечник дрожал, вибрируя.