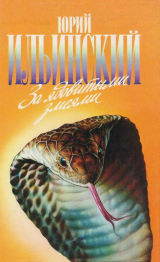
Текст книги "За ядовитыми змеями. Дьявольское отродье"
Автор книги: Юрий Ильинский
Жанр:
Природа и животные
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 30 страниц)
Когда маленькие пальчики перетрогали все, что было в доме, Фока обратил внимание на объекты, так сказать, одушевленные. Обитавшие в аквариуме рыбки, благо они были малы и безгласны, подверглись исследованию первыми. Фока пристально за ними наблюдал, часами просиживая возле аквариума, задумчиво водил пальчиком по стеклу, рисуя невидимые узоры, и в конце концов решил познакомиться с рыбками поближе – ловко выловил их и разложил рядком на столе. Когда я вошел в комнату, рыбки дружно отплясывали прощальный танец. Не спуская с них горящих глаз, Фока дергался, словно повторяя судорожные движения несчастных. Водворив рыбок в родную стихию, я легонько шлепнул обезьянку по красной попке, обиженный Фока вскарабкался на стеллаж и просидел там до вечера, строя мне негодующие рожи.
– Хватит дуться, малыш. Давай мириться. – Я снял обезьянку со стеллажа, погладил, потрепал по загривку, Фока не был злопамятным, сразу же прижался ко мне, обхватил ручонками мою шею. Мир был заключен, и мы сели смотреть телевизор, который я принес из мастерской после ремонта. Телевизор особого впечатления на Фоку не произвел, политические новости нагоняли на него сон, и он дремал у меня на руках, сладко зевая. Когда же на экране появился большой питон – шла любимая мною передача «В мире животных», – Фока с истошным воплем взлетел на люстру, обжегся о лампочки, заметался по комнате и, не переставая вопить от страха, забился под тахту. С большим трудом я вытащил его оттуда, тщедушное тельце била дрожь.
Очень скоро Фока ощутил себя полновластным хозяином квартиры и всех ее обитателей. Когда я уходил в редакцию, Фока оставался дома один и делал все, что хотел. Кроме рыбок и старого злого попугая Кокоши, у меня жили добродушная пегая спаниелька Капа и молодой сиамский кот Яго, голубоглазый коварный красавчик, целиком и полностью оправдывающий свое громкое имя. С рыбками Фока уже разобрался, теперь они были для него недосягаемы, поскольку после памятных плясок на столе аквариум я перенес в кухню, куда Фоке, несмотря на все его попытки, вход был категорически запрещен, поэтому ему ничего больше не оставалось, как заняться прочей моей живностью.
Начал он с Кокоши. Попугай был пташкой далеко не безобидной, драчливый задира, он мог за себя постоять, в чем некоторые мои друзья и знакомые имели возможность убедиться на собственном опыте. Эта милая птичка при первой же попытке ее приласкать платила наивным добрякам жестокими ударами массивного клюва, оставлявшего на коже пострадавших большие болезненные ссадины, наиболее же настырные рисковали остаться без глаза. Честно говоря, мне давным-давно следовало с попугаем расстаться, тем более что подарила мне его дама, обликом и характером до смешного схожая с этой птичкой. Дама ежедневно осведомлялась по телефону о состоянии здоровья попугая, время от времени навещала меня, подолгу воркуя со своим любимцем, с которым была вынуждена расстаться по причинам сугубо романтическим – новый муж дамы, едва лишь став таковым официально, категорически потребовал «чертову птичку ощипать и вышвырнуть из дома к чертовой матери». За время, потраченное им на ухаживания за своей будущей женой, злодей-попугай оставил подлизывающемуся к нему кандидату в мужья добрый десяток глубоких шрамов. Стойкость, ангельскую кротость и долготерпение соискатель вынужден был проявлять потому, что даме нравились мужчины, которые восторгаются ее питомцем, угощают его яблоками и апельсинами, ласкают его, оказывают ему иные знаки внимания. Те же поклонники-кандидаты, кто пытки попугаем не выдержал, безжалостно отсеивались и испарялись. Нынешний муж все испытания, уготовленные ему зловредным Кокошей, выдержал с честью, зато, придя из загса, тотчас же на нем отыгрался – изгнал своего мучителя, и расстроенная супруга, зная о моей любви к животным, принесла попугая мне, заклиная ни в коем случае никому его не отдавать. Так опальный Кокоша поселился у меня и в благодарность за предоставленный ему приют в первый же день располосовал мне указательный палец на правой руке до самой кости, после чего следовало бы указать этим пальцем Кокоше на дверь, но сделать это я так и не решился…
Прижился попугай быстро. Чтобы обезопасить своих гостей, оградить их от неприятностей, я повесил на клетку табличку «Руками не трогать». Несмотря на это, а возможно, именно поэтому, все мои друзья и знакомые поступали наоборот и соответствующим образом Кокошей вознаграждались, после чего мнение о птичке конечно же изменяли. Любил попугая один лишь Васька, но, как выяснилось, из сугубо корыстных соображений.
Две недели Вася учил попугая некоторым специфическим выражениям, составленным из слов русской ненормативной лексики. Кокоша оказался очень способным учеником, а Васька – талантливым педагогом, и когда однажды попугай, стараясь привлечь внимание собравшихся гостей – «обмывали» новую книгу маститой поэтессы, – произнес длинный монолог, цели своей он, безусловно, достиг. Реакцией был гомерический хохот присутствующих, поэтесса, хоть и сочла себя оскорбленной, смеялась громче всех, однако ее спутник, известный литературный критик, демонстративно встал из-за стола и ушел не попрощавшись, яростно хлопнув дверью. Сидевший рядом с ним Николай подошел к клетке, постучал пальцем по затейливой дверце:
– Что ты такое несешь, птичка Божья? Тебе не стыдно?
На это задетая замечанием художника «птичка Божья» отреагировала незамедлительно, изрекла то, чего любители попугаев на Руси веками от них добивались:
– Дур-рак! Дурак!
С появлением в доме обезьянки попугай повел себя еще более вызывающе, встречал ее громкими криками и орал так, что приходилось устраивать ему ночь среди белого дня – накидывать на клетку темное покрывало, лишь тогда Кокоша успокаивался и умолкал. Фока на крики попугая не реагировал, вел себя так, словно того не существует в природе. Я не понимал, отчего тревожится попугай, тем более что хитрец Фока держался по отношению к птице в высшей степени корректно, ничем себя не скомпрометировав.
А попугай волновался все больше и, очевидно, на нервной почве начал в неурочное время линять, хотя вылинял совсем лишь недавно. Забеспокоившись, я понес его на консультацию к ветеринару, заверившему меня, что попугай в полном порядке.
Тем не менее линька продолжалась, причем линял попугай как-то странно, терял по одному перу ежедневно, и каждый раз, возвращаясь домой с работы, я находил на полу перо. Мало того, Кокоша удивлял меня все больше и больше, я обнаружил, что линяет он как-то избирательно, теряет только хвостовые перья – других я не находил. Марк, узнав об этом, задумался, но ответа на поставленный вопрос так и не нашел, пожал плечами, то же самое сделал и потревоженный мной ветеринар, честно признавшийся, что с подобными явлениями сталкиваться ему не приходилось.
Однажды все разрешилось, притом довольно просто: отправившись в редакцию, я вспомнил, что забыл рукопись, которую меня попросили отрецензировать, и вернулся домой с полдороги. Еще в прихожей я услышал отчаянные крики Кокоши и, предчувствуя недоброе, осторожно приоткрыл дверь. Пристроившись рядом с клеткой, Фока запустил туда свои ручонки, одной держал попугая за шкирку, а второй дергал его за хвост. Попугай орал, отчаянно хлопал крыльями, наконец Фока отпустил его и спрыгнул на пол, зажав в мохнатом кулачке вырванное хвостовое перо. Последнее! Позднее, мысленно прокручивая как киноленту эту сценку, я готов был поклясться, что Фока садистски ухмылялся.
Как ему удавалось просовывать руки между частыми прутьями клетки, избегать разящих ударов острого клюва попугая, так и осталось загадкой. Попугая пришлось немедленно эвакуировать на кухню, а линька тотчас же прекратилась. Лишившийся хвоста Кокоша, претерпевший адские муки – когда у тебя выщипывают по перышку, в этом приятного, согласитесь, мало, сделался после всего пережитого совершенно несносным, характер его испортился вконец, даже меня, своего кормильца-поильца, Кокоша постоянно клевал, не давал чистить клетку, Фоку же он просто видеть не мог.
А Фока на попугайские переживания, как говорится, чихал, и если страдал, то только лишь из-за отсутствия объекта приложения сил, который так приятно и сладостно было дергать за хвост. Справедливости ради замечу, что садистские наклонности Фока проявлял только по отношению к злосчастному Кокоше, – быть может, попугай раздражал обезьянку своими скрипучими криками, а возможно, однажды, когда общительный Фока захотел познакомиться с ним поближе, просто-напросто долбанул его клювом.
По-иному складывались отношения обезьянки с Капой, их можно было смело охарактеризовать как любовь, вспыхнувшую с первого взгляда, причем любовь обоюдную. Капа была на редкость доброй, ласковой, бесхитростной, совершенно безобидной и покладистой собачкой и, несмотря на свое охотничье предназначение, обожала все живое. Ее же любили все без исключения собаки, жившие в нашем доме, а она со всеми находила «общий язык», и даже сварливая леди с восьмого этажа, которую хозяева никогда не спускали с поводка во избежание грызни, завидев Капу, приветствовала ее, радостно виляя хвостом. Капа умудрялась дружить даже с надменным Яго, хотя всех прочих собак, невзирая на их породу, пол и возраст, кот безжалостно драл острыми когтями, смело вступал в бой, набрасываясь первым, и собаки обходили его стороной. С Капой же Яго не только играл, но и ел с ней из одной миски – сначала быстренько очищал свою, а затем нахально подходил к Капиной и, оттеснив деликатную собачку, полировал ее мисочку до зеркального блеска. Капа всегда уступала коту, скромно отходила в сторонку и ничуть не обижалась, когда этот наглец выхватывал у нее из-под носа самые лакомые кусочки.
Зимой, особенно в морозы, кот и собака спали на кресле, тесно прижавшись друг к другу, эта трогательная картина умиляла всех, кому довелось ее увидеть; поэтому ничего удивительного не было в том, что Капа и Фока подружились. Целыми днями обезьянка и собака бегали друг за дружкой, гонялись за мячиком, а когда коротконожка Капа уставала, в изнеможении растягиваясь на своем матрасике, Фока садился рядом, укладывал ее голову себе на колени и тщательно перебирал ей шерстку тонкими пальчиками, не выискивал блох или кристаллики соли, как это делают многие обезьяны, и даже не перебирал, а скорее гладил собаку по голове, водил пальчиком по ее лбу и бровям.
– Сцена, достойная кисти художника! – восхищался Николай. – Как жаль, что я не анималист.
Фока очень привязался к Капе и всякий раз нервничал, переживал, когда я отправлялся с ней на прогулку.
Непростые отношения сложились у Фоки с Яго, озорная обезьянка издевалась над ним как хотела. Кот в долгу не оставался, пускал в ход когти, но Фоку это не останавливало. Игривая озорная обезьянка, познакомившись с Яго, сразу же попыталась если не подчинить его себе, то, во всяком случае, держаться с ним на равных, но Яго не был таким простодушным добряком, как Капа, характером обладал не ангельским, жил сам по себе и своих соседей по квартире – всех, включая и меня, – как говорится, в упор не видел, поэтому Фокино панибратство было сразу же пресечено; хотя иной раз, пребывая в неплохом настроении, плотно поев, Яго был не прочь поиграть с мячиком или привязанной к стулу бумажкой на веревочке. Лучшим времяпрепровождением для Яго было лежать где-нибудь в укромном уголке, наблюдая за происходящим вокруг. Казалось, кот дремлет, но он не дремал, а бдительно контролировал каждое движение кого бы то ни было.
С попугаем Кокошей отношения у Яго были выяснены значительно раньше. Увидев Кокошу, Яго плотоядно облизнулся и вознамерился им пообедать, но был застукан Васькой на месте преступления и подвергся тому, что Васька называл «воспитательной работой». Воспользовавшись тем, что я на кухне жарил яичницу, Василий схватил кота за шиворот и хорошенько потер его носом о прутья клетки, в результате чего Яго Ваську возненавидел, но подходить к Кокошиной клетке отныне не рисковал.
Долгое время кот относился к обезьянке настороженно, попытки Фоки подружиться с ним отвергал, Фока, в свою очередь познакомившись однажды с острыми когтями Яго, предпочел держаться от него подальше. Куда больше обезьянку напугало злобное шипение рассерженного кота, вероятно ассоциировавшееся у Фоки с шипением змеиным, а змей он, как и большинство млекопитающих, очень боялся.
Тем не менее, хотя кот и обезьянка пылких чувств друг к дружке не испытывали, между собой они не конфликтовали, хотя не спускали друг с друга глаз; особенно контролировал каждое движение обезьянки Яго, и у него были для этого основания, ибо, когда Фока слишком уж расходился, а такое случалось почти ежедневно, а то и по нескольку раз в день, ему становилось море по колено и Фока вытворял что хотел. Именно в эти минуты с полок летело все, что могло быть оттуда сброшено, обезьянка сломя голову носилась по комнате, совершая головокружительные прыжки, запамятовав мои запреты либо презрев их, маятником раскачивалась на люстре, бегала взад и вперед, перелетая со шкафа на стол, со стола на тахту, с тахты на этажерку, на книжный стеллаж и тому подобное, повторяя все это снова и снова, могла запросто прыгнуть на что угодно, в том числе и мне на голову, что порой и проделывала. В такие минуты Фока так распалялся, что от него можно было ожидать чего угодно.
Капа охотно поддерживала игру, но прыгать подобно мячику, конечно, не могла, вдобавок быстро уставала, кот с интересом за происходящим наблюдал, но в игру не вступал, на всякий случай принимал оборонительную позу, взъерошивался и, зная, что его покой может быть в любую секунду нарушен самым бессовестным образом, бдительно следил злыми, сузившимися глазами за метавшейся по комнате обезьянкой, держа наготове когтистые лапы, но и Фока не упускал из виду кота, втайне надеясь, что тот однажды утратит бдительность. Когда же такое случалось, Фока дергал кота за хвост, после чего стремглав уносился прочь и, довольный тем, что задуманное свершилось, прыгал, прыгал, прыгал чуть ли не до потолка, улыбаясь до ушей.
Обезьянка Фока
Прыгает высоко…
Постоянно варьируя свои проделки, совершенствуя их, постоянно придумывая что-то новое, Фока порой выкидывал такое, что создавалось впечатление, будто он осуществляет тщательно разработанную операцию. Однажды утром, одеваясь, я не нашел одного носка, второй был на месте, а первый словно провалился сквозь землю. Я покосился на Фоку, он сидел на подоконнике и смотрел в окно. Пришлось взять из шкафа другие носки; я умылся, накормил своих беспокойных питомцев и отправился на работу, а вернувшись, застал такую картину: Фока стоял посреди комнаты, держа за хвост кота. Вдруг он завертелся на одном месте, быстро-быстро вращая бедного Яго, как легендарный Давид пращу. Завидев меня, Фока разжал кулачок, Яго отлетел в сторону, шлепнулся на пол, но не юркнул, как обычно, под тахту, вообще никуда не побежал – не мог, ибо на голову его был натянут мой пропавший носок.
Я сдернул носок, он не устоял на ногах, упал, вскочил и упал снова – катание на «карусели» явно вскружило ему голову. Немного очухавшись, Яго метнулся на подоконник, повернулся и посмотрел на обезьяну, и как посмотрел! Сколько злобы, презрения, высокомерия и потаенного страха читалось в его взгляде!
А хулигану Фоке – хоть бы что. Как ни в чем не бывало он забрался мне на колени и сделал вид, что очень заинтересован пряжкой моего ремня – трогал ее своими пальчиками, поглаживал. Я, скорчив свирепую физиономию, сердито выговаривал Фоке, порицая его садистские фокусы, но Фока, всецело поглощенный ременной пряжкой, меня не слушал, а когда я повысил голос, занял свою излюбленную позицию на моем плече, обнял ручками за шею, припал щекой к моей щеке и стал тереться о нее, прервав мой гневный монолог на полуслове. Знал, негодник, чем меня ублажить, и пользовался моей слабостью самым бессовестным образом. А Яго, с неслабеющим вниманием следивший за манипуляциями обезьянки, осуждающе глядел на меня: эх, хозяин…
Изобретение и успешное применение «карусели» свидетельствовали о том, что Фока, говоря газетным языком, еще не мобилизовал до конца свои внутренние резервы, далеко не полностью исчерпал свои способности и надо поскорее его чем-то занять, иначе будет плохо – в один прекрасный день он подвесит кота за хвост к люстре либо выкинет еще что-то неподобающее. И все оттого, что Фоке просто-напросто некуда тратить свою энергию, а она бьет ключом. Впрочем, так и должно быть – Фока юн, а в юности все мы готовы горы свернуть. А что, если предложить ему заняться спортом?
Я соорудил Фоке турник, подвесил к потолку трапецию – и как же обезьянка обрадовалась! Она без устали вертелась на перекладине, неутомимо крутила «солнышко», словно заправский гимнаст, и отличалась от него лишь тем, что время от времени зависала вниз головой на хвосте, чего ни один спортсмен, даже самый заслуженный, сделать, естественно, не мог.
Гимнастика пошла на пользу не одному Фоке; получив передышку, Яго одновременно обрел возможность наблюдать за упражнениями обезьянки на спортивных снарядах под потолком; в небесно-голубых глазах кота злоба больше не вспыхивала, однако бесстрастными они не оставались – теперь в них угадывалась зависть. Сам Яго высоты не боялся, напротив, любил забираться повыше, чаще всего на стеллаж, бесстрашно балансируя, прогуливался по узенькой рейке, к которой крепились гардины, легко спрыгивал вниз, приземлялся мягко и точно. Покачался Яго и на трапеции, куда я его однажды посадил, грациозно прошелся по турнику, но повиснуть на хвосте конечно же и не пытался. Глядя на увлеченного Фоку, я был доволен – лучше заниматься спортом, чем раскручивать кота за хвост. Кстати, как Фока сумел надеть на Яго носок, как только додумался до такого!
Вообще-то додумывался Фока не только до этого. Становясь все более и более непредсказуемым, он вместе с тем очень любил людей, любил общество и, когда ко мне приходили гости, с удовольствием работал на публику, демонстрируя свои спортивные достижения, срывал аплодисменты, и это так его радовало, что Фока из кожи лез, чтобы показать собравшимся что-нибудь еще, ожидая, что ему снова поаплодируют.
Восторженные возгласы зрителей, сыпавшиеся на него дождем конфеты и печенье вызывали у обезьянки горячее чувство благодарности. Фока был признателен людям за то, что они смотрели на его трюки, радовались, смеялись, и Фока тоже старался зрителей отблагодарить, но делал это по-своему. Закончив выступление и благосклонно выслушав бурю восторженных аплодисментов, Фока в свою очередь аплодировал присутствующим – поворачивался к аудитории спиной, нагибался и быстро-быстро барабанил ладошками по ярко-красному заду. Зрители были в шоке, но хохотали как безумные, а довольный Фока широко улыбался и подпрыгивал, прыгал все выше и выше как заведенный.
Обезьяна Фока
Прыгает высоко…
Жизнерадостный Фока вызывал ответные улыбки всех, к кому его редкозубая улыбка была обращена. Зубки у Фоки малость подгуляли, но это его не портило, придавало потешной рожице особый шарм.
Изредка Фоку охватывала грусть, он садился на подоконник и печально глядел в окно, быть может, вспоминал родные джунгли и резвящихся на лианах собратьев. В такие минуты мне становилось жаль его, я сажал обезьянку на колени, а Фока припадал головкой к моей груди. Я гладил его атласную шерстку, утешал, и приступы меланхолии проходили. Фока взбирался на мое плечо, обвивал худыми ручонками шею и мог оставаться в такой позе часами.
Много воды с той поры утекло, но воспоминания о маленьком озорнике и сегодня ассоциируются у меня с теплом его тщедушного тельца и ласковых ручек, нежно обнимающих мою шею, а в ушах звучит детская песенка:
Обезьянка Фока
Прыгает высоко…

Глава седьмая
Только любовь

Лет тридцать тому назад жил я в Восточной Сибири, в самой что ни на есть глухомани, где, по расхожему выражению местных жителей, пень на колоду брешет. К этому времени вышло в свет несколько моих повестей и сборников рассказов, я писал большой многоплановый роман, потому решил уехать из Москвы подальше от столичных соблазнов, чтобы с головой погрузиться в работу. Редактор хоть и со скрипом, но предоставил мне продолжительный творческий отпуск, а один из московских журналов заказал мне очерк о жизни сибирских лесников, поддержав таким образом меня материально. Так и оказался я на далеком лесном кордоне, откуда до ближайшего городка было километров триста, поселился у старого лесничего Гордеича и прожил у него довольно долго.
Гордеич целыми днями пропадал в тайге, я с утра принимался за работу и просиживал за грубо сколоченным столом почти до самого вечера, ежедневно борясь с искушением бросить все и пройтись с Гордеичем по тайге, прекрасной в любое время года.
Однажды – было это весной – я не выдержал и, когда утром Гордеич собрался в свой обычный обход, решил составить ему компанию. Старик обрадовался – вдвоем веселее, но заметил, что день я выбрал неудачный, лучше бы пойти завтра.
– ???
– Постылым делом буду заниматься…
Я настоял на своем, Гордеич неохотно согласился, а на мои вопросы, чем же он собирается сегодня заняться, ответил односложно:
– Сам увидишь…
И я увидел! Отойдя от избушки километров пять, мы углубились в кедровник, прошли еще немного, Гордеич остановился и, указав на видневшуюся впереди ложбинку, приложил палец к губам:
– Тут они, тут!
Ждать пришлось недолго, однако появились не загадочные «они», а поджарая волчица. Увидев нас, она застыла, прижала уши, но нападать, похоже, не собиралась – волки атакуют человека крайне редко, в исключительных обстоятельствах, например, зимой, ошалев от голода. Однако почему волчица не убегает?
Гордеич шагнул вперед, волчица, сделав несколько больших прыжков, остановилась, старик поднял ружье, волчица проворно шмыгнула в кусты, затем выбежала на полянку, подальше от места, где только что стояла, замелькала между деревьями, словно приглашая нас последовать за ней, и тогда я понял, что где-то поблизости находится ее логово.
– Держи. – Гордеич протянул мне двустволку. – Набежит – стрельнешь.
Вытащив из рюкзака мешок, он направился к ложбинке, спустился в нее; вдали снова замаячила волчица, – петляя вокруг, она старалась увлечь нас за собой, потом снова приблизилась, но напасть не решалась. А вскоре вернулся Гордеич, таща тяжелый мешок.
– Весь приплод забрал. Порядок. Давай теперь пенек искать.
Я шел, поминутно оглядываясь, дивясь поведению волчицы – отдать без сопротивления свое потомство! Ворона и та, защищая птенцов, норовит долбануть человека клювом по темечку.
– Чего зыркаешь по сторонам? Не бойся, не нападет.
– Неужто убежала?
– За нами топает, слышит, как эти в мешке шебуршатся: волки чуткие. До самого кордона нас проводит, только мы ей такого удовольствия не доставим. А вот, кстати, и пенек подходящий. Держи ружье. Волчиха объявится – жахни по ней дуплетом!
– Не появится. Если уж раньше не подошла, возле логова…
– Бери на всякий случай. Сейчас проверим ее нервишки…
Опустив мешок на землю, Гордеич вытащил волчонка, придавил горловину мешка сапогом, чтобы остальные не выскочили, и, размахнувшись, хватил звереныша об пенек. Что-то хрустнуло, лесник бросил обмякшее тельце на землю, нагнувшись, достал второго, убил и его.
– Стойте, стойте! Зачем?!
– Этих бандюг давить надо. Всех до единого!
– Даже детенышей?
– И их тоже. Волков жалеть – себе дороже, волки есть волки: мало того, что в тайге разбойничают, всю лесную животину переводят, так они еще и в деревни зимой приходят – коров режут, овец, поросят таскают. Что же их – миловать?
Гордеич выдернул из мешка волчонка, выругался, перехватил другой рукой, вытер проступившую на тыльной стороне кисти кровь:
– Зубы-то вострые. Ах, стервятина!
Повисший вниз головой волчонок слабо взвизгнул, мягко шлепнул удар, разбитая тушка задергалась на земле, а из кустов раздался жалобный вой.
– Гляди, гляди, паскуда! Скоро и тебе конец придет.
Глухой шлепок, еще один, агонизирующий звереныш шуршит в сухой листве. Глухой шлепок, еще один…
– Не убивай, Гордеич! Очень прошу. Оставь хоть последнего. Отдай его мне…
– Эх ты… – Гордеич сунул волчонка в мешок, покидал туда же все еще дергающиеся тушки, посмотрел на меня с сожалением: – Глупый ты человек. Книжки сочиняешь, а простых вещей не разумеешь: нешто волков жалеют?
Я не обиделся – Гордеича можно было понять.
Приказ о демобилизации застал меня на Дальнем Востоке. Вскоре я уже топтался на перроне станции Завитая, ожидая эшелон на Москву, поминутно оттирал побелевшие щеки и нос – трещал сорокаградусный мороз. На перроне гремел духовой оркестр, из переполненного вокзала в облаках морозного пара выходили люди в шинелях и стянутых широкими ремнями белых армейских полушубках.
– Гляньте, как отплясывает! Поднажми, вояка, не то замерзнешь!
Это относилось явно ко мне. Обернувшись, я увидел группу летчиков в кожаных, подбитых мехом «канадках», белозубые улыбки свидетельствовали, что проблем у этих ребят не существует. Беззаботный вид летчиков, их беззлобные шутки задели меня за живое, я огрызнулся через плечо и, услышав взрыв смеха, добавил еще кое-что. Позади тяжело затопали, я остановился.
– Юрец! Ты?!
Громадный человечище сгреб меня в объятия, стиснул по-медвежьи: серые решительные глаза, черные сросшиеся брови, ямочка на подбородке – предмет воздыханий одноклассниц. Сашка Лиходеев! Бесшабашный Сашка! Девять лет учились мы в одном классе. Потом война. Теперь он стоял передо мной – плечистый, сильный, лицо обожжено морозами и солнцем, багровый шрам на виске и лучистые морщинки у глаз говорили о трудно прожитых годах.
– Сашка!
Десяток отрывистых фраз, коими беспорядочно обмениваются давно не видевшие друг друга люди, – и все мои планы полетели к чертям.
– Ты в Москву, Юрец? Отлично. Дуй к военному коменданту, сдай билет.
– То есть как?!
– А вот так! С нами полетишь. Самолетом быстрее.
На аэродроме, в палатке, жарко пылал костер, с брезентовых, заросших курчавым инеем стенок покапывало – прямо в пущенный по кругу солдатский котелок. Летчики угощали меня консервированной американской колбасой и толстым шоколадом. Пушечный бас Лиходеева покрывал разноголосицу:
– За встречу!
Слабо звякнули алюминиевые стаканчики. Проглотив огненную жидкость, я застыл с открытым ртом. Сашка услужливо протянул кружку с водой:
– Извини, спиртяшкин у нас неразведенный. Запивай вдогонку!
Вылетели мы ночью. Старенький «дуглас» завален мешками, ящиками; примостившись на каком-то тюке, я задремал; проснулся от жуткого холода – самолет не отапливался. Брезжил рассвет, «дуглас» пробивался сквозь сизые облака. Сашка сидел рядом, курил, разглядывал разостланную на коленях карту. Увидев, что я не сплю, встрепенулся:
– Слушай, Юрец. Дай слово, что не будешь меня ругать.
– А есть за что? Впрочем, ладно, так и быть, обещаю.
– Нет, ты слово дай. Скажи, что не станешь злиться.
– Не стану, – стуча зубами от холода, пробормотал я. – Вещи мои забыли в самолет положить, да?
– Что ты, что ты! Как можно… Вот твой «сидор», целехонек.
– В таком случае – выкладывай.
– Ну, ладно. Только помни – обещания полагается выполнять. – Сашка мялся, нарочито долго прикуривал от потухшей спички и наконец решился: – Знаешь, куда мы летим?
– Как куда? В Москву, конечно.
– Н-не совсем. Вернее, совсем не в Москву, а в Пихтовку. – Толстый Сашкин палец, скользнув по зеленому полю военной карты, врезался в Барабинскую степь, уперся в крохотную, еле заметную точку. – Вот она, Пихтовка, там меня родня ждет и… – И, взглянув в мое перекошенное лицо, поспешно добавил: – А в Москву полетишь попозже, я тебе место в самолете гарантирую. Через недельку…
– Ах ты… скот! Обманщик!
– Ей-богу, через недельку! И если очень хочешь, брось в меня чем-нибудь помягче – терпеть не могу твердых предметов.
Сердиться на Сашку было решительно невозможно.
– Ну и Лиходей! Я бы давно уже был дома.
– Это эшелоном-то? Да он ползет как черепаха!
Торжество в честь нашего (вернее, Сашиного) приезда продолжалось двое суток. Орава Сашкиных родных, друзей и знакомых, знаменитые, приготовленные по особому рецепту (с травами) пельмешки поглощали тысячами, на столе стояли ведра с белой крепкой бражкой, двое молодых ребят, постоянно сменяя друг друга, играли на аккордеоне, дробно выстукивали каблучки, дом ходил ходуном, когда вся застолица пускалась в пляс.
– Гуляй, Лиходеевы! – гудел белобородый дед. – Племяш с войны приехал. Офицер, награждения имеет!
Поздно вечером Сашка отозвал меня в сторонку, оглянулся, зашептал:
– Знаешь, Юрец, давай-ка отсюда сматываться.
– Как? А гости?
– Догуляют без нас, слава Богу, бражки тетка наготовила на целый полк. А мы в одно село сгоняем, кое-кого навестим. Тут недалече. Только оденься потеплее, мой летный комбинезон возьми.
– Утром поедем?
– Сейчас…
Сашин комбинезон я стянул поясным ремнем портупеи – Сашка широк в плечах, брюки пришлось подвернуть, подшитые войлоком валенки, взятые у кого-то из Сашиных родственников, были впору. В безоблачном небе плыла луна; возле крыльца всхрапывала заложенная в легкую кошевку лошадка, нетерпеливо била копытом, высекая ледяные брызги.
Я залез в кошевку, устроился на соломе поудобнее. Один из аккордеонистов открыл ворота, вывел лошадь под уздцы на улицу.
– Винтовку взяли?
– Зачем она нам?
– А звери? Не ровен час – налетят, хватите горячего до слез. Ныне они ничего не боятся – почти все охотники погибли на войне, а которые уцелели, еще не вернулись из армии.
– Оружия брать не будем, а волки фронтовиков не тронут, – засмеялся Сашка. – А ну, милая, рысью! – Кнут со свистом рассек голубой воздух, застоявшаяся лошадка рванула вперед.
Барабинская степь, или, как ее здесь называют, Бараба, – бесконечная заснеженная равнина. Лошадь легко несла кошевку по укатанной дороге, кошевка подпрыгивала на гривах – узких, длинных грядах, ледяной ветер холодил грудь, стеснял дыхание.
– Замерз, Юрец? Потерпи, скоро в лес въедем, там потише.
– Какой может быть лес в степи? – недовольно возразил я, бражка на воздухе уже успела выветриться, и Сашкина затея тащиться по морозу Бог знает куда нравилась мне все меньше. От Сашки не укрылось мое настроение, и он виновато проговорил:
– Прости, но поступить иначе я не мог. Столько лет мы не виделись. Быть здесь и не навестить – просто свинство. В общем, едем мы на Убинское озеро, в село Черное, а там…
– Ясно, кто там. Можешь не объяснять. – Еще в самолете Сашка мне все уши прожужжал о девушке, с которой познакомился в госпитале и переписывался всю войну.








