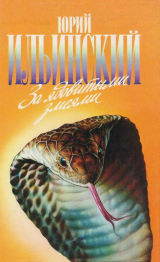
Текст книги "За ядовитыми змеями. Дьявольское отродье"
Автор книги: Юрий Ильинский
Жанр:
Природа и животные
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 30 страниц)
Расставание было грустным для всех – дед, живший на кордоне бобылем, сетовал на свою одинокую старость, я, оглядывая кряжистого лесника, уверял, что он еще потопчет землю, что увидимся, и не раз. Рыська, Бог знает как, что-то чувствовала, была необычно тихой, присмиревшей, я жалел их обоих, и уезжать решительно не хотелось. Очень не хотелось…
Я вынес на крыльцо свои вещи, дед запряг лошадку, махнул рукой, приглашая сесть в телегу, на заботливо положенную охапку душистого сена, а Рыська вдруг прыгнула мне на руки, повисла на шее, как бывало. Я погладил ее, потрепал по холке и хотел снять, но Рыська, обхватив меня мягкими лапами, прижималась, не отпускала…
– Надо же, – подергал спутанную бороду дед Степан. – Бессловесная, а соображает…
С трудом сняв Рыську, я приласкал ее, постарался успокоить.
– Запри ее в доме, дед. Не то за нами увяжется…
– В избу нельзя, – возразил старик. – Она мне враз окошки высадит. В сараюшку запрем. Заведи-ка ее туда.
Я пошел в сарай, маня за собой Рыську, она доверчиво трусила следом, вошла в сарай и была заперта.
– Прости меня, Рыська! Всего тебе доброго и до скорой встречи!
Но встретиться больше нам было не суждено. В конце декабря дед Степан прислал красочную открытку, в которой помимо новогодних поздравлений и пожеланий сообщал, что Рыськи на кордоне больше нет. «Повадилась по лесу шляться. По два-три дня пропадала, по неделям, а потом и навовсе ушла. Но я на нее не в обиде: в родимый дом вернулась. Как в гостях ни хорошо, а дома лучше…»
Прощай, Рыська!
Прости…

Глава четвертая
Дьявольское отродье

Новогодний праздник мы по-прежнему отмечали вчетвером, не изменяя сложившейся традиции. Первым заявился, конечно, Васька; большой любитель всяческих застолий, он, хотя и причинял всем, кто с ним общался, немало хлопот, был удобен тем, что охотно выполнял любую, даже самую неприятную, работу и никогда по этому поводу не ворчал. И в этот раз сразу же начал помогать мне накрывать на стол, открывать консервные банки и откупоривать бутылки. Николай принес мне в подарок свою картину; обернутый плотной бумагой шедевр, водруженный на видное место, ждал своего часа – Коля хотел продемонстрировать его сразу всем. Марк основательно запаздывал, по уважительным, однако, причинам – готовился к выступлению на каком-то симпозиуме, о чем предупредил меня по телефону.
После пышных тостов, когда разговор вошел в более спокойное русло, Николай сорвал обертку с картины, и мы снова очутились в знойных песках Каракумов, где было столько прожито и так много пережито. Естественно, начались воспоминания, и взволнованные беседы на «пустынную» тему не прекращались до утра. А утром все единодушно решили ехать в полюбившуюся нам Туркмению этой весной. И хотя со змеями в принципе было покончено, всем нам очень хотелось еще раз полюбоваться удивительной природой Средней Азии.
Два дня спустя, все еще находясь под впечатлением новогоднего вечера воспоминаний, я принес в редакцию Колину картину и продемонстрировал ее главному редактору, втайне желая возбудить у него интерес к этому региону, чтобы получить впоследствии туда командировку. Главный повертел картину в руках, полюбовался на нее издали, сдержанно похвалил создавшего полотно художника и неожиданно заговорил о далеком крае снегов и морозов и жизни малых народов, населяющих север Сибири.
– Ничего темочка? Вдохновляет?
– Не очень… А какая, собственно, связь с предметом нашего разговора?
– Никакой. А тема, которую я предлагаю, тебя непременно увлечет. Сейчас загоришься. Там полно всякой экзотики, один медвежий праздник чего стоит!
Наш главный был красноречив и славился тем, что умел убеждать. Злые языки утверждали, что он, убеждая, принуждал. Я слушал, не перебивал и не протестовал и довольно быстро согласился ехать куда-то к черту на кулички, но, покидая редакторский кабинет, так и не понял, зачем главному понадобился этот медвежий праздник и стоит ли ради него гнать корреспондента за тридевять земель. Впрочем, приближалось время подписки, а оно всегда характеризуется появлением на страницах газет материалов, которых в другие дни не увидишь. Материалы эти, должные, по мнению руководства, привлечь к газете внимание подписчиков, журналисты называли «завлекалочками».
До пункта назначения добирался я долго, летел самолетами, сначала большим, затем почтовыми. В маленьком западносибирском городке зашел в редакцию местной газеты, где меня соответствующим образом экипировали. Теплая армейская дубленка и шапка-ушанка, в коих я прибыл, были тотчас же забракованы, а добротные валенки подняты на смех – для предстоящего путешествия все это было совершенно непригодно. Пришлось позаимствовать во временное пользование у коллег своеобразный меховой костюм, который здесь назывался «гусь», унты, меховую рубаху – кухлянку, сверху еще надевалась сшитая из оленьих шкур шуба с капором – малица. В таком обмундировании мороз не страшен, страшно было свалиться на полном ходу с оленьих нарт: не заметит проводник-погонщик – пропадешь; пешком в непривычной одежде я передвигался с черепашьей скоростью.
И вот легкие нарты летят по льду замерзшей реки. Безмолвная ледяная пустыня залита холодным лунным светом. В иссиня-черной вышине взмигивают, переливаются зеленоватые звезды, поскрипывают, подпрыгивают на ухабах полозья, отфыркиваются усталые олени, по спинам которых гуляет длинный остол – шест, которым погонщик управляет животными.
Проводник – морщинистый ханты Лука Ернов посасывает тонкую трубочку, иногда он жует крепкий, пахучий табак, то и дело сплевывая вязкую коричневую слюну. Слюна замерзает в воздухе и звонкими шариками падает на темный речной лед. Лука молчалив, может молчать весь день, но иногда его прорывает. Говорит он нескладно, перемежая речь хантыйскими, мансийскими, тунгусскими словами, но слушать его можно часами: Лука – живая история этого необычного края. Иногда он поет – тягуче, однообразно, непонятные слова песни вылетают из-под капора малицы белыми клубочками морозного пара, и над безмолвной, скованной холодом ледяной пустыней звучит странная, протяжная, тягучая, как растопленный деготь, мелодия.

За мысом в небольшой бухте проводник резко втыкает остол в снег, нарты останавливаются.
– Кушать, однако, надо. И олешки мало-мало притомились.
На берегу Лука разводит костер, набивает в жестяной чайник снег. Я потрошу свой рюкзак: заботливые коллеги дали мне с собой большой кусок молока, желтого, как постный сахар. Лука с интересом разглядывает содержимое рюкзака, осторожно осведомляется, вернее, с сожалением констатирует:
– Бутылка, значит, не взял?
Лука разочарованно вздыхает, бормочет нечто непонятное и уходит к оленям. Я сконфуженно завязываю мешок, с недоумением верчу в руках замерзшее молоко: что с ним делать?
– Эй, друг! – зовет Лука. – Ходи сюда, пожалуйста!
Похоже, проводник нашел что-то интересное. Лука расчищает на речном льду небольшую площадку, смахнув снег, старательно полирует гладкую темную поверхность рукавицей, топором и кайлом пробивает лунку. Лед толстенный, топор отскакивает, словно от литой резины. Наконец дело сделано, и в пробитом отверстии мелькают рыбьи головы, рыбы чуть ли не выпрыгивают на лед, разевают овальные рты, жадно дышат. В скованной ледяным покровом реке они мучились от кислородного голодания. Но Лука прорубил полынью вовсе не из гуманных побуждений. Сбегав к нартам, он притащил длинный трезубец и ловко поддел несколько рыбешек. Одну проводник тут же сжевал.
– Сырок! Вкусно, однако.
Я сплюнул; Лука стал утверждать, что вкуснее сырой рыбы он никогда ничего не ел. А если б к этой замечательной закуске добавить еще и кружку спирта…
Я здорово проголодался, но все же примеру проводника не последовал; Лука тем временем выловил крупную стерлядь и бросил ее на снег.
– А это тебе. Кушай, пожалуйста.
– Благодарю. Что-то не хочется, – неуверенно отказывался я, но Лука не отставал:
– Нехорошо, однако. Неправильно. Обижаешь. А ты, друг, не боишься?
Лука режет рыбу, как батон хлеба. Стерлядь бескостная, режется легко. Сидим на нартах у костра, ветра нет, костер горит ярким пламенем, острые языки огня лижут черное небо. Лука с аппетитом жует только что выловленную рыбу, запивает крепким, заваренным до черноты чаем. Я все еще не могу заставить себя попробовать сырую рыбу, к горлу подкатывает комок, подташнивает.
– Она уже не сырая, однако, – замечает Лука. – Она мороженая. – И удивляется: неужто в Москве мороженую рыбу не едят?
Усилием воли подавив отвращение, беру отрезанный ломтик. От холода заныли зубы, во рту похрустывают, плавятся маленькие льдинки. Пытаюсь разобраться во вкусовых ощущениях, беру второй кусок, тянусь за третьим. Лука довольно улыбается…
С тех пор прошло много лет, но и сегодня я считаю, что свежемороженая стерлядка изумительна. Как-то незаметно уничтожаю рыбку целиком. Проводник одобрительно кивает головой, причмокивает:
– Сейчас бы пиртику…
После ужина закуриваем. Лука из уважения к московским папиросам отказывается от своей жвачки, с наслаждением затягивается горьковатым дымком, пускает быстро тающие в морозном воздухе сизые колечки.
– Ты, друг, только стерлядку кушай, другой рыба не кушай. Сырка не кушай, налима не кушай: печеночного наживешь.
Да, я уже слышал об этом. В речной рыбе, за исключением стерляди, паразитирует особый глист, местное население очень боится его, много о нем говорит, тем не менее рыбкой сырой лакомится и, как следствие, страдает от вызванного «печеночником» заболевания. Попадая в организм человека, этот паразит гнездится в печени, периодически вызывая приступы сильной боли. На Иртыше, Тоболе, Оби этим заболеванием страдает немало людей. Врачи ведут разъяснительную, профилактическую работу, читают лекции, рассказывают о паразите. Не знаю, как сейчас, но в те годы радикального средства борьбы с «печеночником» не существовало…
Нарты летят вперед, Лука бурчит под нос нескончаемую песню, а я предпринимаю героические усилия, стараясь не свалиться: олешки отдохнули и идут в сумасшедшем темпе. Часа через полтора взбираемся на обрывистую крутизну правобережья. До стана рыбацкой артели остается километров тридцать, хотя кто их тут считал, эти километры?
Заночевали мы в чистой просторной избе у родственников Луки. Хозяин принял меня радушно, угостил копченой медвежатиной, улыбаясь, проговорил:
– Хорошо, что к нам приехали, очень хорошо. Как раз на праздник!
Торжество, ради которого я приехал, должно было состояться вечером. У некоторых народов Северной Сибири на протяжении веков существует своеобразный культ медведя. Медведь считается священным животным, ему поклоняются, хотя это вовсе не означает, что медведя нельзя убивать. Наоборот, добывшего медведя охотника чествует все селение. И все же к медведю местные жители относились с почтением – нельзя ни в коем случае его ругать, даже думать плохо о косолапом нельзя.
В селении десяток добротных рубленых изб, где живут рыбаки и охотники, рядом разбросаны остроконечные, крытые берестой чумы. Недавние кочевники прочно осели на земле, но отказаться от вековых привычек нелегко, поэтому зимой люди живут в теплых избах, а летом в легких чумах.
Медвежий праздник устроили в чуме. Просторный чум заполнили жители, расселись на постеленных оленьих шкурах, а кому шкур не хватило, устроились на корточках. Чум изнутри кажется хлипким, берестяная крыша покоится на семи шестах. Маленькие листки вываренной бересты прикрывают дымовое отверстие. Листки настолько тонки, что летящий вверх дым очага легко сдвигает их, прорывается наружу. Когда костер гаснет, листки падают, прикрывают дымовое отверстие, сохраняя в чуме тепло. Впрочем, это только теоретически – берестяная крыша напоминает решето, в многочисленные дырки заглядывают звезды. Ветер свищет изо всех щелей, но стоит ли обращать внимание на такие мелочи? Конечно же нет. Лучше смотреть на бесстрашного удачливого охотника. Какого гиганта он подстрелил! Свалить медведя-шатуна с одной пули – это что-нибудь да значит! Не дай Бог промахнуться, поранить зверя – задерет! Не спасут ни ноги, ни деревья. А Иван попал ему прямо в глаз. Чуть дрогнула б рука, и пуля, скользнув по крепкому черепу, только взъярила бы зверя, и тогда…
О подвиге отважного охотника шепчутся старухи, одобрительно качают головами старики, звонкоголосо смеются девушки, кокетливо поглядывая на удальца, скашивают черные вишенки глаз. Сидящий рядом со мной трехлетний малыш смотрит на охотника с восхищением. Малыш курит короткую трубочку, как заправский курильщик пускает дымок из ноздрей. Его дряхлая прабабка берет у ребенка трубку, делает несколько глубоких затяжек и, вытерев мундштук рукавом, сует его в розовые губенки.
Тамм! Тамм! Тамм! – загудел бубен, звякнули бубенцы. Вперед вышел молодой, статный, тонкий в талии парень, поклонился виновнику торжества – медведю, чья шкура лежала на почетном месте, поклонился и добывшему его охотнику и начал долгий танец. Танцор показывал, как охотник надевает лыжи, берет ружье, идет по лесу, постепенно движения его замедляются, он увидел следы на снегу. Идет по следам, идет, и вот появляется медведь. Охотник стреляет, промахивается и бросается на медведя с ножом. Бубен грохочет сильнее, чаще, зрители подбадривают танцора, танец идет в очень быстром темпе. Движения исполнителя настолько реалистичны, что создается впечатление настоящей схватки. Музыкант с бубном так старается, что вот-вот пробьет бубен; бубенчики выбивают дробь, звенят какие-то побрякушки на поясе танцора. Темп убыстряется, и наконец апофеоз – всеобщее ликование, медведь убит.
Охотник устало вытирает пот, вынимает из матерчатых ножен нож, умело снимает мохнатую шкуру, вырезает медвежье сердце. Зрители восторженно приветствуют храбреца.
– Сердце медведя придает человеку силу, – негромко поясняет Лука. – Кто его съест, становится знаменитым охотником, сильным, как медведь. Этот человек – Иван – съел много медвежьих сердец.
– А ты?
Лука растерянно моргает воспаленными ресницами, он явно смущен, не ожидал подобного вопроса.
– А что – я?
– Ты ел медвежьи сердца?
– Нет, однако, – оглядываясь по сторонам, тихо отвечает Лука, вопрос ему явно неприятен. Проводник боится, что наш разговор услышат.
– Значит, ты считаешь себя слабеньким?
Хмурое лицо проводника светлеет – он очень силен. На стоянке я видел, как Лука, распутывая упряжь, легко поднял оленя.
– Значит, человек бывает сильным не только от медвежьих сердец?
И опять Луке не нравится вопрос. Он думает, что я не верю в сверхъестественные свойства медвежьего сердца, это ему неприятно, и он дипломатично замечает:
– Сила у меня от отца, однако. Отец был знаменитым охотником, он медвежьи сердца ел. Сильный был, однако, очень сильный, такой сильный, что ого-го!
Лука подозрительно разговорчив, глазки блестят, похоже, сегодня не обошлось без «пирта»…
А праздник тем временем продолжается: присутствующие поздравляют охотника, поздравляют друг друга. Мне наливают в жестяную кружку остро пахнущую жидкость, отрезают кусок дымящегося медвежьего мяса. Медвежатина хотя и жестковата, но довольно вкусна, особенно понравился копченый медвежий окорок. Я отдаю должное кулинарным способностям жены Ивана, которая сидит рядом со мной и внимательно следит, чтобы моя миска не пустовала. Я уничтожаю жареную медвежатину с негаснущим аппетитом, и миловидной хозяйке скучать не приходится.
Внезапно разноголосица стихает, Лука, припадая к моему плечу, шепчет, что сейчас произойдет торжественная церемония съедания медвежьей головы. Ее приносят на берестяном подносе две молоденькие девушки. Голова сварена целиком; герой дня выходит вперед, кланяется и обращается к голове с длинной речью. Мне переводят; охотник приносит свои извинения медведю за то, что его убил, говорит, что не мог поступить иначе, просит, чтобы медведь не обижался и не сетовал на участь горькую. Охотник умолк, еще раз низко поклонился, гости, вооружившись ножами, стали отрезать для себя куски мяса. Взглянув на медвежью башку с разинутой пастью, с вытаращенными глазками, я почувствовал, что уже вполне насытился и не в состоянии больше съесть ни кусочка. Гости быстро оголили медвежий череп, Лука тронул меня за руку. Он что-то бормотал, но «пирт» сделал проводника косноязычным, и я толком его не понял. Выручила жена охотника, перевела:
– Без разрешения охотника, убившего медведя, глаза и нос зверя никому нельзя трогать. Эти лакомства предназначены только для почетных гостей, и охотник сам решит, кому их дать.
От этих слов мне стало не по себе, я беспокойно завертелся на месте, а Лука тем временем что-то сказал охотнику, тот заулыбался, взял поднос с медвежьей головой и подошел ко мне.
– Муж просит вас скушать медвежьи глаза, – любезно перевела супруга, сглатывая слюну от предвкушения изысканного блюда. – А нос он скушает сам. Такова воля добывшего зверя охотника, отказываться нельзя. Обидится, однако…
От этого предложения меня бросило в пот, но что поделаешь – положение безвыходное. Подавая мне пример, охотник аппетитно зажевал медвежий нос. Содрогаясь от отвращения, я взял с подноса скользкий медвежий глаз и, давясь, откусил кусок, как от яблока. Невероятное ощущение! Челюсти свело судорогой, присутствующим казалось, что я радостно улыбаюсь, но, честное слово, мне было совсем не до того. Призвав на помощь все свое самообладание, я силился усмирить взбунтовавшийся желудок. Охотник в этот момент вновь поклонился, похоже, уже не медведю, а мне, проговорив длинную фразу, виновато развел руками.
– Он очень извиняется перед вами, что не сохранился второй глаз, – перевела женщина. – Он не виноват – глаз разбила пуля.
– Скажите вашему мужу, что он великий охотник, таких охотников я никогда не встречал. Скажите, что я очень благодарен ему за приглашение на этот замечательный праздник и особенно за то, что он попал медведю прямо в глаз, – простонал я и, вконец обессиленный этой тирадой, откинулся на оленьи шкуры.
В тайге, на берегу речки Серебрянки, Лука построил заимку, куда пригласил меня отдохнуть после медвежьего праздника. В конце января морозы пошли на убыль, целыми днями падал мохнатый снег. Идти на лыжах по целине было тяжело, особенно мне, так как я к широким охотничьим лыжам без палок не привык, шел на них второй раз в жизни. Местные же жители прекрасно обходились без палок, исходя из того, что руки охотника всегда должны быть свободными.
Мы идем уже несколько часов, а до заимки еще далеко. Лука, идущий впереди, прокладывает лыжню. Он нагружен мешками, как верблюд, кроме того, у него два ружья – тульская бескуровка шестнадцатого калибра и многозарядный малокалиберный карабин – мощное нарезное оружие: в тайге может случиться всякое… Несмотря на нелегкую ношу, Лука идет легко, не задевая поникших под тяжестью снеговых шапок ветвей деревьев. Мне это не удается, и я похож на молодого Деда Мороза.
Тайга в зимнем уборе – сказочное, дивное зрелище, хотя, пожалуй, слишком суровое для сказки. Подавленный ее первозданным величием, чувствуешь себя слабым, тщедушным, но ощущение одиночества, неуверенности в своих силах, рожденное белым безмолвием, исчезает, когда берешь в руки ружье. Вмиг отлетают прочь все сомнения, опасения, колебания, оружие придает уверенности, в твоих руках могучая сила, и пусть только попробует кто напасть: глаз зорок, рука не дрогнет, ружьишко не подведет.
К вечеру сквозь плотный заслон ельника пробиваемся на поляну, Лука останавливается, достает подаренные мной папиросы:
– Однако, пришли. Закуривай, друг.
– Где же твоя избушка?
– Заимка? Вот она! – Лука указывает на снежный бугор. Саперной лопаткой разгребаем снег, он слежался, приходится прорубать в снегу настоящие ходы сообщения. Через полчаса в заимке уже весело потрескивают сухие поленья, огонь печурки-плиты наполняет комнатку живительным теплом. В заимке чистота и порядок. Здесь путник всегда может обогреться, переждать непогоду, сварить похлебку, вскипятить чай, отдохнуть. В заимке хранится запас топлива, продуктов, дроби, пороха. По неписаным законам тайги каждый, кто побывает в избушке, должен, уходя, оставить в сенях вязанку дров, немного муки или других продуктов, пополнить израсходованные охотничьи припасы.
Закончив осмотр своего хозяйства, Лука убеждается в том, что все на месте.
– А может, здесь никого не было?
– Были, однако. Порох в банку досыпали, пачку пыжей оставили.
Я с наслаждением растягиваюсь на лавке, но блаженство длится недолго, нужно вставать и готовить ужин. Лука времени напрасно терять не намерен, собирается ставить капканы – разве допустит охотничье сердце, чтобы они всю ночь пролежали в сенях? Притащив капканы в избу, Лука тщательно их осмотрел, почистил, что-то подкрутил, подвинтил. Я никогда не видел, как устанавливают ловушки, хотелось пойти с Лукой, но усталость давала о себе знать, к тому же у охотника-капканщика есть что-то общее с рыболовом: сиди и жди, когда рыбка клюнет, может, и не клюнет, но авось клюнет…
В общем, Лука ушел, а я остался в заимке. Полежал, полежал и встал – спать не хотелось. Ни с того ни с сего я решил сделать пельмени, до сих пор не понимаю, зачем это мне понадобилось. Кулинар я не бог весть какой, любой сибиряк мне в этом деле фору даст, пельмешки здесь готовят впрок тысячами, в кафе счет идет на сотни. Официантки, когда речь заходит о пельменях, спрашивают: «Вам одну-две сотни?» Тогда у Луки я провозился с пельменями чуть ли не всю ночь, возвратившийся Лука, застав меня за этим занятием, удивился, но спрашивать ни о чем не стал, хотя я по неопытности извел едва ли не весь запас муки, а мяса мне просто не хватило.
Немного отдохнув, мы выпили чаю, решив, что пельмени оставим на обед, и начали одеваться. Лука кивнул на мою продукцию, ухмыльнулся:
– На роту солдат, однако, хватит…
Ночью над тайгой пронеслась вьюга, это было нам на руку, все встречавшиеся следы были свежими, оставленными совсем недавно. В то утро Луке повезло, он добыл пять белок, а на обратном пути подстрелил матерого глухаря.
Обрадованный успехом, Лука предложил оставить добычу в заимке и походить по лесу еще часок-другой, я не возражал, наблюдать за действиями настоящего охотника было интересно. На этот раз все было иначе, тайга казалась пустой, вымершей, от тишины звенело в ушах; Лука так ни разу и не выстрелил.
Раздосадованные, усталые мы возвращались домой, лыжи казались тяжелыми, неуклюжими. Лука сетовал на то, что не взял у соседа лайку, уж она-то нам помогла бы. А без собаки какая охота? Неподалеку от заимки мы заметили белку: забравшись на высокую ель, белка уронила на нас сухую шишку, затем, словно поддразнивая, сбежала по стволу и уселась на суку.
Лука поднял карабин, мне стало жаль задорную игрунью, и я попросил охотника не стрелять; Лука, видимо, подумал, что я рехнулся, но спорить не стал, а белка, не подозревая, что избавилась от смертельной опасности, продолжала озорничать, роняла шишки, прыгала по веткам, как заводная игрушка; задев пушистый ком снега, обрушила его прямо на голову Луки.
Вынув из-за пояса топорик, Лука с силой стукнул обухом по стволу ели, глухой удар прокатился по тайге, с ветвей посыпался снег, белка оборвалась с дерева и пушистым комком упала в сугроб.
– Лови, хватай ее! – заорал Лука на весь лес. – За хвост ее!
Насмерть перепуганный зверек, взлетев на дерево, понесся прочь.
– Пора, однако, – улыбаясь, сказал Лука. – Нас ждут пельмешки. Попробуем, что ты налепил.
Почувствовав, что сильно проголодались, мы поспешили к заимке. Убрав лыжи в сени, сняв мешки, мы вошли в комнатку и замерли, пораженные, – все здесь было перевернуто вверх дном. Вещи, сброшенные с аккуратных полочек, в беспорядке лежали на полу среди каких-то тряпок, обсыпанные сахарным песком из разорванного пакета; из закопченного зева печи торчал кусок сала, испачканный золой, а гордость моя – пельмени, над которыми я трудился столько времени, просто испарились, за исключением нескольких раздавленных и вымазанных в грязи. Не понимая, в чем дело, мы с потерянным видом слонялись по избушке, сообщая друг другу невеселые новости: это сломано, это разодрано, то разбросано, то перебито…
Опомнившись, мы выбежали из избушки, чтобы увидеть следы дерзких преступников, но ничего не обнаружили. Это обстоятельство окончательно сбило нас с толку – что за чертовщина?! Кто-то побывал в заимке, утащил и перепортил продукты, изорвал и переломал вещи и ухитрился при всем этом не оставить никаких следов. Не на вертолете же прибыли и убрались грабители! Проваливаясь по пояс в глубокий снег, мы околесили избушку, но ничего не нашли – ни следочка. Голодные и злые как черти, сидели мы у холодного очага, ломая головы над неразрешимой загадкой. Потом голод взял свое, из уцелевших продуктов (а сохранились только консервы, небольшой кусок сала и сухари) мы приготовили наспех обед и молча съели его. Напряженная тишина была нарушена лишь однажды Лукой, который заявил, что более отвратительной пищи, чем сладкое сало (кусок сала был вывалян в сахарном песке), он в жизни никогда еще не ел. Немного насытившись, мы снова принялись за осмотр и обшарили избушку скрупулезно, как следователи. Постепенно выяснились некоторые детали, позволившие сделать кое-какие выводы.
Первым делом мы обратили внимание на большое количество сажи, рассыпанной на полу. Особенно эффектно она выглядела на заброшенном под скамейку полотенце. Сажа виднелась повсюду, похоже было, что неизвестные громилы проникли в заимку через печную трубу. Версия эта хоть и была маловероятна, проверки все-таки требовала.
Мы вышли из избушки и, проклиная нарушителей спокойствия, полезли на крышу, где сразу обнаружили большие следы, отдаленно напоминающие кошачьи. Лапы у безвестного четвероного – а теперь мы были убеждены, что подверглись налету не людей, а зверя, – были большими. Рысь? Не похоже. Клок шерсти, найденный Лукой, позволил ему безошибочно определить «личность» грабителя:
– Росомаха, однако! Не иначе она. Ее заделье, ее!
Так вот кто орудовал в заимке! Спрыгнув с крыши, мы вернулись в заимку и стали горячо обсуждать план мести. Лука был вне себя, я же росомаху не только никогда не видел, но, к своему стыду, ничего толком о ней не знал, поэтому слушал перемежаемую крепкими словами характеристику зверя с большим вниманием.
– Какая она, росомаха? Как выглядит?
– Ростом невелика, чуть поболе песца, только ты не гляди, что махонькая, она олешков запросто берет, да что там олешков – лося заваливает! Уж на что здоровущ сохатый, а супротив росомахи не выстоит; а похожа она на горбатого медвежонка…
– Как же росомаха с лосем справляется, ведь он огромный?
– Валит его, однако. Летом лось может от нее убежать, а зимой нет. Росомаха гонит его день, два, может бежать и не устает, а сохатый из сил выбьется и падает. Почему? Лось проваливается в снег, а эта тварь нет. Лапы у ней широкие, тридцать, сорок километров бежит за лосем, ждет, когда сохатый совсем обессилеет, тогда росомаха и навалится – зубами, когтями рвет на куски. Один кусок в снег зароет, другие на деревьях развесит, так и живет возле лосиной туши, пока всю не сожрет, пока дочиста не обглодает.
Впоследствии, вернувшись в Москву, я узнал о росомахе немало любопытных подробностей. Небольшой вес и очень широкие лапы создают незначительную нагрузку на снег, позволяют зверю бежать по глубокому снежному покрову, совершенно не проваливаясь, словно на широких охотничьих лыжах, поэтому росомаха способна, не затрачивая больших усилий, быстро преодолевать значительные расстояния, в то время как преследуемый ею олень или лось изнемогает от усталости и в конце концов становится легкой добычей хищника.
По свидетельству некоторых исследователей, росомаха разделывает тушу оленя или лося не хуже заправского мясника, буквально расчленяет ее, причем управляется с этой работой в считанные минуты. Известный читинский поэт Георгий Граубин, исходивший сибирскую тайгу вдоль и поперек, прекрасно изучивший ее, в своей увлекательной книге «Четырехэтажная тайга» рассказывает, что добычу свою росомаха «закапывает», устраивает настоящие склады, поселяется возле своих «закопушек», никого к ним не подпуская, и живет на этом месте, пока все не съест. Многие звери прячут пищу на черный день – соболь, хорек, ласка. Но до росомахи им далеко. «В запасниках росомахи находили по двадцать песцов и по сто куропаток. Если у добычи сойдется несколько росомах, то они готовы друг дружке горло перегрызть. Рысь, несущая добычу, если увидит направляющуюся к ней росомаху, бросает добычу и убегает… Росомаха настырна, навязчива, прилипчива и пакостлива».
Лука, удостоверившись в том, что жилье подверглось нападению росомахи, очень расстроился. Обычно немногословный, сдержанный, он поносил росомаху с нескрываемой злобой:
– Поганый зверь, однако. Поганей нету. Самый бандит! Капканы раньше охотников обходит, всю добычу метет подчистую. Росомаха, ежели однажды повадится на какое-то место приходить, в заимку к примеру, все перепортит, все изгадит. Не будет нам теперь удачи, не будет. А убить ее очень трудно – хитрющая…
– Жаль, собак нет – помогли бы ее найти.
– Собаки ее боятся. Даже те, с какими на медведя охотятся. Бегут от нее собачки, как от лесного пожара!
– Неужто и их загрызть может?
– Может, однако. Но у нее не только зубы да когти, она еще вонькая шибко. Вонят и вонят!
Оказалось, что росомаха наделена и орудием особого свойства: недругов встречает струей, от которой шарахаются, по словам того же Граубина, даже «самые бесстрашные собаки».
– Не будет нам теперь удачи, однако, – сокрушаясь, повторял Лука. – В заимку теперь повадится, подлая…
Лука принял решение росомаху уничтожить, никакие уговоры и просьбы изловить зверя живьем на него не действовали, впрочем, обдумав сложившуюся ситуацию, я перестал на Луку наседать, совершенно не представляя, что буду делать со зверем, если Лука передумает и ее поймает. Лука же, обозленный причиненным ему ущербом, жаждал крови и обрушился даже на собственные капканы, сказав, что они для охоты на росомаху не пригодны.
– Убить ее, однако. Убить!
– Но как же ты росомаху выследишь?
– Найду ее. Никуда не денется – найду! – Это было сказано с такой решимостью, что мне даже сделалось жаль ловкого зверя.
Два дня мы безуспешно рыскали по тайге, выслеживая росомаху, но зверь ничем себя не обнаружил, словно боялся ответственности за содеянное. На третьи сутки после обеда я взял карабин, встал на лыжи и побрел в указанном Лукой восточном направлении. Самому Луке нездоровилось, и он остался в заимке. Перед уходом я проверил наручный компас: места незнакомые, легко заблудиться. Я шел не торопясь, плотно уминая снег – сам себе прокладывал лыжню. Постепенно стемнело, наступление ночи не смутило меня: в небе ни облачка, скоро взойдет луна и станет довольно светло. Я, разумеется, отдавал себе отчет, что ночью в тайге человеку делать нечего, если какой-нибудь шальной зверь и появится поблизости, то его все равно не увидишь, преследовать не станешь, но мысли о росомахе не давали покоя – вдруг повезет и я встречусь с этим удивительным животным!








