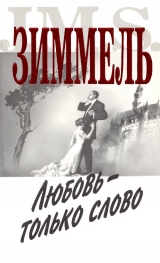
Текст книги "Любовь - только слово"
Автор книги: Йоханнес Марио Зиммель
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 41 страниц)
Глава 17
Вы знаете Яна Стюарта, американского кинорежиссера? Так вот, шеф выглядит точно так же! Очень высокого роста, слишком длинные ноги и руки, короткие, уже седеющие волосы, неуклюжие, размашистые движения. И поскольку он такой большой, то слегка наклоняется вперед. Возраст? Я бы сказал, самое большее пятьдесят пять.
Он говорит всегда тихо и дружелюбно, никогда не повышает голоса. Он само спокойствие. В сером фланелевом костюме он сидит за своим письменным столом и долго молча рассматривает кончики пальцев. У него умные серые глаза. Я сижу перед ним в глубоком кресле, ниже, чем он, и выдерживаю его взгляд. Заговорит же он когда-нибудь, думаю я. И это происходит. Он спрашивает:
– Ты куришь? – И быстро добавляет: – Я говорю «ты» в основном всем ученикам, даже взрослым. Разве только они сами пожелают, чтобы я говорил «вы». А как обращаться к тебе?
– Лучше на «ты».
Мы курим. Он говорит спокойно, тихо:
– Дела с тобой, Оливер, обстоят просто. Тебе двадцать один год. Трижды оставался на второй год, вылетал из пяти интернатов, я читал отчеты. Это всегда были истории с девушками. Я знаю, что никакой другой интернат в Германии не захочет тебя принять. Итак, не рассматривай нашу школу как трамвайную остановку. Это станция конечная. После нас идти больше некуда.
Я молчу, так как мне вдруг стало совсем нехорошо. Собственно говоря, я ведь хотел и отсюда вылететь – из-за своего возраста. Но теперь я познакомился с Вереной…
Шеф говорит, смеясь:
– Впрочем, я не думаю, что с тобой будут сложности.
– Но я трудный, господин доктор, это значится во всех отчетах.
Он смеется.
– А я люблю трудности. И знаешь почему? Без них скучно. А если у меня трудности, я всегда думаю: подожди-ка, за этим что-то скрывается!
Человек он, пожалуй, рафинированный.
– Мы вообще используем здесь другие методы.
– Да, я это уже заметил.
– Когда?
– Я видел конструктор, с которым вы проводите эти тесты. Фрейлейн Гильденбранд все объяснила мне.
Лицо его становится печальным, и он проводит рукой по лбу.
– Фрейлейн Гильденбранд, – говорит он растерянно, – да, это, конечно, личность. Моя давняя сотрудница. Только ее глаза… Она так плохо видит. Ты не заметил?
– Она плохо видит? По-моему, нет, мне это действительно не бросилось в глаза, господин доктор!
– Ах, Оливер! – Он вздыхает. – Это была приятная ложь. Но я не люблю вежливой лжи. Я вообще не люблю ложь. Поэтому я не спрашиваю тебя о том, что ты делал в корпусе «А», и почему так поздно пришел ко мне. Ты бы меня все равно обманул. Я задаю вопросы очень редко. Но не надо думать, что в действительности порядок вещей у нас такой же, как и во всех других интернатах. Если кто-то невыносим, его исключают. Понятно?
– Конечно, господин доктор.
– Это касается и тебя. Ясно?
– Да.
– Мой интернат дорогой. За редким исключением, все получают стипендию. У меня только дети богатых родителей. – Теперь в голосе его сквозит ирония: – Элита интернационального мира.
– Как, например, я, – сказал я с такой же иронией, – мой отец действительно относится к интернациональной элите.
– Речь не об этом. Я не воспитываю родителей, особенно ваших. Ты и другие мои воспитанники однажды примете от своих отцов принадлежащие им заводы, верфи и банки. Когда-нибудь вы будете наверху. А потом? Сколько несчастий вы можете принести из-за вашей избранности, богатства, снобизма? За это я и несу ответственность.
– За что?
– Чтобы вы не причинили зла. Или причинили его не так много. Мы все здесь: фрейлейн Гильденбранд, учителя, воспитатели и я – стараемся правильно воспитывать вас и воспрепятствовать худшему. Ведь ваши родители дают деньги, которые в первую очередь предназначены для того, чтобы мы могли сформировать ваши личности так, чтобы в будущем вы стали если не идеалом, то, во всяком случае, образцом для подражания. Поэтому я выбрасываю каждого, кто не перевоспитывается. Понял?
– Да, господин доктор.
– Скажи, почему я так поступаю.
– Вы не хотите быть виновным в том, что лет через десять или двадцать эти самые образцы для подражания окажутся фальшивыми.
Он кивает и смеется, сжимая пальцы.
– А как ты думаешь, почему я стал учителем?
– Ну вот поэтому.
– Нет.
– Тогда почему?
– Слушай меня внимательно. Когда-то у меня был учитель, которого я считал идиотом.
Кажется, передо мной человек, который, пожалуй, что-то соображает! Сначала прочитал мораль, теперь пошли анекдоты. Он не похож на тупого учителя, избивающего учеников, нет, определенно, он мне нравится.
Нравлюсь ли я ему тоже?
Я меняю тональность на дерзкую, чтобы проверить его.
– Идиот? – переспрашиваю я. – Разве это понятие вообще применимо к учителям?
– Конечно. Слушай дальше. В девять лет я был абсолютно безграмотным, и, хотя мой учитель был идиотом, все же по части грамоты он превосходил меня и частенько прикладывал ко мне руку. Ежедневно, Оливер, ежедневно! Другие дети, по крайней мере, имели передышку, но не я, меня он мучил каждый день.
– Бедный доктор Флориан.
– Подожди немного с сочувствием. Скоро по твоей щеке потекут слезы. Побои в школе – это еще не все. Дома, когда мой отец смотрел тетради, не то еще случалось. Он был очень вспыльчив, мой отец, так как у него было высокое давление.
– Мне это знакомо, – говорю я и думаю: «Еще никогда я не чувствовал себя у кого-нибудь как дома». – Мой старик такой же. Вы ведь сами знаете, что с ним случилось, господин доктор.
Он кивает.
– Приходится только удивляться, – говорю я, и это звучит не дерзко, а уважительно, – что после всего этого вы стали таким здравомыслящим человеком!
– Я с трудом брал себя в руки, – говорит он, – и, кроме того, ты не знаешь, каков я на самом деле. – Он ударяет себя в грудь. – Но все ужасное внутри, как заметил когда-то Шиллер. Да, внутри. Каждый имеет то, что хочет.
Если бы я был девочкой, я бы влюбился в шефа. Мужик что надо. Есть ли у него жена? Кольца я не вижу.
Да, каждый может иметь то, что он хочет. Хотел бы я стать когда-нибудь таким. Тихо, решительно, умно и с ощущением радости. Но все это остается лишь благими намерениями…
– Теперь будь внимателен, – говорит шеф. – Мой отец, мелкий служащий, не особо церемонился со мной. Он избивал и двух моих братьев наравне со мной и ругался с матерью. Когда мне было девять лет, тогда, пожалуй, и возникло грозовое облако над домом Флориана!
Он говорил об этом, смеясь и одновременно делая гимнастику для пальцев, и мне тут же приходит в голову мысль: а действительно ли он так несчастлив? То, что он несчастлив, я чувствую внезапно. Причем ясно, совершенно отчетливо и как-то очень остро, чересчур остро. Я иногда знаю, что думают другие, что происходит с ними, – и это всегда верно.
Что же так угнетает шефа?
– Моя мать, – продолжает он, – уже совсем отчаялась. Потом все же у нас появился новый учитель. Он не был похож на первого, он отвел меня в сторону и сказал: «Я знаю о твоих трудностях, о проблемах с правописанием и о том, что происходит дома. Я не буду подчеркивать ошибки в твоих работах. Ты же не должен ни в коем случае терять надежды. А теперь за дело!»
– Черт возьми!
– Да, черт возьми! Ты знаешь, что было в результате?
– Ну, вероятно, покой и согласие снова возвратились в ваш милый дом.
– Именно так. Но он сказал, что я – совершенно особый случай, и это пробудило во мне дух противоречия. Это привело меня в ярость. Никому неохота считать себя неудачником. Не так ли? Я взял себя в руки. И спустя несколько месяцев писал абсолютно без ошибок. И знаешь, что я решил тогда?
– Стать учителем.
– Теперь ты это знаешь. Я хотел стать таким учителем, как этот второй, его звали Зельман. Мы называли его только так: «душа». Мне хотелось иметь свою собственную школу, где бы я применял свои методы воспитания, и принимать отпрысков не только богатых родителей, но и талантливых бедных детей. Ведь мой отец никогда не посещал высшей школы. Почему ты так смотришь на меня?
– Ах, ничего.
– Нет, скажи.
Хорошо, скажу. Этому мужчине можно сказать все.
– Это, конечно, великолепно, что вы даете стипендию одаренным бедным. Но в этом деле не все так просто.
– Именно?
– Вы говорите, что в вашем интернате должны быть не только дети богатых, но и одаренные бедные дети.
– Да, и что?
– Таким образом, никогда не будет справедливости.
– Как не будет?
– Справедливость, или, можно сказать, равновесие, возможны лишь в том случае, если вы будете принимать и не слишком одаренных бедных детей. Получается, что одаренные бедные, получающие стипендии, невзирая на ум, прилежание и хорошие оценки, должны бросаться всем в глаза, быть у всех на виду? К чему это приведет? К карьеризму, к интригам? К подлости? Вы хотите сделать для бедных добро, это хорошо, доктор, но какой ценой? Действительно, я часто об этом размышлял. Так повсюду: одаренное меньшинство должно добиваться удвоенных успехов.
Здесь он снова рассмеялся и некоторое время совсем ничего не говорил, потом тихо ответил:
– Ты прав, Оливер. Но мир не таков, каким мы, каждый для себя, желаем его видеть. Что я должен делать? Давать стипендию и бедным идиотам? И исключать поэтому идиотов богатых? Я не могу себе этого позволить. Тогда я разорюсь. А какая от этого польза для бедных талантов?
– Вы правы, – сказал я.
– Нам надо бы почаще беседовать, – сказал он. – Ты бы не мог иногда вечером заходить ко мне?
– Охотно, господин доктор!
Господи, хоть бы раз, один только раз мой отец поговорил так со мной!
– Именно потому, что любое дело можно выполнить хорошо на шестьдесят, самое большее – на семьдесят процентов, я взвалил на себя этот груз – я имею в виду бедных детей. Так сказать, в качестве алиби перед самим собой. Да, в качестве алиби, – повторил он неожиданно резко и встал. – Это, пожалуй, все, Оливер. Ах да, еще кое-что. Ты, конечно, можешь увезти свою машину. Во Фридхайме есть гараж. Ты можешь поставить ее там. Здесь, наверху, ни у кого из учеников машины нет. Ты ведь можешь ничего не иметь, так ведь? Именно ты, который так много рассуждал о паритете и справедливости, должен понимать это.
Что можно было на это ответить? Первым желанием было надерзить. Но я повел себя иначе:
– Конечно, господин директор, – сказал я, – утром я уберу машину.
– Хорошо, твой багаж уже в «Квелленгофе». Ты можешь уехать прямо сейчас.
– Я буду жить в «Квелленгофе»?
– Я же написал обо всем твоему отцу.
– Но…
– Но что?
– Я встретил недавно Ганси, который живет в «Квелленгофе». Там ведь живут маленькие мальчики?
– Да, – сказал он. – Именно поэтому. Мы размещаем учеников таким образом, чтобы среди маленьких находились и несколько старших воспитанников, которые могли бы их защитить. И присмотреть на ними. Мы, конечно, стараемся выбирать добросовестных взрослых. В этот раз остановились на тебе.
– Не зная меня?
– После того как я узнал, что тебя исключили из пяти интернатов, мой выбор был предрешен.
– Господин доктор, – сказал я, – вы самый умный из всех, кого я знал!
– Допустим, – сказал он. – Приятно слышать. Ну и как ты поступишь?
– Это ведь ясно, как похлебка из клецок. Вы поручили мне присматривать за малышами, но одновременно и связали меня обязательством.
– Каким? – спросил он лицемерно.
– Хотите часто общаться со мной… Сделать меня образцом… и… и… Впрочем, вы сами знаете…
– Оливер, – сказал он, – я должен возвратить тебе твой комплимент. Ты самый умный юноша, которого я когда-либо встречал.
– Но сложный.
– Это я особенно люблю, ты знаешь.
– Подождите, – сказал я. – Вы еще увидите, можно ли любить такое.
– У тебя есть уязвимая точка. Она есть у каждого. У фрейлейн Гильденбранд тоже. Мне бы совсем не хотелось находиться рядом с людьми, у которых нет слабых сторон. Люди, лишенные слабостей, не совсем нормальные. Признайся, какое у тебя слабое место?
– Девочки.
– Девочки, да, – бормочет этот ужасный учитель, – и в твоем возрасте скоро будут женщины. Ты пьешь?
– Немного.
– Теперь поезжай в «Квелленгоф». Познакомься со своим воспитателем. Его зовут Гертерих. Он здесь новенький, как и ты. Твоя комната расположена на втором этаже. Там живут еще двое взрослых парней, их зовут Вольфганг Гартунг и Ноа Гольдмунд. Они старые приятели. Отец Вольфганга в 1947 году повешен американцами. Как военный преступник.
– А Ноа?
– Ноа еврей. Когда нацисты забрали родителей, его спрятали друзья. Ему был тогда один год. Он вообще не помнит своих родителей. Вольфганг, впрочем, тоже. Ему было три года, когда повесили его отца. Мать убили еще раньше. Их пребывание в интернате оплачивают родственники. Родственники Ноа живут в Лондоне.
– И они друзья?
– Самые лучшие, каких только можешь вообразить. Тебе все ясно? Ну и прекрасно! Отец Вольфганга был законченный зверь. На уроках истории постоянно говорят о нем. У нас очень радикальный учитель истории, который три года провел в концентрационных лагерях.
– Это, должно быть, очень приятно Вольфгангу, – сказал я.
– Именно. Никто не желает иметь с ним никаких отношений, все хотят только выяснить, что же совершал его отец. Лишь Ноа сказал: «Что может Вольфганг против своего отца?» – Эти слова я должен взять на заметку. Что может молодой человек против своего отца? Что могу, например, я? Нет, об этом лучше не думать. – А затем Ноа сказал Вольфгангу: «Твои родители убиты, и мои тоже, и мы оба ничего не можем изменить. Хочешь стать моим братом? Так здесь заведено».
– Я знаю об этом. Я уже столкнулся с одним из тех, кто попросил меня о том же.
– Кто же это?
– Маленький Ганси.
– Это чудесно, – сказал шеф и потер руки, – это радует меня, Оливер. Действительно, это меня радует!
Глава 18
– Нет, он не женат, – сказала фрейлейн Гильденбранд.
Она сидит рядом со мной в машине. Я везу ее домой. Она попросила меня об этом. Покинув шефа, я встретил ее в холле школы. («Было бы очень мило с вашей стороны, Оливер, ночью я особенно плохо вижу».) Мы спускаемся к Фридхайму. Здесь у старой дамы комната. Очень уютная комната для постояльцев. Над пивной.
– А вам известно, – спрашивает фрейлейн Гильденбранд, – что он был участником войны, бедный парень? И уже в самом конце его схватили.
– Он был ранен?
– Да. Очень тяжело. Он… он не мог больше иметь детей, никогда.
Я молчу.
– Многим ученикам известно это, не знаю откуда. Никто никогда не отпускал по этому поводу каких-либо замечаний или глупых шуточек. Все дети любят шефа.
– Вполне допускаю.
– Знаете почему? Не только потому, что он такой доступный и говорит на том же языке, что и они. Нет! Они говорят, он всегда справедливый. Дети очень тонко чувствуют это. Когда они вырастут, то, к сожалению, утратят это чувство. Но ничего не ранит детей так, как несправедливость.
Проходит приблизительно десять минут, пока мы подъезжаем к Фридхайму. Фрейлейн Гильденбранд в эти десять минут успевает рассказать мне о детях, с которыми мне предстоит познакомиться: индийцы, японцы, американцы, англичане, шведы, поляки, большой Ноа, маленькая Чичита из Бразилии.
Я однажды читал роман, он назывался «Человек в отеле». Я словно очутился там, в том отеле, когда слушал фрейлейн Гильденбранд. В международном отеле, в котором гостями были дети.
Перед освещенной гостиницей фрейлейн Гильденбранд просит меня остановиться. Гостиница называется «Рюбецаль» («Дух исполинских гор»), это обозначено на старой плите над входом. Так как сегодня воскресенье, еще царит оживление, из гостиницы доносится смех, голоса мужчин и музыка.
– Вам мешает это? – спрашиваю я.
– Конечно, Оливер, конечно, я кое-что слышу. Но это так тяжело – найти здесь комнату. Ничего не поделаешь с шумом. Я могла бы спать в могиле или в мусорной яме, только бы находиться рядом с моими детьми. Он ничего не сказал? О моих глазах?
Я, разумеется, отвечаю:
– Он не сказал ни слова.
Каким счастливым можно сделать человека, прибегнув ко лжи! Я помогаю ей выйти из «ягуара». Старая дама вся сияет.
– Прекрасно. Я знала это. Он никогда бы это не позволил…
– Чего бы он не позволил?
– Лишить меня работы из-за моего зрения. Шеф – самый лучший человек в мире. Я расскажу вам кое-что, но вы не должны никому более говорить об этом. Честное слово?
– Честное слово.
– Однажды мы решили отчислить совершенно невыносимого ребенка. Пришел отец, ужасно разволновался. В конце концов оскорбил шефа и закричал: «Что вы вообще знаете? Как вы можете судить о детях, если никогда сами не имели их?»
– И?
– «Я не имел детей? У меня их тысячи и тысячи, столько их было и будет еще, господин генеральный директор!» Это был высокопоставленный зверь из Дюссельдорфа, разъевшийся и раздувшийся.
– Знакомый типаж.
– Потом он стал тихим, этот господин генеральный директор, – говорит фрейлейн Гильденбранд. – А когда он уехал, шеф сказал мне: «Никогда не раздражаться, только удивляться!»
– Я провожу вас до двери.
– В этом нет необходимости, – говорит она, делает пару шагов, спотыкается и чуть не падает на тротуар.
Я бегу к ней и провожаю ее к старому подъезду рядом с новым подъездом пивной.
– Это было так мило с вашей стороны, – говорит она. – Ох уж этот электрический свет…
И она умоляюще смотрит на меня сквозь чрезмерно толстые стекла очков.
– Согласен, – говорю я. – Здесь постоянно такое освещение? Я едва могу рассмотреть свою руку.
– А теперь доброй ночи, Оливер.
И все-таки как легко можно сделать человека счастливым с помощью лжи. Сейчас, когда старая дама исчезла в старом подъезде старого дома, я спрашиваю себя: легко – но надолго ли?
Все аккуратно и чисто во Фридхайме. На главной улице даже неоновые лампы. Далеко впереди виден светофор. И в самом деле чудесный маленький старый город с тихими приличными людьми, которые по утрам в воскресенье ходят в церковь, а по субботним вечерам смеются над Куленкампфом или Франкенфельдом, которых показывают по телевидению. Но те же обитатели городка становятся серьезными и даже торжественными, если на экране телевизора появляются титры – «Дон Карлос» или «Смерть Валленштейна». Честные люди, добрые люди. Они думают обо всем, что читают, что им говорят. Они ходят на выборы. Если будет нужда, все двадцатипятилетние пойдут и на войну. А если они погибнут, те, которые останутся, будут слушать Девятую симфонию Бетховена.
Итак, в итоге последнее слово за шефом, который не может иметь детей. Убедит ли он себя в том, что имел их тысячи? Ах, кто из нас не был убежден!
Глава 19
Двадцать один час сорок пять минут.
Я стою в комнате в «Квелленгофе», распаковываю свои вещи и развешиваю их в шкафу. Ноа и Вольфганг Гартунг помогают мне в этом. Ноа болезненный, бледный мальчик с черными длинными волосами и черными миндалевидными глазами. Гартунг большой и сильный, светловолосый и голубоглазый.
У них очень уютная комната. Ноа интересуется музыкой, Вольфганг – книгами. Вокруг лежат пластинки. На полке стоят книги Вольфганга. Много иностранных, в оригинальных изданиях. Мальро, Оруэлл, Кестлер. Поляков, «Третий рейх и его служители». Эрнст Шнабель, «СС – власть вне морали». Пикард, «Гитлер в нас». Джон Хэрси, «Вал».
Ноа обнаруживает среди моих пластинок Первый концерт для фортепиано с оркестром Чайковского и спрашивает, можно ли ему послушать.
– Само собой, – соглашаюсь я.
У каждого из них свой проигрыватель.
– С этим Чайковским и вовсе смешно, – говорит Ноа. – Мой отец любил его так же, как отец Вольфганга. И слушал его вечером, перед тем как его арестовали. И отец Вольфганга пожелал прослушать, прежде чем его повесят, Первый концерт Чайковского.
– Поставили ему американцы пластинку?
– Нет, – сказал Вольфганг. – Но не из подлости. Не смогли раздобыть ее! Подумай только, сорок седьмой год, кругом еще полная неразбериха. И кто же станет отменять казнь из-за того, что не нашли пластинку?
– Да, – сказал я, – понятно.
Вольфганг складывает рубашки в моем шкафу. Приходит молодой мужчина с торчащими светлыми усами и говорит:
– Через пятнадцать минут свет должен быть погашен!
– Конечно, господин Гертерих, – говорит Ноа и слишком усердно кланяется.
– Ну конечно, – повторяет Вольфганг.
– Могу я вас познакомить с Оливером Мансфельдом? Оливер, это господин Гертерих, наш новый воспитатель.
Я подаю руку молодому мужчине (с очень влажной ладонью) и говорю, что очень рад познакомиться с ним. Дверь комнаты открыта, я слышу, по крайней мере, еще дюжину включенных проигрывателей. А также радио. Только джаз. А ведь мы все-таки в доме для маленьких мальчиков!
Воспитатель вручает Ноа и Вольфгангу два письма и газеты.
– Это пришло сегодня после обеда.
Снова оба ведут себя как клоуны, неестественно смеются, а вежливость их явно преувеличена.
– Огромное спасибо, господин Гертерих!
– Чрезвычайно любезно с вашей стороны доставить нам почту еще сегодня, господин Гертерих!
Тот краснеет и пятится к двери.
– Хорошо, – говорит он, – хорошо. Но не забудьте: через пятнадцать минут свет должен быть погашен.
– Несомненно, господин Гертерих. Само собой разумеется, господин Гертерих.
За маленькими дверь закрывается на замок. Я спрашиваю:
– Ребята, почему вы так пресмыкаетесь перед ним?
Вольфганг объясняет:
– Этот воспитатель – новичок. Мы еще не знаем, какой он. Надо его проверить. Каждый новенький проходит нашу проверку. Но слушай фортепиано! На спор! Кто играет?
– Рубинштейн, – говорю я. – А что вы называете проверкой?
– Ну то, что мы именно сейчас и делали. «Конечно, господин Гертерих. Несомненно, господин Гертерих». Ты просто преувеличенно дружелюбен. Но ровно настолько, чтобы он не заметил издевки. Это верный способ раскусить новичка.
– Как это?
– Если он идиот, то уже через два дня начнет возмущаться и говорить, что мы издеваемся над ним. Таким образом можно распознать идиота.
Блондин Вольфганг разгорячился:
– Идиотов мы обводим вокруг пальца. Опаснее те, которые соглашаются с нашим тоном. Тогда снова надо проверять: может, это игра? Уже через две-три недели картина ясна. Брюки ваши повесить на вешалку или на плечики?
– На вешалку для брюк, пожалуйста.
– Тогда и складывается полное представление, как говорится. Или воспитатель добрый и не доносит, тогда все хорошо. Или он имеет маленькие слабости и, прежде всего, доносить, но даже с этим можно справиться, перевоспитать.
– А о чем доносят?
– Слушай, ты из пяти интернатов вылетал, наверно, знаешь, о чем речь.
– Ах, так, – говорю я. Ну, ясно. – Ведь каждому из нас может понадобиться уйти ночью в гости, не так ли? Одним словом, если воспитатель хороший человек или становится лучше, тогда мы даже подружимся с ним. Но если он не исправляется или выдает нас шефу, тогда мы сами разбираемся с ним. Так что он уйдет сам.
– Вы всегда так делаете?
– Да, только без дурачества. Обычно мы наблюдаем за ним какое-то время, а потом кончаем с ним, если он был свиньей. Проверка ускоряет этот процесс. У глупцов быстро сдают нервы. Понимаешь?
Вольфганг между тем сложил мое белье. Ноа читает.
– Чайковский действительно потрясающий, – говорит Вольфганг. – Я рад, что у нас есть наконец эта пластинка.
– Вы оба отличные парни, – говорю я. – И я рад, что приземлился у вас.
– Да-да, – говорит Ноа.
– Тебе нужно еще раз сходить в туалет, – сказал Вольфганг.
Таким образом они скрывают свои чувства.







