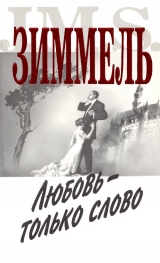
Текст книги "Любовь - только слово"
Автор книги: Йоханнес Марио Зиммель
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 41 страниц)
Глава 14
Уже совсем темно, когда мы покидаем покосившийся домик. Верена тщательно запирает дверь. Через луг идем к моей машине. Выезжая на шоссе, я неожиданно кое-что вспоминаю:
– Ты мне как-то рассказывала, что твой муж устроил твоего брата на работу в пункт обмена валюты на Центральном вокзале Франкфурта.
– Это так. Год назад Отто взял деньги из кассы фабрики в Пассау. Отец вышвырнул его на улицу. Отто пришел ко мне с просьбой о помощи, милости и снисхождении. Он делал так всегда. Мой муж помог ему. Муж помогает многим людям.
– Сколь прекрасна участь тех, кому он помог.
– Он ничего не делает для людей.
– Как так?
– Все ради меня.
– Для того чтобы ты когда-нибудь полюбила его?
– Да.
– И ты когда-нибудь полюбишь?
Она качает головой. Работают «дворники», и дождь стучит по стеклам и кузову.
У заправки на шоссе я выхожу из машины и прошу по радиосвязи заказать такси. Потом возвращаюсь к Верене.
– Послезавтра четверг. После обеда я совершенно свободен. Давай увидимся в половине третьего?
– Да, Оливер, – она кивает.
Потом мы всматриваемся в темноту и дождь и провожаем взглядом автомобили, проносящиеся мимо нас по мокрой дороге, разбрызгивая воду и скрипя на поворотах шинами.
Приезжает такси.
– Пусть остановится не перед самым вашим домом, Верена.
– Нет.
– Я люблю тебя.
– Спокойной ночи.
– Я люблю тебя.
– Счастливо доехать домой.
– Я люблю тебя.
– Останься в машине. Я выйду одна. Не хочу, чтобы шофер видел тебя.
Она выходит одна.
Такси уезжает. Его красные подфарники исчезают за ближайшим поворотом. Я отъезжаю на своей машине до въезда на шоссе и направляюсь в интернат.
«Квелленгоф» пуст, когда я подъезжаю. Все дети еще едят в столовой.
Направляюсь в свою комнату, сталкиваюсь с господином Гертерихом.
– Слава богу, что вы вернулись вовремя. Господин доктор Хаберле звонил в четыре часа.
– Ну и что?
– Я… Я сказал, что у вас был понос и вы лежали в постели.
– Хорошо. Могу ли и я быть вам чем-нибудь полезен?
– Нет, спасибо… – Он стучит по дереву и улыбается. Видно, что он совсем пал духом. – В настоящее время, слава богу, отношения с детьми более или менее нормальные.
– Я вам это предсказывал!
– Но что будет, если господин директор или какой-нибудь учитель заметят, что вы так часто исчезаете?
– Никто не должен заметить.
– А вдруг?
– Тогда я вылечу.
– Вам это так безразлично?
– Совсем нет. Мы все устроим ловко, господин Гертерих. Положитесь на меня. Я помогу вам, вы поможете мне. Я обещаю, что смоюсь еще в четверг и в субботу. Я имею на это право.
– Да. Моя жена тоже была очень красивой, господин Мансфельд. Такая, что слезы наворачивались на глаза, когда смотрел на нее.
– Что с ней случилось?
– Она оставила меня, развелась. Я не мог ничего предложить ей. Красивые женщины стоят дорого, не правда ли?
– Возможно, – говорю я и думаю о Манфреде Лорде.
В своей комнате я сажусь на кровать и думаю о себе.
Что я могу предложить Верене?
Ничего. Абсолютно ничего.
Что-то колет меня в ребро.
Лезу в карман и вынимаю пять осколков от пластинки. На ночном столике складываю их вместе.
«LOVE IS JUST A WORD». FROM THE ORIGINAL SOUNDTRACK OF «AIMEZ-VOUS BRAHMS?»
Я сижу, уставившись на разбитую пластинку. «Любовь – только слово». Дождь стучит в окно. Горит лишь моя настольная ночная лампа. Потом я слышу шум: дети возвращаются из столовой. Быстро вынимаю старый конверт и кладу в него осколки от пластинки. Конверт прячу в ящик ночного столика, ложусь в кровать, кладу руки под голову и смотрю в потолок. Она говорит, что не может даже вспомнить его лицо. Но ведь он отец ее ребенка! И однажды она сказала, что в жизни она любила лишь двух человек: Эвелин и отца Эвелин. Она говорила…
Глава 15
В этом октябре много сильных бурь и дождей. Каждые четверг и субботу после обеда я встречаюсь с Вереной в «нашем доме».
Каждый раз он выглядит более покосившимся и мрачным. Луг превратился в настоящее болото, часть забора разрушила буря, поручни крыльца приказали долго жить. И древесные черви старательно трещат в стенах. Но электропечь греет помещение, в котором мы любим друг друга.
Всякий раз каждый из нас приносит с собой маленький подарок. Свисток. Духи. Зажигалка. Губная помада. Книга. Мне непозволительно делать дорогие подарки, так как их могут заметить дома у Верены, да и оплачивать их мне особенно нечем. Пока у меня на шее векселя, я должен экономить. Иногда я прихожу раньше, иногда Верена. Чаще Верена. Кто приходит первым, проветривает помещение, включает печь, разбирает постель. Мы завариваем чай. Никогда не пьем алкоголь. Верена говорит, что ей всегда хочется быть совершенно трезвой, когда мы встречаемся. Я тоже хочу этого. Еще придет время, когда мы будем желать лишь одного: напиться (но это позже – я не могу писать так быстро, как живу).
Манфред Лорд все еще занимается в Ганновере своим высотным домом. Ради этого он открыл финансирование строительства двухсот одноквартирных домов на окраине Бремена.
По-видимому, ты существуешь, дорогой Бог!
Каждый раз после близости мы рассказываем друг другу что-то еще из своей жизни. И вновь любим друг друга.
Становится холоднее, и все быстрее темнеет. Деревья стоят голые. Опускается туман. Скоро наступит декабрь.
Туман, дождь, барабанная дробь его капель по крыше домика, шум вентилятора электрорадиатора, наши объятия, наши разговоры – все это было мне совершенно неведомо, незнакомо в жизни. Верена говорит – для нее тоже. До тех пор пока не встретил ее, я всегда исходил из того, что все люди лгут. Верене я верил даже в самом невероятном. Ничего не было такого, что она могла рассказать, а я бы подумал: это она привирает. Я сказал ей об этом. Она возражает:
– Мы же условились, что не будем врать друг другу.
Я еще раз запретил ей писать мне. Когда мы не видимся, если у Верены нет времени или мне не удается уйти, мы звоним друг другу по телефону – как прежде. Я сижу в конторе гаража фрау Либетрой, жду звонка Верены, а заодно записываю нашу историю.
– Это, должно быть, очень большая любовь, – говорит фрау Либетрой.
Я не говорю ничего.
А может быть, у нее есть магнитофон? Или она знает господина Лео? Нет! Я отношусь к ней несправедливо. Любовь – это нечто такое, к чему стремятся все люди. Самые бедные, самые умные, самые глупые, самые богатые, наделенные властью, вызывающие сострадание и жалость, самые молодые, самые старые, а также и сама фрау Либетрой…
Геральдина, по слухам, чувствует себя лучше, но далеко не так хорошо. Она лежит в гипсе с ног до головы. Еще не разрешено навещать ее. Я отослал ей цветы и ничего не значащее письмо. И получил на него ответ.
«Мой самый любимый человек!
Я могу написать лишь очень коротко – из-за гипсовых повязок. Спасибо за цветы! Я сохраню их, даже когда они засохнут, жизнь моя! Врач говорит, что до Рождества я смогу переселиться в квартиру, которую сняла моя мать. На праздники приедет с мыса Канаверал отец. Может быть, мои родители помирятся. Я не осмеливаюсь даже думать об этом. Примирение – и ты! Сразу после Рождества ты сможешь навестить меня. Молю Бога, чтобы мой позвоночник правильно сросся, тогда я не буду страшно изувеченной, совсем как бедный Ганси. Врачи, которым я рассказываю о своей большой любви, сказали, что постараются приложить все усилия, чтобы я вновь стала абсолютно здоровой. Разве это не было бы чудом?
Обнимаю и нежно целую тебя тысячи раз. Твоя Геральдина».
Письмо я тотчас же сжег. Но что будет после Рождества? Господи, еще только начало декабря!
Я развил в себе привычку отодвигать все проблемы, когда встречаюсь с Вереной, и забываю напрочь об их существовании.
Глава 16
Горят свечи. Мы лежим рядом. Верена внезапно говорит:
– Я не терплю Ницше.
– Это отвратительно!
– Да, но вчера я нашла одно стихотворение, оно как раз для нас.
– Расскажи.
Она рассказывает, нагая и теплая в моих руках:
– «Вороны кричат и летят, кружась, к городу: скоро пойдет снег, хорошо тому, кто еще имеет родину сегодня».
– А я не считал его способным на что-либо такое!
– Я тоже нет.
Совсем тихо звучит из радиоприемника музыка. АФН передает «Голубую рапсодию». Мы всегда ловим и слушаем только эту станцию. Слушать немецкое радиовещание не имеет смысла. А радио Люксембурга на этом приемнике мы не можем поймать даже в течение дня.
– Но у нас она есть, не правда ли, Верена? У нас есть родина!
– Да, сердце мое!
Крыша домика прохудилась. С недавнего времени, когда идет дождь, мы вынуждены ставить на дешевый ковер посуду, так как с потолка капает.
– Я не думаю, что родина – эта избушка.
– Я знаю, что ты думаешь.
– Ты – моя родина! Ты – мой очаг!
– Ты то же самое значишь для меня!
Потом мы опять любим друг друга, и дождь крупными каплями падает в посуду на ковре, завывает зимний ветер вокруг барака, а АФН передает «Рапсодию».
Глава 17
– Садись, Оливер, – говорит шеф. Это происходит шестого декабря, вечером, в его рабочем кабинете с множеством книг, глобусом, детскими поделками и рисунками на стенах. Шеф курит трубку. Мне он предлагает сигареты и сигары.
– Нет, спасибо.
– Выпьешь со мной бутылочку вина?
– Охотно.
Он достает бутылку старого «Шато неф дю пап», чуть подогретую, и наполняет до краев две рюмки, садится, выпивает, смотрит на меня, как всегда, сидя, наклонясь, спокойный, ну прямо Иан Стюарт. Такой же долговязый. Сначала я испугался, когда он попросил зайти. Я подумал, что речь может пойти о Верене, но ошибся. Речь о совсем другом.
– Приятное вино, верно? – спрашивает шеф.
– Да, господин директор.
Он дымит своей трубкой.
– Оливер, когда ты приходил ко мне, я предложил тебе беседовать со мной, помнишь?
– Да, господин директор.
– Мне очень жаль, что наш первый разговор коснется не твоих, а моих проблем.
У меня камень свалился с сердца.
– Как так? Всегда ведь лучше дискутировать о ваших проблемах.
– Ах так! – Он улыбается. Потом становится серьезным. – Я хочу поговорить с тобой, поскольку ты в интернате старше всех и просто потому, что у меня никого нет.
– А ваши учителя?
– Я не имею права осложнять их жизнь своими проблемами. Да и не хочу.
– Я весь внимание, господин доктор!
– Что ты думаешь о Зюдхаусе?
– Фридрихе? Это пустой орех. Жертва своего воспитания. Сам по себе он неплохой парень! Но с таким дерьмовым нацистом, как его отец, он может, конечно, лишь верить…
– Вот именно, – говорит шеф.
– Именно что?
– Ты действительно не хочешь сигарету?
– Нет.
– Или сигару? Они очень легкие.
Шеф выглядит осунувшимся. Может быть, он болен?
– Нет, спасибо. Так что же с Фридрихом?
Шеф рисует пальцем на столешнице невидимые фигуры.
– Он донес на меня, – говорит шеф.
– Кому?
– Своему отцу. Ты же знаешь, он генеральный прокурор.
– Очень подходящее для него место.
– Из-за принадлежности к крайне правым ему бы находиться в тюрьме. Но где право? Господин доктор Зюдхаус – птица высокого полета. Лояльный ко всем властям. Тебе двадцать один год, и я не должен говорить тебе, как это у нас происходит.
– Нет, господин директор, не должны. В чем вас упрекают?
– В том, что я зачислил на службу доктора Фрея.
– Нашего учителя истории? Но ведь его все любят!
– Честно говоря, не все. Фридрих Зюдхаус, во всяком случае, его не любит.
– Ах, вот что вы думаете! Посещение концлагеря в Дахау?
– Это не только посещение Дахау. Это вся методика, которую он использует, преподавая историю. Телепередачи. Книги, которые вы получаете от него для чтения. Все это вместе взятое вывело из себя Зюдхауса. Ты только что правильно подметил, он продукт воспитания. Об этом он написал своему отцу.
– Что?!
– Много писем. Как в моей школе один из моих учителей преподает историю, как втаптывается в грязь немецкий народ, немецкая честь, престиж Германии, как вам внушаются коммунистические и дезорганизующие идеи.
– Ну и свинья! Возьму-ка я маленькую сигару, если позволите, господин директор. – Срезаю кончик сигары, зажигаю ее и спрашиваю: – И что еще?
– Еще? – Шеф печально улыбается и поглаживает лошадку, стоящую на его письменном столе, подаренную ему кем-то из ребят. – Господин генеральный прокурор, доктор Олаф Зюдхаус – властный мужчина. Он жаловался своим друзьям в различных учреждениях.
– Я этого не понимаю! Ведь доктор Фрей говорит правду! Какие письма мог бы написать старый нацист? На что мог бы пожаловаться?
– На то, что доктор Фрей говорит правду, – отвечает шеф, выбивая свою трубку и наполняя ее вновь. – Правда, Оливер, должна распространяться хитро, с уловками, если хочешь выжить. Доктор Фрей говорит правду без уловок и хитрости, но мужественно.
– Довольно печален тот факт, что даже вы называете мужеством то, что один учитель рассказывает нам правду о Третьем рейхе и преступном пакте!
– Уверяю тебя, что все, о чем рассказывает доктор Фрей, совпадает с моим мнением и я полностью со всем согласен. Я восхищаюсь доктором Фреем и глубоко уважаю его!
– Ну и что? Вышвырните Зюдхауса из школы. Вы же выгоняли других!
– Это было легче, – говорит шеф, попыхивая трубкой. – Тогда речь шла о грубых ласках в лесу, и ты уже кое о чем знаешь.
– А в этом случае?
– Здесь политика.
– Это хуже?
– Политика – это самое плохое, что есть на свете, – говорит шеф. – Посмотри-ка: этот генеральный прокурор – ты абсолютно прав, он ничего не может поделать, он так воспитан, – этот господин бегал от одного министерства к другому и кричал, что у меня школьники подстрекаются агентами ГДР. И я сам один из них. Знаешь, где ты находишься, по мнению отца Фридриха, Оливер?
– Где?
– В школе, где воспитываются исключительно маленькие коммунисты.
– Не смешно.
– Вот именно. В связи с этим отец Фридриха всегда говорит о том, что я назначил стипендию маленькому Джузеппе, отец которого коммунист. Что мне делать?
– Неужели Зюдхаус обратился с таким нонсенсом в министерство?
– Частично. Не все, конечно, кричали «браво», когда он потребовал, чтобы я уволил доктора Фрея, но никто и не заступился за него.
– Доктор Фрей в курсе?
– Еще никто ничего не знает. Ты первый, кому я все рассказал.
– Почему?
– Так как прежде чем что-либо предпринять, я хочу знать реакцию детей на это. Мнение взрослых мне безразлично, – говорит мужчина, никогда не имевший собственных детей. – Мне интересно лишь ваше мнение. Я знаю, как вы дружны. Я знаю, что могу положиться на тебя, Оливер. Я намеренно не говорю тебе еще всего…
– Что это значит?
– Что может случиться, если я не уволю доктора Фрея.
– Да. Вас могут принудить уволить учителя, который говорит правду?
– Могут, Оливер, могут. Но в настоящий момент говорить об этом еще рано. Сейчас я хотел бы, чтобы ты, как самый старший, разузнал, что об этом думают ребята. Если все они придерживаются мнения своих отцов, то я потеряю надежду.
– Они не поддерживают своих отцов в этом вопросе, господин доктор! Ноа и Вольфганг…
– Они не в счет.
– Ну хорошо, но и все остальные – или большинство других – не разделяют взглядов своих отцов, поскольку отцы – старые нацисты. У нас плохие взаимоотношения, это правда. Мы шалопаи, да. Мы доставляем вашим учителям много хлопот и забот…
– О боже!
– …но мы не нацисты!
– Вот это я и хотел бы знать наверняка, – говорит шеф. – Если я буду в этом уверен, тогда буду защищаться. Пусть это и будет чертовски тяжело!
– Почему это будет чертовски тяжело?
– Об этом я расскажу тебе в другой раз. Сейчас у меня куча дел!
– Хорошо, шеф, – говорю я. – Через два дня вы получите от меня сообщение.
– Тебе ясно, что то, что мы обсуждали, должно коснуться только детей?
– Совершенно ясно. Мы будем держать язык за зубами.
Шеф встает, вынимает трубку изо рта и подает мне руку.
– Спасибо, Оливер.
– Я… нет… мы благодарны вам.
– За что?
– За доктора Фрея.
– Надеюсь, – говорит он тихо и отворачивает голову, – вы поблагодарите меня за него еще через два месяца.
Глава 18
С начала января стало холодно так, что сняли сетку между двумя большими теннисными кортами, и посыпанная песком территория, методично поливаемая водой, покрылась коркой льда.
Много детей с двух до четырех часов катаются на теннисных кортах на лыжах. Поэтому седьмого января я устраиваю здесь собрание.
В три часа дня.
Ночью я думал над тем, что должен сказать. Я ленив и расхлябан. Но, когда это нужно, я могу быть организованным, строгим и четким. Сейчас тот случай, когда я должен быть таким.
Я нарезал из расчерченных в мелкую клетку тетрадей по математике триста двадцать бумажных листков. Причем расчерчены листки в красную клетку (что встречается довольно редко). И при этом никто не присутствовал. Это для того, чтобы во время выбора обошлось без мошенничества.
Трехсот двадцати листков достаточно. Сейчас в интернате триста шестнадцать учеников. Утром я сходил на чердак «Квелленгофа» и принес две большие картонные коробки. На крышках сделал ножом длинные прорези. Это урны для голосования. За завтраком я попросил Ганси сказать учащимся четырех начальных классов, что я жду их в три часа на катке и хотел бы сделать важное сообщение. Старшие классы я оповестил сам. Я не сказал никому, о чем будет речь, так как многие нашли бы тогда причину не явиться. А так все заинтригованы и около трех дня появляются на катке. Они одеты в лыжные брюки, разноцветные норвежские свитеры и короткие присборенные юбки, хлопчатобумажные чулки и красные, желтые, голубые шали. Все это яркими пятнами радостно смотрится на фоне черных деревьев зимнего леса.
Я должен говорить достаточно громко, чтобы все смогли услышать меня.
– Сначала я прошу вас ненадолго построиться в три ряда и рассчитаться, чтобы мы знали, сколько нас.
Большая суета, скольжение по льду, потом все строятся и считают. Первый подсчет дает результат триста два. Второй – триста пять. Третий – опять триста пять. Число триста пять соответствует действительности, так как Геральдину шеф намеренно пропустил, когда говорил о трехсот шестнадцати учащихся, и одиннадцать детей больны. Я побывал у них перед завтраком (с разрешения шефа также и на вилле, где живут девочки), объяснил им, что случилось, и попросил молчать об этом. Каждому больному ребенку я дал разлинованную бумажку и попросил выбирать тайно, при этом я повернулся к ним спиной. Одиннадцать бумажек уже лежали в ящиках, стоящих прямо на льду.
– Господин унтер-офицер, позвольте расформировать этот военный строй! – кричит Томас.
Томас – сын генерала военного блока НАТО. Томас ненавидит своего отца.
– Подойдите-ка поближе, насколько это возможно, чтобы мне не пришлось кричать. Случилось следующее…
Я рассказываю им, что случилось. Я долго размышлял над тем, что мне следует сказать: «Один из нас донес своему отцу на доктора Фрея, который преподает всем вам, как на антифашиста, и многие родители требуют его увольнения». Или так: «Фридрих Зюдхаус донес на доктора Фрея своему отцу, и т. д.».
У Фридриха Зюдхауса есть друзья и враги. Выборы не были бы объективными, если бы я назвал его имя.
И я говорю:
– Один из вас донес на доктора Фрея своему отцу.
Потом я рассказываю все остальным. Взрослые слушают так же внимательно, как и совсем маленькие.
Когда я заканчиваю, происходит нечто неожиданное: Фридрих Зюдхаус неожиданно поворачивается и хочет бежать. Теперь я не смогу подсчитать, так как он сам выдал себя, идиот! Вольфганг успевает подставить ему подножку, и первый ученик падает на лед. Вольфганг хватает его за меховую куртку и поднимает, бормоча при этом:
– Я так и думал, что это мог быть только ты, сладенький мой!
Прыжок – и возле Зюдхауса, который дрожит и выглядит так, будто его хотели вышвырнуть, оказывается Томас. Он держит перед носом первого ученика кулак:
– Ты останешься здесь, задница с ушами!
– Что ты сказал?
– Задница с ушами! Сначала доносить, потом удирать? Хайль Гитлер!
– Я не доносил! Это был кто-то другой!
– Ясно, – говорит Томас, – поэтому ты и наложил сейчас в штаны, да? Иди сюда, Вольфганг! – Сын повешенного военного преступника подходит к Фридриху с другой стороны.
Фридрих дрожит. Лицо его пожелтело.
– Нацистская свинья, – говорит Вольфганг.
– Спокойно! – кричу я и боюсь того, что меня не послушают и вот-вот начнется массовая потасовка. – Так дело не пойдет! Совершенно все равно, кто это и…
– Чепуха! Не все равно! Это был Зюдхаус!
– На помощь! – кричит Зюдхаус. – Господин доктор Флориан, на помощь!
Вольфганг замахивается и бьет Зюдхауса: видно, как его рука на глазах у многочисленных зрителей опускается на нижнюю челюсть.
Зюдхаус отлетает прямо в руки Томаса.
Томас кричит:
– От имени блока НАТО! – И бьет Зюдхауса кулаком в живот.
Отличник сгибается пополам. Вольфганг хватает и собирается ударить снова, но перед ним возникает бледный, худой Ноа и тихо говорит:
– Оставь!
– Что?
– Вам не следует бить его!
Томас и Вольфганг отступают.
Ноа тихо продолжает:
– Оливер еще не закончил. Но я уже понял одно. Здесь случилось что-то злое. Только побоями ничего не исправишь. Это так, Оливер?
– Да, – говорю я. И обращаюсь к Зюдхаусу: – Если бы ты не удрал, жалкая собака, об этом не узнал бы ни один человек. Я специально не назвал твоего имени.
Зюдхаус смотрит на меня. Он делает глотательные движения, чтобы не завыть.
Потом все же взвывает:
– Это был не я! Это был не я!
– Ты еще и трус, – говорит Томас.
– Это был не я. Я…
– Цыц! – командует Вольфганг. И спрашивает у меня: – Могу я пнуть его еще разок?
– Нет!
– Единственный, маленький, совсем маленький пинок.
– Дай Оливеру в конце концов продолжить, – говорит Ноа.
Вольфганг успокаивается. Он всегда делает то, что говорит Ноа…
– Каждый из вас получит сейчас от меня бумажку.
– Зачем? – спрашивает Ганси, мой «брат».
– Это выборы. Тайные. Вы можете пойти к скамейкам или за деревья, когда будете писать.
– Что писать?
– Хотите ли вы, чтобы доктор Фрей остался с нами, или хотите, чтобы он ушел. Кто хочет, чтобы он остался, пишет на своей бумажке «да», кто хочет, чтобы ушел, – «нет». У кого нет вообще никакого мнения – не пишет ничего. Потом бумажки нужно положить в одну из картонных коробок. Три сотни бумажек в одну не поместятся, поэтому я принес с собой две.
Голос:
– Что значит выборы? Что МЫ можем еще сказать?
– Триста детей могут сказать многое! – кричит темнокожая Чичита.
– Не в Персии, – замечает маленький принц.
– Но у нас, – возражает Вольфганг.
– Ну, если уже… – рассуждает Ноа.
– Да успокойся ты!
– Я прошу тебя, – говорит Ноа. – У нас даже взрослые ничего не могут сказать!
Зюдхаус вскрикивает.
– Что это было?
– Томас пнул меня!
– Ты бы получил еще больше, если бы мы отловили тебя одного, свинья! – говорит Томас.
– Спорим, что твой дорогой отец написал письмо и моему дорогому отцу. Господа просто обязаны держаться вместе. Ну, начинай же, Оливер!
Я открываю коробки и раздаю бумажки детям, проходящим мимо. И говорю при этом:
– Некоторые из вас смеются. Здесь нечему смеяться. Речь ведь идет о будущем человека. Если хоть один из вас нарисует на бумажке звездочку или просто выбросит ее, то он должен подумать о том, что он бросает в неизвестность и будущее доктора Фрея.
Смех прекращается.
Дети рассыпаются по всей площадке. Многие собираются в группы и дискутируют, и каждый пишет свое «да» или «нет» тайно на бумажках, – так, чтобы никто не мог увидеть.
Томас кричит:
– Я определенно за то, чтобы доктор Фрей остался!
– Тебя никто не спрашивал, как ты проголосовал, – говорю я и опускаю его сложенную бумажку в одну из картонных коробок. Проталкивая свою бумажку, я добавляю: – Не думай, что все закончится этими выборами или тем, что вы выбьете Фридриху пару зубов. Это только начало.
– Начало чего?
– По всей вероятности, длинной и тяжелой истории, – говорит Ноа, сдавая свою бумажку. – Я всегда предостерегал доктора. – Ноа медленно уходит.
Постепенно наполняются обе коробки. И вот последний ребенок сдал свою бумажку. Слава богу, что ветра нет, так что я могу высыпать содержимое коробок прямо на землю.
– Кто поможет подсчитать? – спрашиваю я.
Ганси протискивается вперед.
– Ну пожалуйста, Оливер, – говорит маленький принц, – можно и мне помочь? Я еще ни разу в жизни не был на выборах.
– Конечно, Рашид, – говорю я и специально не замечаю ревностного взгляда Ганси.
Ганси, мой «брат».
Вскоре он заставит замечать себя совсем иным способом, а не только выразительным взглядом. И последствия уже не позволят мне больше не замечать его…







