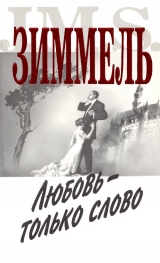
Текст книги "Любовь - только слово"
Автор книги: Йоханнес Марио Зиммель
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 41 страниц)
Глава 12
Три часа дня. Солнце светит. Южный ветер. Гряды облаков на голубом небе. А сто двадцать детей в молчании тихо стоят перед маленькой пещерой в маленьком ущелье и смотрят, что делает изящная Чичита, кожа у которой цвета кофе с молоком. Она ставит в пещеру открытые бутылки шнапса, рядом кладет пачки сигарет и спички. Чтобы духи могли закурить сигареты. А бутылки шнапса нужно открыть – у духов нет открывашек. В лесу, прямо над Рио-де-Жанейро, на Корковадо, рассказала Чичита, есть бесчисленные пещеры. Там везде можно найти огарки свечей, пачки из-под сигарет, бутылки из-под шнапса. Белые женщины тоже творят макумбы, чтобы их любовь была защищена и чтобы их желания сбывались. Чичита сказала:
– Конечно, в Рио живут и свиньи, такие старые бродяги, понимаете? Они выгадывают на этом: обыскивают все пещеры и крадут сигареты и выпивают шнапс. Но наши люди все равно верят, что духи взяли эти вещи, если сигареты исчезли, а бутылки из-под шнапса пусты.
– Значит, ты считаешь макумбу надувательством? – спросил я.
Она ответила:
– А ты считаешь надувательством, когда католический священник пьет вино и говорит, что это кровь Христа, и раздает облатки и говорит, что это плоть Христа?
Теперь Чичита зажигает свечи, каждый раз капая немного воска на пол пещеры и укрепляя в воске свечку. Зажигает, по меньшей мере, пятьдесят свечей, это длится долго. В маленьком ущелье очень тихо, никто не разговаривает, только ветер шелестит над нами в листве деревьев. Большие дети. Маленькие дети. Мальчики. Девочки. Белокожие. Чернокожие. Желтокожие. Цвета кофе. Дети со всех концов света пришли сюда для макумбы в память о влюбленных Гастоне и Карле, вылетевших из интерната, чтобы просить милости у духов, в надежде умаслить их подарками: пусть духи позволят Гастону и Карле быть счастливыми.
Рядом со мной вплотную стоит Геральдина. Напротив – Ганси, мой «брат». Он не выпускает нас из виду. Дрянь парень! Только что мне кто-то рассказал, мол, Ганси уже тринадцать, а не одиннадцать. Я спросил его, и он ответил: «Правда, да, но я ведь урод, карлик, верно? Они и без того смеются надо мной. Я уже два раза проваливался на экзаменах. Если б они знали, что я в тринадцать лет такой ничтожный и мелкий… Господи, это же чистой воды самозащита!» Итак, этому сокровищу – тринадцать. И он столь толково говорит. Я уже надивиться не мог, что у одиннадцатилетнего так умно выходит разглагольствовать…
Геральдина шепчет:
– Когда я тебя увижу?
Я знаю, что должен порвать с Геральдиной, но пока не знаю как. Время! Сейчас нужно выгадать время! Нужно подумать. Может быть, даже посоветоваться с «братом». Так что я шепчу:
– Сегодня уже не получится. У меня жар. Мне надо снова в постель. Я встал только ради макумбы. Вечером придет врач.
– Что-то серьезное?
– Ах, нет. Завтра пройдет.
– Оливер.
– Да?
– Ничего. Только Оливер. Мне так нравится твое имя. Оливер. Когда тебя сегодня не было в классе, я боялась… жутко боялась, вдруг с тобой что-то стряслось…
– Ах!
– Нет, правда! Я только тогда успокоилась, когда Вольфганг мне сказал, что ты лежишь с температурой в постели.
Спасибо, Вольфганг.
– Я люблю тебя. Люблю тебя. Люблю тебя.
Вот Чичита зажгла все свечи. Меня вдруг осенило:
– Мы должны быть осторожны. Иначе мы вылетим точно так же, как Карла и Гастон. У шефа везде доносчики. И среди школьников.
– Ты прав. – Геральдина чуть-чуть отошла в сторону.
– О боже! – произносит она. – Представить только, если бы нас разлучили! Я… я бы наложила на себя руки!
– Чушь!
– Вовсе не чушь! Я бы правда…
К счастью, в эту секунду встает малышка Чичита и начинает по-английски говорить.
– Тсс, – шепчу я.
– Сейчас я буду говорить с духами, – объясняет Чичита. – Так, как это делают у нас, в девственном лесу. Я буду просить добрых духов защитить Гастона с Карлой и их любовь, а злых духов держаться от них подальше. Вы же, все остальные, тоже молитесь об изгнанниках, каждый на своем языке, каждый своему Богу. Но все должны смотреть при этом на горящие свечи.
Затем она ведет себя как великий волшебник негритянского крааля. Заклиная, она взмахивает руками, тело ее извивается, и она говорит с духами. Отец малышки Чичиты строит плотину в Чили. Малышка Чичита три года не увидит отца. На вопрос фрейлейн Гильденбранд, что самое плохое на земле, малышка Чичита ответила:
– Дети. Отец всегда так говорит.
И так она извивается и кружится, воздевая руки к небу и по-португальски говоря с духами, здесь, в горах Таунус, посреди Германии, на расстоянии тринадцати тысяч километров от родины.
Я смотрю на детей, на больших и на маленьких. Одни молятся вслух, другие – про себя. Все глядят на горящие свечи в пещере. Ноа тоже молится (странно – он, старающийся выглядеть интеллектуалом). Геральдина молится молча, сложив руки. Рашид, маленький принц, молится по-персидски. Остальные молятся по-английски. «Коммунист» Джузеппе молится по-итальянски, то и дело осеняя себя крестом (ну и ну!). Я слышу множество языков. О Карле с Гастоном и их любви молятся множеству разных богов. Кстати, Али, маленького негритенка, страдающего манией величия, здесь нет. Он наотрез отказался прийти на макумбу. «Это языческие, дьявольские заблуждения, – возмутился он, как мне рассказал Ганси. – Вы все грешники и попадете в ад, если будете участвовать в макумбе. Есть только один Бог – мой!» Али, малыш Али…
Через некоторое время молюсь и я, про себя, конечно: «Господи, пусть между мной и Вереной возникнет любовь. Настоящая любовь. Сделай так, чтобы мы сблизились. И чтобы остались вместе. И чтобы ничто и никто не разлучил нас. Я достаточно взрослый. Я могу работать. Могу прокормить нас троих: Верену, Эвелин и меня».
– Ты молишься? – шепчет Геральдина.
– Да.
– О чем?
– О том, чтобы они были счастливы.
– А я молилась, чтобы мы были счастливы. Это очень плохо?
Она с мольбой глядит на меня.
– Ах, нет, – говорю я, – совсем нет.
Что меня связывает с Геральдиной?
Чичита воздевает обе руки и произносит:
– Это конец макумбы. Уходите все. Каждый сам по себе. Никто не должен ни с кем говорить или оборачиваться. Все должны думать о Гастоне и Карле. Иначе макумба не подействует.
Сто двадцать детей молча расходятся, думая о Гастоне и Карле. А в маленькой пещере горят свечи, лежат сигареты и спички для духов, стоят бутылки со шнапсом, приготовленные для них, открытые. Потому что у духов все-таки нет открывашек.
Глава 13
– Я очень опечален, господа! Хотя я все еще верю, что из вас можно сделать разумных, справедливых людей, эта вера сегодня еще раз сильно пошатнулась! Я знаю о вашей макумбе. Я стоял в кустах и все видел. Я очень разочарован, я, все учителя и воспитатели, которые заботятся о вас…
Грудной, спокойный голос шефа льется из громкоговорителя, размещенного в зале нашего корпуса. Дверь моей комнаты отворена, поэтому я могу слышать, что говорит шеф в большой столовой сидящим там детям. И всем остальным детям, которые этим вечером уже находятся в своих домах, ведь везде есть такие громкоговорители. Шеф может, если ему вздумается, через громкоговорители связаться со всеми домами.
Я лежу в постели. Врач приходил, подтвердил, что я здоров, однако посоветовал до следующего утра не вставать. Полуслепая фрейлейн Гильденбранд принесла мне ужин (снова в двух алюминиевых мисках), теперь она сидит у моей постели и слушает голос ее господина, льющийся из громкоговорителя в зале.
– Я прочел листок, который Карла и Гастон прикрепили на доске объявлений. Вы все это читали. И, конечно, были очень воодушевлены памфлетом. Они писали для нас, взрослых, не так ли?
Фрейлейн Гильденбранд елозит на стуле.
– Я хочу вас спросить, считаете ли вы в самом деле, что фрейлейн Гильденбранд, все учителя, все воспитатели и я – ваши враги? Считаете вы так?
Фрейлейн Гильденбранд нервничает все больше и больше.
– Считаете ли вы в самом деле, что мы не могли бы придумать ничего лучше, как воспитывать триста детей, а среди них много трудных, с которыми нигде больше не справляются? Считаете ли вы так?
– Вы не знаете, как все это ужасно для меня, Оливер, – говорит фрейлейн Гильденбранд.
– Почему для вас?
Но шеф продолжает говорить, и она только машет рукой.
– Воспитатели и учителя болеют, гибнут по вашей милости, да-да, по вашей милости! Им не дождаться слов благодарности. Многих вы ненавидите и мучаете. За что? За то, что они хотят сделать из вас людей, приличных людей? Иногда все вы становитесь мне противны, и я спрашиваю себя: «Зачем мы вообще заботимся о вас?» Вы находите Гастона и Карлу великолепными. А фрейлейн Гильденбранд… сволочь, в ближайшие недели ей жизнь медом не покажется!
Полуслепая фрейлейн Гильденбранд шмыгает носом и потерянно произносит:
– Ах, да. Конечно, не покажется…
Внезапно у меня пропал аппетит, и я отставляю алюминиевые миски в сторону. Из зала доносится голос шефа:
– Фраза, в которой Гастон и Карла написали о подростках и двадцатилетних – единственно верная! Да-да, здесь мы, взрослые, допустили ошибку! Но не такую, как полагаете вы или как описали они! Мы печемся не об интересах индустрии, а о своих собственных! Мы, воспитатели, думали, вы созрели для большей свободы. И мы дали вам эту свободу. На свете еще не было молодежи свободнее вас!
Из громкоговорителя раздается ропот.
– Ропщите, сколько вам вздумается. Я говорю правду. А то, что индустрия сделала на чувствах деньги, – дело другое. Да-да, мы совершали то же, что и Карла с Гастоном, и поэтому вы сегодня здесь! Но мы совершали это позже. Когда мы повзрослели, а не в пятнадцать лет! Вы назвали меня справедливым. Это не только почет, но и тяжкое бремя. Сегодня ночью я не спал. Я размышлял, верно ли поступил с Гастоном и Карлой. И я говорю вам – верно!
Снова ропот из громкоговорителя. Фрейлейн Гильденбранд сидит, молитвенно сложа руки, кажется, она вот-вот расплачется.
– Родители приводят вас ко мне. Мы с коллегами несем ответственность за вас. Мы несли ответственность и за Гастона и Карлу. Не притворяйтесь же тупицами! Вы знаете, как легко может случиться непоправимое. Слова о том, что я думаю только о моем интернате и его славе, – ложь. Я думаю о вас!
Фрейлейн Гильденбранд вздыхает.
– Не полагаете же вы всерьез, что врач ради вас пожертвует ребенком? Вам хочется в шестнадцать лет таскаться с тяжелым брюхом? Да? А кто будет растить ваших детей? Вы? Вы ведь сами еще дети! Как будет выглядеть следующее поколение? Наше выглядит и так достаточно печально!
– Съешьте же еще что-нибудь, Оливер, – говорит фрейлейн Гильденбранд.
– Не могу.
Голос шефа:
– Надеюсь, вам известно, как, несмотря на все, вы мне дороги. Но сегодня я не могу с вами ужинать. Мне тошно. До смерти тошно. Я пойду домой. В течение некоторого времени вы не увидите меня в столовой. Потому что в течение некоторого времени я не смогу видеть вас.
Пауза.
– Если у кого-то возникнут серьезные проблемы, он может прийти ко мне домой. Но я повременю пока приходить к вам. Доброго всем вечера.
Чик! – щелкает громкоговоритель.
– Ах, Господи! Господи! Господи! – произносит фрейлейн Гильденбранд, и из ее полуслепых глаз в самом деле льются слезы.
– Что такое?
– Для всей школы я теперь сволочь.
– Да нет же!
– Конечно, я сволочь! Но я же была обязана сообщить о том, что видела!
– Конечно, фрейлейн Гильденбранд, конечно.
– Ведь невозможно было о таком молчать!
– Совершенно невозможно.
– Иногда я думаю, вы все – ненормальные, жадные до жизни и рано созревшие, потому что Господь Бог, природа, провидение или я не знаю что так распорядились. Я думаю, грядет атомная война. Дети всеми клетками чувствуют это. Чувствуют, что через десять лет умрут. И хотят жить, жить, жить!
А затем, без всякого перехода, она говорит:
– Оливер, вы так добры к Ганси…
– Откуда вы знаете?
– Он сам мне сказал…
– Чудовище! Лгун!
– Я благодарна вам за это, ведь я вас просила позаботиться о нем. Вы приличный, справедливый юноша, скажите мне, должна ли я была поступить иначе? Должна ли я была промолчать о том, что видела своими глазами?
– Нет, фрейлейн Гильденбранд, не должны. Вы обязаны были исполнить свой долг.
– Но если теперь они станут называть меня сволочью… Полгода, быть может, целый год пройдет, прежде чем какой-нибудь ребенок снова начнет мне доверять, прежде чем я смогу какому-нибудь ребенку помочь…
– Нет!
– Да!
– Фрейлейн Гильденбранд, – говорю я, – я помогу вам.
– Поможете…
– Да. Я объясню всем – большим и маленьким – что вы не могли поступить иначе. И ребята послушают меня!
– Так… Так вы в самом деле собираетесь так поступить?
– Да, фрейлейн Гильденбранд.
Страшно подумать, чего у меня теперь только нет на шее! Фрейлейн Гильденбранд. Геральдина. Ганси. Рашид. Моя дорогая семья. Ах ты, Господи! Мне жаль эту пожилую даму! Ведь можно раз в жизни кого-нибудь пожалеть или нет? Иначе что это за жизнь? Я слышу голос Верены: «Если бы не моя маленькая дочка…» А ведь жизнь прекрасна!
Фрейлейн Гильденбранд встает и протягивает мне руку, я автоматически жму ее, а она тем временем говорит:
– Спасибо.
– За что?
– За то, что вы хотите все объяснить детям. Дети… – Она глотает слезы. – Дети… Они – моя жизнь…
– Да, фрейлейн Гильденбранд.
– Вы… вы скажете им, что я не могла поступить иначе?
– Да, фрейлейн Гильденбранд.
– Благодарю вас. Благодарю вас, Оливер.
– Ах перестаньте!
– Дайте мне посуду, я отнесу ее обратно в столовую. Если вы больше не хотите…
– Нет, спасибо, больше не хочу.
– И спите покойно, Оливер, спокойной ночи!
– И вы, фрейлейн Гильденбранд.
Затем она уходит, держа в руках алюминиевые миски, и, конечно, налетает на дверной косяк. Она, должно быть, очень ушиблась, ее лоб наливается кровью, но нечеловеческим усилием воли она справляется с собой. И даже улыбается, когда оборачивается ко мне.
– Вечно этот электрический свет, – говорит она. – При таком свете я просто беспомощна. Но днем я вижу не хуже орла.
– Да, – соглашаюсь я. – Разумеется. – И прибавляю: – Надеюсь, вы не ушиблись.
Глава 14
Кажется, я уже говорил, что я страшный трус. Знаю, я должен поговорить с Геральдиной. Но не делаю этого, у меня просто не хватает решимости. В пятницу утром пришлось снова идти в школу. Я сидел напротив Геральдины на протяжении шести часов. Приятного мало. За обедом она спросила, когда мы увидимся.
– Дай мне денек времени или два, пожалуйста. Я так скверно себя чувствую.
– Ну, конечно. Разумеется. Сначала окончательно поправься!
Геральдина… Ганси…
Верена… Ганси…
Ганси…
Вот в чем опасность! Чем грозил Ганси, когда ему не позволили сидеть рядом со мной за столом? Еще до заключения отвратительного «братства крови»?
– Я выясню, где живут эти люди, и расскажу обо всем господину Лорду!
Это стало бы катастрофой! Ганси должен сидеть за столом рядом со мной. Я должен поговорить с шефом.
Итак, я навещаю шефа дома.
– Господин доктор, Ганси же мой брат. Вы сами были этому так рады…
– Ну и?
– И фрейлейн Гильденбранд просила, чтобы я позаботился о нем. Так забудьте историю с Рашидом! Рашид – намного независимее, намного проще в общении. Ганси хочет сидеть за столом рядом со мной. Думаю, ему следует позволить.
Он с иронией смотрит на меня и говорит:
– Ты – такой педагог! И тоже был на макумбе.
– Где?
– Не прикидывайся дурачком. Я тебя видел. Ты тоже думаешь, я поступил жестоко, прогнав Гастона и Карлу?
– Нет, – отвечаю я. – Да. Нет. Нет, думаю, не жестоко. Вы обязаны были так поступить, господин доктор.
– Я неохотно так поступил, Оливер, – говорит шеф. – Хотя бы этому ты веришь?
– Да, конечно, господин доктор.
– Большая любовь – и моя слабость. Но здесь школа, понимаешь? Здесь не притон!
– Совершенно ясно. Вы не могли поступить иначе.
– Ты говоришь честно?
– Абсолютно честно.
– А как другие считают?
– По-разному.
– Многие злятся на меня и на фрейлейн Гильденбранд, не правда ли?
– Да, господин доктор.
Он смеется.
– Почему вы смеетесь?
– Потому что сам выбрал себе такую профессию, – отвечает он. – Ну ладно, я посажу Рашида к Али, а Ганси – к тебе. Но ты знаешь, что этим ты снова очень ранишь Рашида?
– Я не могу угодить всем, господин доктор. Вы и фрейлейн Гильденбранд сказали, мне следует заботиться о Ганси. Я думаю, ему моя помощь нужнее. Рашид сильнее.
Шеф долго думает. Потом говорит:
– Ты странный юноша.
– Почему?
– Не хочу тебе объяснять. Но, боюсь, у меня еще будет много хлопот с тобой.
И прежде чем я успеваю ответить – а что, собственно, я мог бы ответить? – он добавляет:
– Бедный Рашид.
– Кто-нибудь всегда страдает, – говорю я.
Итак, теперь маленький уродец сидит за столом рядом со мной, сияет, чванится и лезет из кожи вон (насколько это вообще возможно), а Рашид сидит рядом с надменным чернокожим Али – он не разговаривает с Рашидом – и беспрестанно грустно смотрит на меня и не понимает. И еще один человек смотрит на меня беспрестанно с девчоночьего стола – Геральдина. В ее взгляде такое, о чем я не могу написать, это не выразишь словами. Кусок застревает у меня в горле. Десерт я оставляю нетронутым из страха, что меня стошнит.
– Можно взять твой пудинг? – спрашивает Ганси.
– Пожалуйста.
– Ну же, не корчи такую рожу, – говорит уродливый карлик. – Ешь себе на здоровье! А если и дальше будешь выполнять мои требования, увидишь, какую знаменитость я через несколько недель из тебя сделаю! Весь интернат встанет на голову! Любая будет ради тебя из кожи вон лезть, если захочешь! Но ты не хочешь. У тебя ведь есть сладкая киска с браслетом!
– Заткнись! – говорю я слабым голосом, а он тем временем уплетает мой пудинг.
Ведь Геральдина смотрит на меня. И Рашид смотрит.
Глава 15
В пятницу после ужина Геральдина вложила мне в руку письмо, когда мы выходили из столовой. Я прячу письмо в карман и совершенно забываю про него, так как играю этим вечером с Ноа в шахматы. И проигрываю, а сам все жду, когда пробьет одиннадцать, в надежде увидеть три длинных, а не три коротких сигнала, ведь три длинных означают, что в субботу в три часа Верена сможет прийти к нашей башне.
– Ты играешь как старая кошелка! – говорит Ноа.
– Я сегодня не совсем в форме.
– Тогда я лучше поиграю с Вольфгангом!
– Да, так и сделай.
Двадцать два часа сорок пять минут. Я выхожу на балкон. Светит луна, при ее бледном свете я читаю, что написала Распутница:
«Любимый мой!
То, что сейчас последует – это монолог из фильма „Хиросима, mon amour“. Я три раза смотрела этот фильм – так он мне понравился, а место, о котором я сейчас пишу, я записала в кино, в темноте. Не знаю, видел ли ты этот фильм. Монолог относится к той сцене, когда перед глазами проходят вперемежку улицы Хиросимы и Невера, маленького городка во Франции. За кадром звучит голос Ривы – главной героини. Вот что она говорит и что я записала в темноте еще до нашего знакомства, любимый мой, ведь я знала, чувствовала, что однажды появится такой, как ты, подобно тому как нашли друг друга в этом фильме Рива и этот мужчина.
Вот это место:
„Мы встретились.
Этот город был создан по законам любви. А ты был создан по законам моего тела. Я алкала. Алкала неверности, лжи и смерти. Уже давно. Я знала: однажды ты дождем прольешься надо мной. Я ждала тебя с безграничным нетерпением. Поглоти меня. Измени меня по твоему образу, никто другой после тебя не постигнет всех „почему“ подобных требований.
Мы останемся одни, мой милый. У ночи не будет конца. Ни для кого иного не наступит день. Никогда больше, никогда больше. Наконец-то.
Мне хорошо с тобой. Мы будем оплакивать уходящий день с любовью и надеждой. У нас не будет других дел, ничего, кроме как оплакивать уходящий день.
Время будет убывать. Ничего, кроме времени. И время будет прибавляться. Придет время, и у нас больше не будет слова для того, что станет с нами. По капле это слово будет вымываться из нашей памяти. А потом, потом оно исчезнет вовсе…“
Вот монолог из того фильма, любимый мой. Он тебе нравится? Нравлюсь ли я тебе еще? Хоть каплю, капельку? Поскорее поправляйся! Пусть мы снова будем вместе! Без любви. Я знаю, ты не можешь любить меня в эту секунду. Но пусть мы будем вместе. Я молю тебя об этом. Молю!
Геральдина»
Мило, когда такое случается в неподходящее время! В то время, когда совершенно не знаешь, что с этим делать. Я беру спички и сжигаю письмо, пепел летит через перила балкона в сад. И пока я это делаю, наверху, в окне белой виллы, над башней и деревьями, что-то вспыхивает, карманный фонарик – долгий сигнал. И еще раз – долгий. И еще раз – долгий. Сегодня у меня фонарик с собой. Теперь я свечу в ответ, три долгих сигнала: долгий, долгий, долгий. Еще раз с высоты приходит такой же сигнал.
Завтра в три, Верена, завтра в три, любовь моя.
В старой башне, в нашей башне.







