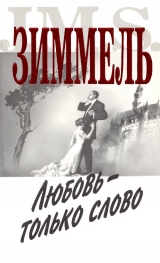
Текст книги "Любовь - только слово"
Автор книги: Йоханнес Марио Зиммель
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 41 страниц)
Глава 7
Без двух минут три.
Я очень аккуратный, поэтому я еще и умылся.
К счастью, здесь протекает маленький ручеек. Это было чудесно – умыться ледяной водой.
Без двух минут три.
И вокруг ни души.
Я сижу на ступеньке у основания обвалившейся стены, рядом с которой висит табличка: «Опасность обвала! Проход запрещен!»
Понятное дело, башня такая старая. Последний раз она обновлялась Всемилостивейшим Курфюрстом Вильгельмом IX в 1804 году – это я читаю на другой доске, которая также разрушается.
Неожиданно девочка возникает передо мной, как Красная Шапочка в лесу. В этот раз на ней красное платье и красная шляпка. Мать всегда одевала ее как маленькую куклу.
– Добрый день, дядя Мансфельд, – говорит она радостно.
– Привет, Эвелин! Откуда ты явилась?
– Я ждала тебя за этой старой башней. А мама ждет тебя наверху.
– В башне?
– Да. Тебе надо подняться.
– А если что-то обрушится…
Я смотрю на доску.
– Это не упадет. Мы с мамой должны быть очень внимательными. Ее не должны видеть одну с мужчиной. Поэтому каждый раз она берет с собой меня.
Каждый раз… Берет с собой ребенка? Как часто? Встречалась здесь со своим итальянским заказчиком? И с другими?
– Подожди, – прошу я и даю девочке то, что уже целый день ношу с собой.
Она с радостью выкрикивает:
– Марципан!
– Ты ведь любишь его? Я купил сегодня упаковку в школьном буфете за завтраком.
– Откуда ты знаешь?
– Ты сама мне сказала, вчера вечером.
– Да?
Она смотрит на меня с недоумением. Не может вспомнить. Слишком мала.
Верена обладает таким богатством, как Эвелин. Хотя и не очень здорово, что ребенок принимает участие во всем этом.
– Господин Мансфельд, вы просто прелесть. А что вы делали два часа назад?
Так как я трусливая собака и не хочу думать об этом, я быстренько перевожу на другое:
– Как поживает твой пес?
– Ассад? Хорошо, спасибо.
– Почему ты не взяла его с собой?
– Он сейчас спит.
– Ах, так. Этому, конечно, нельзя мешать.
– Нет. Кроме того, он иногда хочет побыть один. Как каждый человек.
– В этом ты права, Эвелин.
– Теперь я уйду. Поднимайся наверх. Если кто-то придет, я начну петь. Мама это уже знает.
– Вот как?
– Да! Наверху можно спрятаться.
– Мама уже была наверху с другим дядей?
– Нет, еще никогда!
– Откуда ты знаешь тогда, что наверху можно спрятаться?
– Да потому что я была наверху! С мамой! Мы часто ходим наверх. Там очень красиво, ты увидишь.
– Пока, – говорю я.
Она медлит.
– Что еще?
– Можно мне тебя поцеловать, дядя Мансфельд?
– За марципан?
– Нет.
– Тогда за что?
– Ну, потому что ты все же хочешь нам помочь.
– Ах, поэтому, – говорю я. – Конечно, ты должна меня поцеловать.
Я наклоняюсь к ней, и она обвивает своими ручонками мою шею. Меня целуют в щеку – это определенно самый юный поцелуй, который я когда-либо получал.
Потом она быстро убегает. Я вытираю щеку, вхожу в древнюю башню и поднимаюсь по винтовой лестнице, которая скрипит и хрустит, выше, выше, и от мысли, что с каждой ступенью я приближаюсь к Верене, у меня на лбу выступает пот. Это ведь рискованное дело. Подумать только, девяносто семь ступеней! Когда я наконец достиг колокольни, Верена стояла передо мной, серьезная и решительная, и ее чудесные глаза были устремлены на меня.
Сегодня на ней легкое платье с глубоким декольте, без рукавов, из белого льна, на светлом фоне разбросаны цветы. Я восхищаюсь платьем: оно так элегантно и наверняка не очень дорого.
И как оно сидит!
Я не могу долго смотреть на нее. В этом платье она выглядит еще более волнующе. Верена. Ах, Верена!
Я достаю из сумки браслет и подаю его ей. Затем подхожу к люкам башни, которые до краев наполнены инструментами, сломанной мебелью, соломенными снопами и гниющими дровами. Я смотрю сквозь коричневые, красные и золотые листья деревьев. Над всем этим солнце. Легкая голубая дымка скрывает дали.
– Здесь очень мило, – говорю я и чувствую, как она приближается ко мне.
– Я хорошо тут ориентируюсь. Я жила во Франкфурте.
Я продолжаю разговор, и мне все тяжелее делать это, так как теперь она стоит позади меня почти вплотную.
– Там, внизу, маленькая река. По ту сторону Птичья гора – гигантский обломок, который лежит суровой глыбой, а здесь, где так ярко светит солнце, между черными деревьями еще кусочек лужайки, это высокогорье, здесь я уже однажды…
– Оливер!
– Да.
Я оборачиваюсь, и все повторяется: «Диориссимо», запах майского ландыша, запах ее кожи, ее иссиня-черные волосы, глаза…
– Спасибо, – говорит она шепотом.
– Ах, – улыбаясь, говорю я. Наверное, это слишком смело, но я чуть не кричу: – Какое у вас красивое платье!
– Мой муж придет сегодня только вечером. Не хотите испытать бесконечное счастье?
– Да. Бесконечное счастье.
– Почему вы так пристально смотрите на меня?
– Вы должны мне что-то отдать.
– Что?
– Вы сами знаете, что. Давайте.
Она не шелохнулась.
– Ну! Или я заберу браслет!
Она открывает маленькую сумочку, которую прижимала к бедрам, и вынимает маленькую круглую коробочку.
Я открываю ее.
– Здесь тридцать штук, и все веронал.
Тридцать. И все веронал.
Я закрываю коробочку.
– Вы выбросите ее?
– Нет.
– Почему?
– Сохраню.
– Зачем?
– Зачем вы ее хранили?
– Оливер…
– Да.
– Вы очень…
– Что очень?
– Ничего.
Мы вдвоем стоим у люка, и сердце мое болит, и я твержу себе, что я идиот, что я должен сдерживать себя с этой Геральдиной, что Верена Лорд может оставаться спокойной, ее это не касается. Так стоим мы друг против друга, возможно, минуты три и молчим. Потом я неожиданно чувствую, как ее левая рука касается моей правой руки; я смущен, теряюсь от волнения, когда ее пальцы сплетаются с моими, и отмечаю про себя: все идет как надо. Наши руки сплетены.
– Как вы нашли браслет?
– Его украла девочка. Мне помог один мальчик, видевший, как она сделала это.
– Она милая?
– Нет.
– Каким образом вам удалось вернуть браслет?
– Девочка ходит в мой класс. Во время занятий я сбегал в корпус, где она живет, и в ее комнате обнаружил то, что искал.
– Она это уже заметила?
– Нет.
– Ваш воротник в помаде.
– Надо будет постирать рубашку, прежде чем начнутся послеобеденные занятия. Спасибо за внимание.
– А вам за браслет.
– Можем мы снова здесь встретиться?
Ответа нет.
– Я кое о чем спросил вас, мадам!
– Я слышала.
– И?
Молчание.
– Я ведь все-таки помог вам. Помогите и вы мне тоже. Пожалуйста!
– Помочь? Я? Вам?
– Помогите. Вы. Мне. Да.
– Каким образом?
– Обещайте мне встречу. Ничего больше.
Мы опять смотрим вниз.
Она выпускает мою руку.
– Вам двадцать один. Мне тридцать три. Я на двенадцать лет старше.
– Для меня это ничего не значит.
– Я замужем.
– Мне все равно. Тем более что вы несчастны.
– У меня ребенок.
– Я люблю детей.
– У меня есть возлюбленный.
– И это меня не волнует.
– До него у меня были и другие.
– Не сомневаюсь. У вас их было много. Это совершенно не важно.
И почему мы не познакомились хотя бы пару лет назад? Мы продолжаем смотреть друг на друга. Мы разговариваем очень спокойно и тихо.
– Это было бы безумием, – говорит она.
– Что?
– Снова встречаться здесь.
– Клянусь, у меня нет дурных намерений! Я хочу только видеть вас, говорить с вами. Вчера, когда мы ехали, у вас не было ощущения, что мы могли бы хорошо понимать друг друга? Я думаю не о постели, а о наших взглядах, наших мыслях. Не было у вас такого чувства, что мы очень похожи друг на друга?
– Да… Вы такой же испорченный и одинокий, как я.
Вдали просвистел локомотив.
Теперь солнце падает на платье Верены. Цветы светятся.
– Вы спали с девочкой, которая украла мой браслет?
– Да.
– Но не по любви.
– Действительно, не по любви.
– Мне это знакомо. Ах, как же мне это знакомо!
Ее речь. Манеры. Походка. Жесты. В этой женщине есть тайна. Она не хочет сказать мне, откуда она родом. Она поступает скверно, когда дурно говорит о себе.
Это все притворство, это все ложь.
Кто ты, Верена?
В каком направлении ты движешься?
Зачем тебе так много украшений? Почему ты приходишь в ужас от одной мысли, что можешь еще раз стать бедной? Почему ты обманываешь своего мужа?
Я не буду больше никогда спрашивать тебя об этом. Может быть, когда-нибудь ты сможешь мне об этом рассказать…
– И все же – мы будем здесь встречаться?
– С одним условием.
– С каким?
– Вы вернете мне веронал.
– Никогда. В таком случае мы расстанемся.
– Мне эти таблетки не нужны. Я просто не хочу, чтобы они были у вас.
– И я не хочу, чтобы вы имели при себе эту гадость! Тогда уничтожьте это. Чтобы я видел.
– Как я должна это уничтожить?
– Сжечь.
У меня есть спички.
Я медлю, прежде чем поджечь коробочку с вероналом, мне бы все-таки хотелось оставить его у себя.
Коробочка ярко горит, таблетки только обугливаются и крошатся. То, что осталось от коробочки, я бросаю на пол. Верена топчет коробочку туфлями до тех пор, пока от нее ничего не остается.
Мы смотрим друг на друга.
– Если учесть, что вы спали с аптекарем, – говорю я.
– Если учесть, что мы не сможем больше воспользоваться этой гадостью, – говорит она.
– Если учесть, что я выполнил ваши условия. Когда мы снова увидимся? Завтра?
– Нет.
– Послезавтра?
– Нет.
– Когда все-таки?
– Это возможно только через пару дней.
– Почему?
– Потому что я беременна, – отвечает она. – Вы даже представить себе не можете, в какой ситуации я нахожусь и что со мной случилось. Ничего вы не знаете! Ничего!
Глава 8
– Беременна?
– Вы же слышали.
Странно, в любом другом случае я тотчас подумал бы: «Да, есть повод поразмышлять». Это должна быть честная книга. Раньше, когда я писал о Геральдине, я не стал лучше, чем был. Теперь я не стал хуже.
Но с Вереной все не так. Догадался я не сразу.
– От кого вы беременны?
– Этого я не знаю.
– От этого итальянца?
– От него. Или от своего мужа.
– Вчера вечером вы сказали…
– Я соврала. Женщина должна спать со своим мужем, если она имеет любовника. Иногда это случается.
– Вы совершенно правы. Я не хотел вам вчера вечером возражать. Конечно, вы говорили Энрико, что целый год не спите с мужем.
– Конечно. Все женщины поступают так. Наверное, и вам какая-нибудь женщина говорила то же самое.
– Да.
– И?
– Я не верил этому. Но я не говорил, что я этому не верю. Нельзя быть несправедливым. Мужчины поступают точно так же, если у них есть любовница.
Некоторое время молчим. Потом я спрашиваю:
– Вы хотите ребенка?
– Боже упаси! В моей-то ситуации?
– Энрико знает?
– Энрико женат. Об этом никто не узнает. Я рассказала только вам. Почему только вам? Потому что мы уже так хорошо понимаем друг друга.
– Однажды…
– Что?
– Однажды вы полюбите меня.
– Перестаньте!
– Да-да, и такой любовью, к которой вы стремились. Я знаю это точно. Иногда бывают мгновения, когда я точно знаю, что произойдет. У вас есть врач?
– Мне нельзя рожать. – Она опускает голову. – После рождения Эвелин врачи сказали, что в дальнейшем это может быть опасно для жизни. Я должна быть в клинике. Это одна из причин.
– Причин чего?
– Что у меня в браке все так плохо, и что я так… что я такая.
– Не понимаю…
– Эвелин – внебрачный ребенок.
– Ну и что?
– Мой муж не способен…
– Так.
– Но он всегда очень хотел ребенка. Понимаете? Сына, которому он передаст свой банк. Когда я встретила его… тогда, в нищете… тогда я не сказала ему, что никогда больше не смогу иметь ребенка. Позднее я все же сказала ему об этом. Это было подло с моей стороны, да?
– Это была необходимость!
– Нет, я должна была его предупредить. При любых обстоятельствах! А потом мы с каждым днем становились все более чужими друг для друга. Он никогда не упрекал меня, то есть не было прямых упреков.
– А косвенных?
– Он… он любил меня, по-своему, в своем желании иметь ребенка он зависел от меня, и он не мог простить мне, что его мечта так и не исполнится. Он стал смотреть на меня другими глазами. Не так, как когда-то… Когда-то…
– Как на честную женщину.
– Да, именно так.
– И поэтому вы начали вести другую жизнь. Чтобы утвердиться в мысли, что вы еще женщина.
Она долго смотрит на меня.
– Вы какой-то особенный юноша, Оливер.
– Поэтому вы это сделали – верно?
Сегодня я впервые увидел Верену без косметики.
Я говорю ей об этом. Она отвечает:
– Специально, чтобы вас поцеловать.
– Но у вас ведь есть великолепная помада, которая не оставляет следов. Вы могли бы подкрасить губы, когда целовали Энрико.
– Ради этого не стоило.
– И все-таки между нами еще может быть любовь.
– Никогда. Это невозможно.
– Губная помада, – говорю я. – Губная помада подтверждает это. Надо подождать. У меня много времени в запасе.
Она удивленно смотрит на меня. Затем я спрашиваю ее:
– Когда вы скажете мужу?
– Сегодня вечером.
Я продолжаю задавать вопросы:
– В какую клинику пойдете?
Она говорит мне, в какую. Клиника находится на западе Франкфурта.
– Когда это произойдет?
– Если я завтра поеду, то послезавтра.
– Тогда я навещу вас в четверг.
– Это исключено! Я запрещаю.
– Мне ничего нельзя запретить.
– Вам нельзя сейчас рисковать.
– А я и не буду рисковать. У них наверняка есть отдельные комнаты. В приемной я укажу вымышленное имя. Я приду в первой половине дня.
– Почему в первой?
– Потому что ваш муж на бирже – или?
– Да, это верно, но…
– В четверг, Верена.
– Это безумие, Оливер, и вообще безумие даже то, что мы здесь.
– Безумие, но сладкое. И однажды наступит любовь.
– Когда? Если мне сорок. И Эвелин двенадцать.
– И даже если шестьдесят, – говорю я. – Я должен возвращаться в школу, половина четвертого. Кто пойдет первым?
– Я. Подождите пару минут, ладно?
– Хорошо.
Она идет к лестнице, оборачивается и говорит:
– Если придете в четверг, то назовитесь моим братом. Его зовут Отто Вилльфрид. Запомните?
– Отто Вилльфрид.
– Он живет во Франкфурте. – Она неожиданно засмеялась. – И сегодня вечером в одиннадцать выходите на балкон.
– Зачем?
– У, меня для вас сюрприз.
– Что за сюрприз?
– Увидите, – говорит она. – Увидите сегодня ночью в одиннадцать.
– О'кей, – говорю я. – Отто Вилльфрид и сегодня ночью в одиннадцать.
Я прислоняюсь к старой обветшалой балке, которая держит потолочное перекрытие, и слежу за тем, как она спускается по винтовой лестнице, медленно, осторожно, хотя на ней туфли на плоской подошве. На повороте лестницы она оборачивается еще раз.
– И все же это безумие, – говорит она. И исчезает.
Я слышу, как она говорит что-то Эвелин, затем голоса замолкают. Я не отхожу от люка. Я не смотрю на них. Я подношу руку, которую Верена держала в своей, к лицу и вдыхаю запах майских ландышей, который так быстро улетучивается. Минуты через три я тоже спускаюсь по старой винтовой лестнице. На улице я вспомнил, что надо зайти в «Квелленгоф», так как воротник моей рубашки испачкан помадой Геральдины. Я пускаюсь рысью и мчусь, времени у меня в обрез. И мне не хотелось бы опаздывать на занятия. В тот момент, когда я побежал, я увидел, как кто-то убегает из густого подлеска. Все произошло так быстро, что я снова, как и в первый раз, не сразу смог определить, кто это был. В конце концов это смешно. На этот раз я уже был готов к чему-либо подобному. Теперь я проявил большую зоркость, и мне удалось разглядеть моего «брата» Ганси.
Глава 9
«Нигде не думают так ревностно, как в Германии, о войне как о наиболее подходящем средстве для решения политических проблем. Нигде больше так не склонны к тому, чтоб закрывать глаза на ужасы и не обращать внимания на последствия. Нигде так безумно не приравнивают дружескую любовь к личному малодушию». Эти выводы журналиста Карла Оссицки, который предпочел умереть в концлагере, чем уступить насилию, прочитал нам доктор Петер Фрей в начале урока истории.
Доктор Фрей – самый лучший и самый умный учитель, который когда-либо был в интернате! Он худощавый, высокий, лет пятидесяти. Он хромает. Наверное, ему разбили кость в концлагере. Доктор Фрей всегда говорит тихо, и у него потрясающий авторитет. На его уроках никто не болтает, не позволяет себе быть наглым. На первом же уроке я понял, что его, хромающего доктора Фрея, все любят. За исключением одного – преуспевающего ученика Фридриха Зюдхауса, того самого, у которого нервно подергиваются уголки рта.
Ну да, если бы мой отец был в свое время нацистом, а теперь каким-то полномочным представителем, я тоже не смог бы любить доктора Фрея.
Прочитав цитату Оссицки, доктор Фрей сказал:
– Сейчас мы подошли к 1933 году. В большинстве школ и для большинства учителей здесь возникают затруднения. А именно с 1933 по 1945 годы. Об этих годах нечего рассказывать. С 1945 все начинается снова. И именно с так называемого раздела Германии, когда всеми способами стыдливо переписывались факты, свидетельствующие о том, что страна, начавшая эту чудовищную войну, в 1945-м должна была безоговорочно капитулировать перед всеми своими противниками. Далее следует еще один маленький перерыв, и мы уже в 1948 году, на пороге экономического чуда. Я не стану рассказывать вам то, чего вы не хотите слышать! Может быть, вам также не хотелось бы узнать истину о Третьем рейхе? Тем более что истина эта далеко не прекрасна. Большинство моих коллег берутся за это легко или вообще не говорят о ней, я же раскрою перед вами всю грязную действительность – если вы этого захотите. Кто этого хочет, должен поднять руку.
Кроме двух мальчиков, руку подняли все, даже девочки. Одного мальчика зовут Фридрих Зюдхаус, второго, представьте себе, зовут Ноа Гольдмунд!
Геральдина сидит напротив меня, смотрит на меня, когда поднимает руку.
Сейчас на ней юбка в складку, она сидит, положив ногу на ногу. И выглядит так, будто в любой момент может расплакаться. Временами она складывает губы для поцелуя и закатывает глаза.
Вальтер, с которым она провела каникулы, должно быть, заметил, как что-то изменилось. Она правильно рассчитала. Ей все равно. Все должны знать, что она принадлежит мне! Мне, который думает только о том, что в четверг должен посетить в клинике Верену. Мне кажется, если бы я не поднял руку, Геральдина тоже не подняла бы. Она делает все, как я. Она бледная, у нее темные круги под глазами. И она снова складывает губы для поцелуя и закрывает глаза.
Мне жаль ее, Распутницу. Она так же жаждет истинной любви, как Верена и я. Но помочь я могу только Верене.
Знаете, что ответили Ноа и этот Фридрих Зюдхаус, когда доктор Фрей спросил, почему они против того, чтобы он подробно рассказал нам о Третьем рейхе и его преступлениях?
Фридрих Зюдхаус:
– Господин доктор, я нахожу, что пора уже покончить с этим вечным самообвинением немцев, это опротивело уже всем нашим западным союзникам, всей загранице! Кому это на руку? Только ГДР, только коммунистам!
Это своеобразный мальчик. Вольфганг ненавидит его. Сегодня за завтраком он повторил кое-что из того, что Зюдхаус говорил якобы о себе. Например: «Если бы Гитлер справился с тем, что задумал, это было бы правильно. Слишком мало евреев отправили в газовые камеры».
– Если бы справился, – возразил на это Вольфганг. – Шесть миллионов – это ведь так мало!
– Ерунда! Не больше четырех! Самое большее четыре!
– Ну извини. Наверное, все-таки есть разница – четыре или шесть миллионов убитых.
– Все евреи должны быть уничтожены, они яд среди народов.
– Ты целый год встречался с Верой. Она наполовину еврейка. Ты знал это. С тобой ведь ничего не случилось?
– О полукровках можно говорить!
– Если она милая – да!
– Нет, вообще. И о полуевреях. В ней ведь пятьдесят процентов арийской крови. Следует быть справедливым…
Следует быть справедливым…
Странный мальчик этот Зюдхаус.
Знаете, что еще рассказал мне Вольфганг, который ненавидит его? Идеал Фридриха – Махатма Ганди. Как это понять? Виноваты родители, гадкие родители, которые так воспитали его. Я точно знаю, что происходит, когда такие родители, как у Зюдхауса, читают подобные строки. Они сжигают книги у стены и неистовствуют. Но моя книга должна быть откровенной, и я ни за что не буду лгать или что-то пропускать. Может, и надо бы придержать язык. Ведь случаются вещи и похуже.
Глава 10
Представляет интерес и мнение Ноа. Слегка заикаясь и опустив голову, словно он говорит что-то недозволенное, Ноа сказал:
– Господин доктор, вы знаете, как я уважаю вас за ваше самообладание. Мне известно, что пришлось пережить вам в концлагере. Я понимаю ваше желание рассказать нам подробно о Третьем рейхе. Но вы хотите совершить невозможное.
– Что именно? – дружелюбно и тихо спросил доктор.
– Вы хотите исправить неисправимое, господин доктор.
– Вы имеете в виду Зюдхауса?
– Хотелось бы. Вам это не удастся. Неисправимое нельзя исправить. В результате такие, как он, только еще больше станут вас ненавидеть.
– Это не так, Гольдмунд.
– Это чистая правда, господин доктор. Я действительно очень уважаю вас, но вы на ложном пути. У вас возникнут проблемы, если вы и дальше будете поступать так. Этот народ неисправим. Ваши усилия совершенно бессмысленны. Вы ведь видите: кто говорит что-то против нацистов, тот сразу коммунист! Вы готовы к таким обвинениям?
– Да, Гольдмунд. Я к этому готов.
– Извините, господин доктор, но я думал, что вы более дальновидны. Имеет ли смысл истина, если она абстрактна?
На это доктор Фрей ответил одним предложением, которое было таким точным по смыслу, что я должен его привести. Он сказал:
– Истина не абстрактна, Ноа, истина конкретна.







