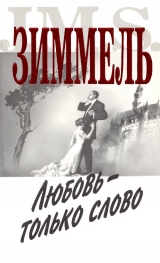
Текст книги "Любовь - только слово"
Автор книги: Йоханнес Марио Зиммель
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 41 страниц)
Глава 2
Восемь часов.
Раздается звонок. И триста детей мчатся в здание школы. Сегодня первым уроком у нас Хорек. Латынь. На лестнице меня ловит Геральдина. Она стоит совсем близко – мне не улизнуть.
– Что с тобой происходит?
У нее влажные губы, я вижу, как поднимается и опускается грудь. Она идет рядом.
– Происходит? Ничего? С чего ты взяла?
– Почему ты прячешься? Почему мы не можем встретиться?
– Геральдина, у меня…
– У тебя другая!
– Нет.
– Да!
– Нет! И когда я узнаю, кто она, закачу самый большой скандал из всех существовавших! Тебя у меня никто не отнимет! Понимаешь? Никто!
Ее голос стал пронзительным. Девчонки и мальчишки останавливаются и слушают, ухмыляясь и перешептываясь.
– Геральдина… Геральдина… тише…
– Вот еще – тише!
– Да, тише! Я требую!
В следующую секунду она резко обмякает, ее плечи опускаются, а на глазах выступают слезы.
– Я… я не то хотела сказать…
– Будет тебе.
Господи! Господи!
– Правда, – теперь она послушно шепчет. – Я больше не могу спать… по ночам я лежу и думаю о том, как это было в ущелье, в ту ночь… Я люблю тебя, Оливер… Я так люблю тебя…
До класса еще десять метров. Какими длинными могут быть десять метров!
– Ты меня тоже любишь?
– Конечно.
Она жмет мне руку.
– Когда мы увидимся?
– Пока не знаю.
– В три часа в ущелье?
Сегодня прекрасный день. Неярко светит солнце. По голубому небу растянулись гряды белых облаков, а с деревьев опадают пестрые листья, листок за листком.
– Нет, сегодня не получится.
– Почему нет?
– Я… я – под домашним арестом, – лгу я.
– Завтра?
– Да, завтра, может быть.
Надеюсь, до завтра Ганси что-нибудь придет в голову. Она крепко сжимает мою руку горячими, влажными от пота пальцами.
– Теперь я буду думать только о завтрашнем дне. Жить только завтрашним днем. С радостью ждать завтрашнего дня. Ты тоже?
– Да. Я тоже.
Почему это случилось именно со мной? Почему? Мимо проходит фрейлейн Гильденбранд. Ступает, держась за стену. Мы здороваемся. Она по-доброму улыбается. Я уверен, фрейлейн Гильденбранд нас даже не узнала. Она даже не знает, кто мы. И не знает, что пробудет здесь еще всего двадцать четыре часа. Я тоже этого еще не знаю. Никто не знает. Нет, один человек, наверное, знает. Ганси.
Глава 3
– Теперь я буду с радостью ждать завтрашнего дня, – сказала Геральдина.
Тут мы подошли к классу. Она еще раз поднимает на меня полные тумана глаза – такие же, как тогда, в ущелье, – затем идет на свое место, а вскоре приходит Хорек.
Сегодня Хорьку, несчастному, достойному сочувствия латинисту, комплексующему из-за маленького домика господину доктору Фридриху Хаберле в вонючем от пота поношенном костюме удастся окончательно и на весь год заработать ненависть всего класса, даже отличника Фридриха Зюдхауса. А это много значит! Ведь Зюдхаусу нечего волноваться о том, что, потирая руки, писклявым голосом сообщает Хорек:
– А теперь, друзья мои, перейдем к письменной работе. Прошу вас достать книги.
Весь класс достал Тацита, потому что все, разумеется, полагают, Хорек даст на перевод отрывок из «Германии».
Но тут изверг говорит:
– Не только Тацита, но, с вашего позволения, и стихотворения Горация.
Волнение в классе. Что это значит? Ответа долго ждать не приходится:
– Понимаете, я, собственно, не идиот!
Нет, нет, идиот.
– Я точно знаю, что вы на каждой работе пользуетесь шпаргалками.
(Шпаргалки: можно списать у соседа или использовать крохотные записочки, если заблаговременно выяснить, какой кусок попадется. А еще можно листать маленькие тетрадочки под партой. Сами знаете из книги «Об одном школьнике».)
– Так вот, у меня на уроке не спишешь, – говорит Хорек, страшно важничая, отчего запах пота еще больше усиливается. – Этот метод я позаимствовал у австрийского коллеги. Я разделю класс на группы А и Б. Одной группе достанется отрывок из Тацита, другой – отрывок из Горация.
Сейчас можно услышать едва слышное дуновение южного ветра за окном – так стало тихо. Геральдину, кажется, вот-вот вырвет. Она ведь так слаба в латыни! Вальтер, бывший возлюбленный, сидит позади нее, он всегда помогал Геральдине, помог бы и сегодня, несмотря ни на что, я уверен. Но что теперь поделаешь? У многих в классе такие лица, словно в них ударила молния. Такого еще не было!
– Рассчитайтесь! – командует Хорек.
Что нам делать? В первом ряду бормочут:
А, Б, А, Б…
Затем второй ряд. Хорек следит за тем, чтобы за каждым А никогда не сидел другой А, а всегда Б. Это значит, если мыслить практически и трезво, что списать в самом деле невозможно. Проклятье! Мне становится очень жарко. Сначала, до знакомства с Вереной, мне хотелось вылететь и из этого интерната, чтобы позлить старика. Но теперь все иначе. Совсем иначе…
Я попал в группу Б. Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы группе Б достался Тацит!
Хорек устраивает шоу. Прохаживается нескольку раз туда-сюда между рядами парт, улыбается и молчит. У Ноа хватает мужества сказать:
– Господин доктор, не могли бы вы теперь раздать нам отрывки? А то время идет.
Хорек останавливается и отрывисто командует, словно гвардейский офицер в кабаре (должно быть, он поцапался сегодня утром с женой в своем маленьком домике):
– Группа А переводит Горация, а группа Б – Тацита!
(Благодарю тебя, Господи.) Затем он раздает отрывки.
В Горации я ни в зуб ногой! В других интернатах, где я был, мы его еще не проходили. Пробелы образования. Стыдно. Из Тацита мне достается страница 18, главы с 24-й по 27-ю включительно. Главы небольшие, по десять-пятнадцать строчек каждая. Я уже говорил, что Тацита потихоньку выучил наизусть. Вот уже третий год, как я его читаю.
Итак, приступим! Я люблю тебя, Верена, люблю тебя и сегодня в три часа пополудни увижу тебя в башне. В нашей башне…
– Мансфельд, отчего вы так улыбаетесь?
Он заходит слишком далеко. Какая муха укусила это маленькое чудовище, черт возьми?
– Ведь позволительно улыбаться, когда работа доставляет удовольствие, господин доктор.
(Лучше купи себе новый костюм!) Я беру ручку и, сияя, смотрю на него. Хорек не выдерживает и снова принимается маршировать между рядами парт. Ну и ну, на этот раз двум третям класса он точно поставит кол. Но не мне! В этом даже есть свои преимущества – по три года сидеть в одном классе. Тогда с тобой мало что может случиться. Ну-ка, посмотрим, что здесь за мура:
«Genus spectaculorum unum atque in omne coetu idem. Nudi iuvenes, quibus id ludicrum est…» [36]36
Род зрелищ в любом собрании один и тот же. Обнаженные юноши, находящие забаву в состязании… (лат.).
[Закрыть]
Через час я разделался с этой гадостью. Подняв глаза, я вижу облетающие с деревьев красные, коричневые, желтые и золотистые листья. Идет осень, за ней наступит зима. На этом уроке за переводом «Германии» ко мне впервые приходит чувство, которое будет возвращаться – не часто, но будет возвращаться. Я решаю ни с кем о нем не говорить, даже с Вереной. А когда я дам ей «нашу» книгу, чтобы она сказала, хорошо это или плохо, то уберу страницу с этими строчками.
В этом чувстве нет ничего неприятного, ужасающего, панического. Собственно, это и не чувство вовсе, а убежденность. На уроке латыни у меня впервые в жизни возникает странная, но абсолютная убежденность, что я скоро умру. Странно, не правда ли?
Глава 4
Мы целуемся. Стоим в комнате старой башни – через проемы в стенах падает свет послеобеденного солнца, легкий ветерок приносит сюда листву – и целуемся. Я еще никогда ни одну девушку, ни одну женщину так не целовал. В этой книге я написал, что так чудесно и безумно, как с Геральдиной, больше ни с кем не будет. Так и с поцелуем Верены. Но Геральдина была сама страсть, чувственность, телесность. Теперь я целую Верену, и к этому добавляется что-то иное, что-то кроткое и нежное, словно задувающий в проемы стен южный ветерок.
Мы, подростки-хулиганы – назовемся же наконец этим словом, – все смешиваем с грязью, не так ли? Мы не выносим громких слов и патетического тона. И хулиган говорит вам, что примешивается к поцелую Верены: нежность, меланхолия, тоска и – любовь. Да, и любовь.
Я записал, что говорила о любви Верена тем вечером, когда меня пригласили в дом ее мужа. Но Верена – женщина, не помнящая своих слов, безрассудная и растерянная – как и все-все, о ком пишет Редьярд Киплинг. Есть стихотворения настолько прекрасные, что я их навсегда запоминаю. Он писал:
Обреченные на вечность. Заглавие книги и название фильма они взяли из строчки Киплинга. Но это про и Верену, и про меня, и про всех нас. Из миллионов проклятых и потерянных мы – Верена и я – стоим выше деревьев Таунуса в послеобеденный час солнечного сентябрьского дня и целуемся так, как я еще никогда не целовался.
Странно: Геральдина говорит, что любит меня, но не любит. Для нее это только страсть. Верена говорит, что для нее это только страсть, но любит меня, разумеется сама того не зная. Должно быть, ее подсознание знает, мускулы и жилы, железы и губы – ее тело знает больше самой Верены.
Кончиком языка она разжимает мне зубы и гладит язык. Обеими руками она обхватила мою голову, а я обнимаю ее тело. Любовь. Конечно, это любовь. Когда-нибудь она это заметит. «Любовь – только слово»? Нет, нет, нет!
Она отстраняется от меня, ее огромные черные глаза так близко-близко.
– Что с тобой?
Однажды я встретил девушку, тоже настоящую хулиганку, и, когда мы стали всерьез встречаться, придумали игру. Тот, кто скажет: «Я счастлив», – должен заплатить пятьдесят пфеннигов. Так мы пытались избавиться от проклятой сентиментальности! Тогда игра не стоила никому из нас и пфеннига.
– Я счастлив, – отвечаю я и снова хочу поцеловать Верену, мои руки залезают под ее свитер.
Но она отталкивает меня.
– Нет, – говорит она.
– Что такое?
– Давай прекратим. Я…
– Ну же…
– Где? Здесь? В этой вонючей дыре?
Я осматриваюсь. Пыль. Грязь. Хлам. Нам пришлось бы лечь на заплеванный пол. Ни одеяла. Ни воды. Ни мыла. Ничего.
– Но я хочу к тебе…
– Думаешь, я не хочу? – она быстро уходит от меня и становится спиной к проему. Между нами три метра. – Думаешь, я не хочу? Но не здесь! Мне нужна кровать! Я хочу, чтобы ты был нежен, чтобы нам никто не помешал. А здесь каждую секунду может войти кто угодно. Я хочу, чтобы у нас было время. А тебе через час нужно опять быть в школе.
Она во всем права.
– Итак, придется подождать, пока твой муж снова уедет.
– Так скоро он не уедет.
– Но тогда…
– Предоставь это мне. Я найду для нас местечко. Я же всегда находила где.
Видите, она такая. Только никаких чувств. А если чувство вырвется – нужно начать тут же топтать его ногами! Любовь – только слово…
– Кроме того, здесь есть и приятная сторона, – добавляет она.
– Какая?
– Самораспаление, ожидание премьеры.
Видите, она еще и это говорит.
Глава 5
В этот день на Верене блестящая куртка из черной кожи, ярко-красная юбка, ярко-красный свитер, ярко-красные чулки в сеточку и туфли на высоком каблуке. Иссиня-черные волосы ниспадают на плечи, а глаза горят. Я знаю, это избитое слово, но ее невероятно большие глаза правда горят!
– Оливер…
– Да?
– Кто научил тебя так целоваться?
– Я не знаю…
– Не лги! Это была женщина? Девушка?
– В самом деле, я…
– Скажи мне!
– Верена! Ты ревнуешь?
– Смешно. Мне просто интересно. Она тебя здорово научила.
– Никто меня ничему не учил, кроме тебя. Это была ты. Ты целовала, а я лишь позволял себя целовать.
– Мне уже неинтересно, – она машет рукой.
Вот такая она. За это я ее и люблю. Только за это?
– Когда все случится, Верена, когда?
– Ты больше не можешь ждать?
– Нет.
– Скажи.
– Я больше не могу ждать.
Она несколько раз подряд топнула ногой по полу. Должно быть, ее это возбуждает.
– Ты хорошо выглядишь, Оливер.
– Чушь.
– Честно! Все девчонки за тобой бегают?
– Нет.
– Да. И у тебя уже есть та.
– Это не правда. – Стоп! Я уже так часто врал в жизни. Я не хочу обманывать Верену, не могу обманывать Верену, никогда. – Я…
– Ну?..
– Я только спал с ней – на этом все!
– Для тебя. А для нее? Она тебя любит?
– Да. Но я сразу ей сказал, что не люблю.
– И ты снова пойдешь к ней?
– Никогда больше.
– Она знает об этом?
– Я скажу ей.
– Когда?
– Сегодня. Самое позднее – завтра. Она полусумасшедшая, знаешь? Я должен действовать осторожно, чтобы у нее в голове ничего не щелкнуло.
– Что значит полусумасшедшая?
Я рассказываю Верене все, что пережил с Геральдиной. Она молча слушает и в конце говорит:
– Так, значит, это девушка, которая украла браслет.
– Да.
– Ты должен ей сказать, Оливер. Ты должен ей сказать… почему ты на меня так смотришь?
– Я… конечно, я скажу ей. Странно только, что ты на этом настаиваешь.
– Отчего же странно?
– Обычно ты изображаешь ледышку…
– Я и есть ледышка. Но пока кто-либо мой любовник, других быть не должно.
«Любовь – только слово». Но для нее больше, чем слово, я совершенно уверен. Все это лишь слова.
– Могу я подойти к тебе?
– Если ты снова прикоснешься ко мне, что-то щелкнет в голове у меня.
– Я не буду прикасаться к тебе. Просто не хочу стоять так далеко.
– Подойди ближе, до столба.
Столб стоит в полуметре от нее. Я подхожу к нему.
– А где Эвелин?
– Я оставила ее дома. Я чередую, понимаешь? Чтобы Лео или садовник с женой ничего не заметили. Я сказала, что иду за покупками во Фридхайм. Кстати, этот Лео сегодня в первый раз после вечеринки мил со мной.
Этот Лео… Следует задуматься над такой фразой…
– Оливер, почему ты закрываешь глаза?
– Иначе я заплачу.
– Почему?
– Потому что ты так хороша.
Вот она привычным движением запрокидывает голову, и волосы разлетаются.
– Оливер, у меня плохая новость.
– Плохая новость?
– Мы покидаем виллу и уже завтра возвращаемся во Франкфурт.
Когда-то я брал уроки бокса. На первом же уроке партнер по спаррингу заехал мне в печень. Меня вынесли с ринга. Вот так чувствую я себя и сейчас.
– Муж сообщил это сегодня утром. Не понимаю, что случилось.
– Он что-то заметил?
– Может быть. А может быть, и нет. Иногда он совершает поразительные, непостижимые поступки. Так он на свой лад держит меня в состоянии постоянного страха, понимаешь? Никогда не знаешь, что готовит грядущий час, что на уме у моего господина и повелителя.
– У твоего господина и повелителя…
– Я завишу от него, живу за его счет. И Эвелин тоже. Смог бы ты нас прокормить?
– Я…
Черт побери, отчего я не старше? Почему совершенно ничего представляю собой?
– Пока нет. Только, когда я школу…
– Бедный Оливер, – говорит она, – не печалься. Я очень ловкая. Я уже так часто обманывала мужа. Отсюда на машине всего час пути до Франкфурта. Мы живем на Мигель-аллее, Дом номер 212. И у тебя есть машина.
– Да… – сейчас мне снова хочется плакать.
– Вот видишь! Я найду для нас кафе, найду маленькую гостиницу или пансион. А здесь ты просто исчезнешь. У вас ведь такой забавный воспитатель, ты говоришь.
– Да уж…
– И тогда мы встретимся.
– Но ведь всегда лишь на несколько часов, Верена, всегда лишь на несколько часов!
– Не лучше ли так, чем совсем никак?
– Я хочу быть с тобой всегда-всегда, день и ночь.
– Днем ты ходишь в школу, малыш Оливер… Но мы все же будем вместе… ночи напролет… до рассвета… Чудесные ночи… Мой муж снова уедет…
Внизу идут люди, мы слышим их речь и молчим, пока не стихнут голоса. Тогда я говорю:
– Мерзко.
– Что?
– Послезавтра, вдобавок ко всему, мы поедем на экскурсию! Она будет длиться три дня, И я не смогу приехать во Франкфурт. И не увижу тебя теперь шесть дней.
Она насторожилась:
– А что это за экскурсия?
Я рассказал ей.
Глава 6
Собственно, произошло это так: сегодня у нас снова был урок истории с тощим и хромым доктором Фреем. Он сказал:
– Не хочу, чтобы кто-нибудь из вас думал, что я рассказываю сказки о Третьем рейхе или преувеличиваю. Поэтому пятнадцатого мы отправимся в Дахау и посетим концентрационный лагерь, который там располагался. На автобусе мы доедем до Мюнхена, переночуем, а на следующий день – в Дахау. Там недалеко. Вообще концлагеря располагались, как правило, вблизи городов и сел. Только люди в этих городах и селах ничего о них не знали. Что с вами, дорогой Зюдхаус?
Отличник Фридрих Зюдхаус, чей отец был раньше нацистом, а теперь – генеральный прокурор, вполголоса что-то сказал. Теперь он встает и громко заявляет:
– Я полагаю, бывший концлагерь – не предмет для экскурсии!
– Мы едем не на экскурсию, дорогой Зюдхаус.
– Господин доктор, могу я вас попросить, не говорить мне вечно «дорогой Зюдхаус»? – У отличника кровь прихлынула к лицу.
– Извините. Я не со зла. Сегодня ночью я прочитал в «Валленштейне»: «При Штральсунде он потерял двадцать пять тысяч человек». После я не мог заснуть и все думал. Что значит «он потерял»? Принадлежали двадцать пять тысяч ему? Двадцать пять тысяч человек – это ведь двадцать пять тысяч жизней, двадцать пять тысяч судеб, надежд, опасений, ожиданий, историй любви. Господин Валленштейн не потерял двадцать пять тысяч человек – двадцать пять тысяч человек умерли, – говорит доктор Фрей и идет, хромая, через весь класс. – И после них остались жены, дети, матери, семьи, невесты! Двадцать пять тысяч – думаю, это очень много. Наверное, многие не умерли сразу, им было очень больно, они еще долго мучились. А из выживших многие остались калеками: однорукими, одноногими, одноглазыми. Об этом не написано в исторических книгах или у Шиллера. Вообще нигде не написано. И нигде не написано, как выглядел концлагерь Дахау, как он выглядит сегодня. Вам следует привыкнуть к тому, что у меня свой метод преподавать историю. Если кто не хочет ехать – заставлять не буду. Нужно только поднять руку.
Я оборачиваюсь. Ноа поднимает руку. А больше никто. Даже Зюдхаус. Он садится, «выпуская пар», по выражению Ганси: лицо у Зюдхауса горит. От гнева. Конечно, если бы мой отец был раньше нацистом, и у меня горело бы от гнева лицо. На самом деле Зюдхауса надо пожалеть. Человек – продукт воспитания.
– Вы не хотите поехать с нами, Гольдмунд?
– Нет, я прошу позволить мне остаться здесь.
Доктор Фрей долго смотрит на Ноа, чьи родители погибли в газовой камере в Аушвице. Ноа спокойно выдерживает его взгляд.
– Я понимаю вас, Гольдмунд, – наконец говорит доктор Фрей.
– Я знал, что вы меня поймете, господин доктор, – отвечает Ноа.
Доктор Фрей обращается к остальным:
– Итак, решено. Гольдмунд остается здесь. А мы отправляемся пятнадцатого числа в девять часов утра.
И тут Вольфганг вдруг начинает хлопать в ладоши. Вольфганг – сын военного преступника.
– А с вами-то что, Гартунг?
– Вы великолепны, господин доктор!
На что доктор Фрей отвечает:
– Попрошу не выражать мне никаких симпатий.
Глава 7
Все это я рассказываю Верене в нашей башне. Ни с того ни с сего она начинает улыбаться и спрашивает.
– Пятнадцатого?
– Да.
– А шестнадцатого вы – в Мюнхене?
– Да. А семнадцатого возвращаемся домой. Что случилось?
– Прежде у меня была для тебя плохая новость. А теперь – хорошая. Шестнадцатого я тоже буду в Мюнхене. Одна!
– Что?
– Один друг юности женится. Полагаю, Манфред – мой муж – терпеть его не может. Друг попросил меня быть свидетельницей на свадьбе. Бракосочетание состоится в девять часов. Если Дахау находится так близко от Мюнхена, то вы вернетесь самое позднее после обеда.
– Самое позднее.
– И тогда ты придешь ко мне… в гостиницу… У нас будет время после обеда… весь вечер… и вся ночь, целая ночь!
Я судорожно сглатываю. Это происходит со мной всегда, когда я волнуюсь.
– Через четыре дня, Оливер! В Мюнхене! В городе, где нас никто не знает! В городе, где нам не нужно бояться! Никакой спешки!
– Да, – говорю я, задыхаясь.
В три прыжка она оказывается рядом со мной, обнимает меня, снова смотрит в глаза и шепчет:
– Я так рада…
– Я тоже…
Потом мы целуемся. Как и в первый раз. Как мы, верно, всегда будем целоваться. Ведь это же любовь. И пока мы целуемся, все начинает вокруг меня кружиться: столб, проемы в стенах, хлам – все-все, и я думаю: Верена и концлагерь Дахау. Концлагерь Дахау и Верена.
Прелестное сочетание, не правда ли? Безвкусица, вы не находите? Ужасно, вы не находите? Я скажу вам, что это! Это любовь в тысяча девятьсот шестидесятом году от Рождества Христова.
Глава 8
В следующие двадцать четыре часа я совершаю три грубые ошибки, каждую из которых нельзя исправить. Каждая из них будет иметь необратимые последствия. Я веду себя как идиот, я, всегда считавший себя таким умным.
Итак, по порядку.
Верена первой покидает башню. Я выжидаю несколько минут, затем следую за ней. Не успел я выйти из-за каменных стен и сделать около сотни шагов, как мне навстречу спешит слуга Лео, худощавый, невысокого роста, надменный и самоуверенный. Он выгуливает боксера Ассада. На этот раз на господине Лео старый серый костюм, рубашка и очень поношенный галстук.
– О, добрый день, господин Мансфельд! – он кланяется с преувеличенным рвением.
– Добрый день.
– Вы, должно быть, посещали наблюдательную башню?
– Да.
– Старинная постройка.
Сегодня господин Лео выглядит печальным. Его вытянутое лощеное лицо, кажется, стало еще длиннее, а вместо губ – две тоненькие ниточки.
– Значит, древние римляне построили башню.
– Да, мы в школе это тоже проходили.
Он вздыхает.
– Почему вы вздыхаете, господин Лео? (Не видел ли он Верену?)
– Как вы об этом говорите, господин Мансфельд! Тихо, Ассад, тихо! Как вы об этом говорите – в школе проходили… Вы проходили это в дорогом частном интернате, господин Мансфельд. Я, пардон, пожалуйста, раз уж зашла речь, мог ходить только в народную школу. Мои родители были бедны. А я так жаждал знаний!
Он в самом деле сказал «жаждал»! Люди говорят забавные слова.
– Поверьте мне, я несчастный человек, господин Мансфельд. Даже сейчас – а мне сорок восемь лет – я хотел бы развиваться, может быть, открыть небольшую гостиницу в провинции, ресторанчик. Быть слугой – неприятно, поверьте мне!
Чего добивается этот скользкий тип?
– Конечно, нет, господин Лео. Боюсь, мне пора…
Но тут он хватает меня за рукав, пытаясь придать взгляду как можно больше печали. Попытка не удается. Его серые рыбьи глазки остаются холодными и коварными. Я уже писал, что бывают минуты, когда я точно знаю, что произойдет, что собеседник скажет или сделает. Сейчас именно такая минута. Господин Лео смертельно опасен. Неожиданно у меня пробежал мороз по коже.
– У меня уже были деньги, – жалуется господин Лео, загораживая мне путь, – сэкономленные пфенниг за пфеннигом. А потом судьба сыграла со мной злую шутку! Самое плохое всегда происходит только с бедняками, пардон, пожалуйста. Деньги идут к деньгам – так ведь говорят, верно?
– Что произошло?
– Меня одурачил один обманщик. Показал мне маленькую гостиницу в провинции. Чудесно обустроенную. Удивительно выгодно. Кухня – просто мечта. Столовая…
– Да, и что?
– Пардон, пожалуйста. Я был восхищен и хотел сразу купить. Он взял у меня деньги. А через три дня я узнал гнусную правду.
– Какую правду?
– Этот человек не был владельцем гостиницы, а всего лишь маклером! Владелец уполномочил его продать заведение, а сам отправился в долгосрочное путешествие. Персонал был научен. Так что подлец мог водить меня по зданию, приняв вид хозяина. Разве это не ужасно?
Он достает носовой платок, сморкается и скорбно разглядывает, что получилось.
– Вы должны подать в суд на этого человека.
– Как я могу, пардон, пожалуйста? Он, разумеется, сразу исчез. Бюро во Франкфурте, гербовая бумага – все подложное! А прекрасный автомобиль взят напрокат.
Он делает шаг в мою сторону, и я чувствую его дурное дыхание.
– У вас ведь тоже такой прекрасный автомобиль, господин Мансфельд, не правда ли? Я видел его в гараже во Фридхайме.
– Какое он имеет к этому отношение?
– Боюсь, вам придется помочь бедняку.
– Не понимаю.
– Нет-нет, уже понимаете! Вы дадите мне пять тысяч марок. Чтобы у меня снова были гроши на черный день. Конечно, пяти тысяч марок недостаточно, но с закладными и ссудами…
– Что вы сказали?
– Вы должны дать мне пять тысяч марок, господин Мансфельд. Пардон, пожалуйста, мне трудно просить вас, но иначе нельзя. Нет, иначе нельзя.
– Во-первых, у меня нет пяти тысяч марок…
– Вы могли бы получить кредит, имея в распоряжении прекрасный автомобиль.
– А во-вторых, я хотел бы вам помочь, но нахожу все же очень странным, что вы обратились с подобной просьбой именно ко мне, совершенно чужому человеку.
И я знаю, знаю все, что он скажет…
– Возможно, я вам чужой человек, господин Мансфельд, но вы для меня не чужой, пардон, пожалуйста.
– Что это значит?
– Когда вы были в гостях у господина Лорда и я нес кофе, то нашел дверь в гостиную незапертой. Я просто не мог не услышать, о чем вы говорили с мадам.
– Я вовсе ничего…
– Господин Мансфельд, пардон, пожалуйста, успокойтесь. Взгляните на меня. Меня жизнь пообтрепала больше, чем вас. Мой отец не был миллионером. Заметьте, я спокоен. К сожалению, я не мог не увидеть, как вы и мадам собирались поцеловаться…
– Ложь!
– Я привык к ругани, господин Мансфельд. Конечно, я солгу и утверждая, что видел, как сударыня прежде вас вышла из башни. Конечно, я солгу, назвав мадам возлюбленной господина Саббадини…
– Вы что, сошли с ума?
– Я – нет, господин Мансфельд, пардон, пожалуйста, я – нет! Мадам – и я говорю это с большим уважением, я всерьез озабочен – мадам, должно быть, страдает депрессией и запуталась в чувствах, и мне – за что мне это, Господи? – в подробностях, точных до неприличия, известно о том, что она делала в последние годы.
– Что же она делала?
– Обманывала господина Лорда, пардон, пожалуйста. И со многими…
– Если вы не замолчите, я ударю…
– Маленького, слабого, бедного человека? Вы в самом деле хотите это сделать, господин Мансфельд, вы, высокий, богатый и юный? Ну что ж, к другому обхождению я не привык. Бейте. Ударьте! Я защищаться не буду.
Так больше продолжаться не может. Я знал, знал в точности, что произойдет. Но продолжаться так не может.
– Замолчите! В ваших утверждениях – ни слова правды!
– Существуют доказательства, господин Мансфельд, пардон, пожалуйста. Существуют телефонные разговоры.
– Что значит телефонные разговоры?
– У меня есть магнитофон. Кроме того, существуют письма. К сожалению.
– Сволочь.
– Вы – моя последняя надежда, господин Мансфельд. Заложите автомобиль. Наверное, вы получаете много денег на карманные расходы. Так вы могли бы в рассрочку его выкупить.
– Пять тысяч марок? Это же безумие!
– Это безумие читаешь в письмах, безумие слышишь в магнитофонных записях.
Письма. Телефон. Черт возьми, почему Верена не была осторожна?
– Я уверен, господин Лорд сразу бы развелся, узнай он обо всем. А теперь и о вас…
– Я…
Но теперь Лео больше не дает себя перебивать, свинья! Он очень напоминает мне «брата» Ганси. Вот уже давно он намеренно переливает из пустого в порожнее.
– …и о вас, я скажу, позвольте мне выговориться, пардон, пожалуйста. Мадам жила, ходят слухи, в… гм… тяжелых условиях…
Я делаю шаг вперед. Он отходит на шаг назад, но продолжает говорить:
– …и, полагаю, она очень боится, что придется вернуться в эти условия. Знаю, мадам вам симпатична. Что такое пять тысяч марок, если речь идет…
Его голос пропадает, как если бы кто-то повернул на радиоприемнике ручку громкости. Я смотрю на него и думаю: конечно, он не знает ничего наверняка, у него нет доказательств, он блефует. А затем – снова его голос:
– …до конца моих дней остаться слугой и день за днем…
– Прекратите! У вас нет ни единого письма! Все это надувательство!
В ответ он вынимает из кармана три письма в конвертах, на которых указан адрес во Франкфурте, и молча передает их мне. Одно я читаю. Этого довольно.
– И сколько писем?
– Восемь.
– А магнитофонных пленок?
– Тоже восемь.
– А где гарантия, что вы не лжете? Вы же вымогатель.
– Конечно. А где гарантия, пардон, пожалуйста, что вы не подадите на меня в суд за вымогательство? Может быть, ваша симпатия к мадам все же не так сильна.
И вот я совершаю ошибку номер один. Я решаю, что любым способом должен заполучить эти письма и пленки. И ни в коем случае нельзя рассказывать об этой истории Верене. А если я расскажу, она, разумеется, порвет со мной отношения. Дело не в том, что мне не хочется ее беспокоить. Идти на поводу у вымогателя – безумие. Но ведь она не пожелает меня больше видеть! Она будет верна мужу – по меньшей мере некоторое время, а может, и всегда. Нет, нельзя Верене ничего рассказывать об этой истории. Сразу после первой ошибки я совершаю вторую:
– Если я раздобуду деньги, я, конечно, должен получить письма и пленки.
– Разумеется.
– Да, разумеется! А потом вы придете и скажете, мол, писем и пленок не восемь, а пятнадцать!
– Клянусь вам…
– Прекратите! Иначе я вас все-таки ударю!
– Я привык. Привык к подобному обращению.
– Вы дадите мне расписку о получении денег.
Идиотизм такого требования я пойму позже.
– Ну конечно же, господин Мансфельд, охотно!
Имеет смысл сообщить этому типу, что он грязная свинья? Ни малейшего. Что бы это изменило? Ничего. А одного-единственного письма достаточно… И вот у меня в руках – еще два письма, на конвертах – другой почерк. А у него – еще пять. Предположительно пять…
– Когда я могу рассчитывать получить деньги, господин Мансфельд? Пардон, пожалуйста, но это достаточно спешно.
– Во-первых, мне нужно поехать во Франкфурт. Сначала мне нужно найти закладную контору…
– Не нужно, – он достает листок бумаги. – Я позволил себе уже выбрать контору. «Коппер и К°». Лучшая контора в городе. Самые выгодные условия. Самые низкие проценты. Я рассудил, если, пардон, пожалуйста, вы, например, завтра на досуге отправитесь во Франкфурт, отдадите техпаспорт и подпишите вексель, то послезавтра уже получите чек!
Теперь он говорит все быстрее и быстрее.
– Но чек мне не нужен! Вы можете его аннулировать, прежде чем я успею снять деньги со счета. Я бы хотел получить денежки наличными.
Как идиот, настоящий идиот, я попадаюсь в его мерзкие ловушки.
– Послезавтра в три часа пополудни буду ждать вас здесь.
– Как это? Ведь господин Лорд уже завтра уезжает во Франкфурт.
– У него там свои слуги. Семья садовника и я остаемся здесь на всю зиму. Ах, если б вы знали, как порой одиноко, как…
– Стоп. Точка.
– Пардон, пожалуйста. Послезавтра в три?
Верена. Она ничего не должна узнать. Иначе я ее потерял. Иначе я ее потерял. Ошибка номер один. Нужно заплатить этому мерзавцу и получить письма и пленки. Нужно заплатить. Ошибка номер два.
– Да.
– Позволю себе сказать, пардон, пожалуйста, что мне будет крайне неприятно не найти вас послезавтра здесь, дорогой господин Мансфельд. Вперед, Ассад, вперед! Ищи палочку, ищи! Да где же эта славная палочка?







