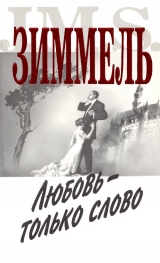
Текст книги "Любовь - только слово"
Автор книги: Йоханнес Марио Зиммель
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 41 страниц)
Глава 19
Подсчет длится двадцать минут.
Все дети внимательно наблюдают за тем, что мы делаем. Бумажки со словом «да» складываются в левую коробку, бумажки, в которых дети воздержались от принятия конкретного решения – во вторую.
Разворачиваю одну, на ней маленький ребенок написал: «Все какашки!» На другой я нахожу нарисованный свинячий пятачок, третья – пустая. Это нежелание голосовать. Все три бумажки недействительны.
Через двадцать минут мы заканчиваем сортировку. Для верности пересчитываем еще раз. Многие считают вместе с нами, некоторые – очень громко, и все на своем родном языке.) Потом я могу записать результат.
Заглядываю в свою записную книжку и уверенно говорю:
– Выборы дали следующие результаты: с учетом одиннадцати больных недействительных голосов – одиннадцать; воздержавшихся – тридцать два; проголосовавших «за» – двести пятьдесят шесть.
Услышав это, многие, как сумасшедшие, начинают хлопать и кричать: «Ура!»
Затем снова становится тихо.
– Проголосовавших против – семнадцать.
Свист, крики недовольства и попытки показать свою силу. Несколько ребят вновь хотят наброситься на Зюдхауса, белого как мел.
– Всем успокоиться! Я объявляю: наши выборы показывают, что подавляющее большинство за то, чтобы доктор Фрей остался.
Опять аплодисменты. Ноа не хлопает. Он улыбается своей печальной еврейской улыбкой. И в его глазах я вижу шесть тысячелетий мудрости и беспомощности.
– Второй пункт повестки дня, – говорю я. – Шеф поручил мне это дело – только не думайте, что я стремился к этому, – так как я самый старший из вас, но вовсе не самый умный. – Ироничные аплодисменты. – Я вижу, что вы со мной согласны. Но моего ума хватает на то, чтобы сказать вам: если вы сейчас отлупите Зюдхауса, то только значительно усложните ситуацию. Тогда наши выборы окажутся напрасными, а взрослым вы докажете только то, что тоже используете методы нацистов.
– Как же так? Он первый применил их! – кричит Томас.
– Хочешь быть таким, как он?
Томас сплевывает на землю.
– Да, приятель, но с этой свиньей надо что-то делать, – рассуждает Вольфганг, все еще крепко держа Зюдхауса за руку. – Не можем же мы за то, что он совершил, кормить его шоколадом!
Вперед из толпы выходит маленькая Чичита и говорит своим высоким голоском:
– Кто кричит и дерется, тот всегда не прав. Я голосую за то, чтобы Зюдхаус находился в «тюрьме», пока не прояснится это дело.
– Браво! – кричит кто-то.
Вновь звучат аплодисменты. Я вижу, что Ноа улыбается маленькой бразильянке. Она сияет.
– Кто за то, чтобы Зюдхауса держать в «тюрьме», поднимите руки!
Взмывается лес рук.
– Помогите мне сосчитать, – говорю я Ганси и Рашиду.
Мы считаем дважды.
Двести пятьдесят четыре человека за то, чтобы Зюдхаус был в «тюрьме».
«Тюрьма» – это страшнее самого страшного наказания. Это означает, что начиная с этого дня ни один ученик не будет разговаривать с Зюдхаусом, никто не будет обращать на него внимание, давать списывать, не будет отвечать, когда Зюдхаус заговорит. «Тюрьма» – это значит, что с сегодняшнего дня все дети в столовой будут пересаживаться за другой стол, если Зюдхаус подойдет к ним. С сегодняшнего дня Зюдхаус будет спать один, так как в исключительных случаях шеф разрешил и предусмотрел то, что он называет «школьным самоуправлением». Есть пара комнат, в которых стоит одна-единственная кровать. «Тюрьма» означает, что с сегодняшнего дня Фридрих Зюдхаус будет так одинок среди трехсот детей, как если бы он оказался на Луне.
– Ступай, – говорит Вольфганг и отпускает его руку. Первый ученик уходит. При этом, обернувшись, он произносит:
– Вы еще получите за это, свиньи!
Но это звучит совсем не убедительно. Триста четыре человека смотрят ему вслед до тех пор, пока он не исчезает из поля зрения.
– Пункт третий повестки дня, – говорю я. – Самое главное. Тем, что мы провели выборы и объявили Зюдхаусу бойкот, достигнуто еще не все.
– Почти ничего не достигнуто, – говорит Ноа.
– Многое, – говорю я, – но недостаточно.
– Что мы можем еще сделать?
– Мы должны показать своим родителям, что мы решительно готовы бороться за доктора Фрея…
– Скажи еще, сражаться, – бормочет Ноа. – Тогда мне понадобится одна из картонных коробок из-под ванильного пудинга, который нам давали в среду.
– Конечно, сражаться! – кричит Томас. Он взбешен и атакует Ноа. – Тебе хорошо! Тебе легко быть умным, улыбаться и говорить, что все это не имеет никакого смысла. Твоих родственников отправили на тот свет в газовых камерах. Но мой отец жив! В последнюю войну он уничтожил сотни тысяч людей. Я не хочу стать таким, как он. Да, я хочу сражаться, биться. И ты не должен относиться к этому с улыбкой.
– Томас, – печально говорит Ноа, – ты замечательный парень. Извини за то, что я улыбнулся.
Маленький Рашид, губы которого посинели от холода, спрашивает:
– Как это сделать? Как будут бороться за доктора Фрея?
Маленький Джузеппе, который давно мерзнет, на ужасном англо-немецко-итальянском говоре возражает:
– Я специалист. В Неаполе мой отец…
– Который сидит в тюрьме, – быстро и подло замечает Али.
Вольфганг дотягивается до него рукой и также быстро говорит:
– Не дери горло, малыш. А то я сделаю из тебя компот! – Али умолкает. – Продолжай, Джузеппе, – приветливо улыбается Вольфганг маленькому итальянцу.
– Что случилось с твоим папой?
– Это была мой отчим! Я уже говорила об этом!
– Это не играет никакой роли, – успокаивает его Ноа. – Мы все знаем, что твой отец был посажен не за подлое преступление, а потому, что принимал участие в стихийной забастовке. Здесь нечего стыдиться.
Джузеппе проводит рукой по глазам.
– Спасибо, Ноа. Да, забастовка. Это я хотеть сказать.
– Что?
– Мы должны организовать забастовка. Все те, кто написать «да», организовать забастовка.
Томас начинает смеяться.
Он уже все понял.
До Вольфганга еще не дошло.
– Что за забастовка, Джузеппе?
– Мы не идем в школа, да? Мы не идем в школа до тех пор, пока шеф не сказать: «Доктор Фрей остается!»
– Шеф совсем не хочет выставить доктора Фрея за дверь, – говорит Ноа. – Этого требуют родители. Этой забастовкой мы создадим трудности шефу и ничего не добьемся.
– Мы добьемся все, – кричит Джузеппе.
– Чего добился твой отец? – спрашивает Ноа. – Они запрятали его в тюрьму.
– Да, но только потом – после истории с Нойбаум. Тогда после эта забастовка все рабочие получили на шесть процентов больше… как это по-немецки?
– Зарплата, – говорит Томас.
– Да, зарплата. Все должны держаться вместе, правда?
Маленький принц спрашивает своим нежным голоском:
– А если нас всех посадят, как твоего отца?
– Никогда в жизни!
– Жаль, – говорит Томас.
– Как это жаль? – недоумевает принц.
– Это было бы самым замечательным. Самая большая пропаганда! Двести пятьдесят шесть детей находятся в заключении, потому что хотят оставить в школе преподавателя-антифашиста! Представьте себе это! Лозунги с крупными надписями! Международная пресса! В Германии единственные демократы – дети! Это было бы великолепно! – Томас вздыхает. Потом смеется. – Ведь так и будет! Я знаком в Бонне с двумя английскими корреспондентами. Им-то я напишу уже сегодня.
Говорит совсем маленький мальчик, которого я раньше не видел:
– С забастовкой мне все понятно, мне тоже нравится. Но у меня такие строгие родители. Они будут бить меня до синяков, если шеф вышвырнет из школы тех, кто бастует!
Спрашивает Вольфганг:
– Почему он должен вышвырнуть нас? Он должен быть нам благодарен. Джузеппе, ты великий человек! – Джузеппе радостно улыбается. – И после того, что говорил здесь Оливер, шеф все-таки на стороне доктора Фрея. Некоторые отцы-нацисты оказывают на него давление. Наша забастовка должна его обрадовать! И еще лучше было бы иметь возможность вышвырнуть таких типов, как Зюдхаус, а не нас!
– Зюдхаус уйдет сам, я вам это гарантирую, – обещает Томас.
– Я напишу сейчас обоим журналистам, что здесь происходит. В «Таймс» или в «Дейли миррор». Дружище, возможно, это дело!
– Притормози, – сдерживает его Ноа. – Ты можешь им написать сразу же! В срочном порядке. По-твоему, они обязаны приехать срочно? Но они не должны напечатать ни одной статьи.
– Почему нет?
– Наверное, потому, что нам не нужна никакая статья. Твой отец получил надбавку к зарплате в шесть процентов без публикации статей, правда?
– Си.
– А почему?
– Директор производства стыдился. Ему стало неловко.
– Наверное, некоторым господам отцам тоже станет неловко, – говорит Ноа.
Странно, как он сразу изменился. На его щеках появились чахоточные красные пятна. Он, всегда повелевающий, рассудительный, вовсе не повелевает, а взволнован так же, как и Вольфганг.
Я должен подумать: в Третьем рейхе евреи всегда избегали сопротивления, хотя и знали, что это приведет их в газовую камеру. Ни один из них не расстрелял палача. Ни один не оборонялся – только евреи в варшавском гетто. Сегодня жители Израиля – качки-великаны, а их девушки учатся стрелять. Наступает время, когда самый жалкий червь больше не позволяет наступать на себя, когда кусает самая слабая собака? «Статьи – наше самое сильное оружие!»
– Ты сразу стал оптимистом, – говорю я Ноа.
– Я не имею права сразу стать таким? – вспыльчиво спрашивает он. Сразу после этого он вновь перевоплощается в начальника. – Впрочем, я не столько оптимистичен, сколько реалистичен. Когда совершают что-нибудь подобное, то делать это надо правильно.
Он стоит рядом со мной, и я слышу, как хорошенькая Чичита шепчет ему:
– С твоей стороны было разумно сказать о статье.
– Вопрос чистой логики.
– Нет, ты умный, рассудительный, – шепчет маленькая бразилианка. – Ты и мистер Олдридж – самые разумные здесь люди. Я думаю, ты даже умнее всех.
Ноа смущенно откашливается и смотрит вокруг. Потом улыбается, и на этот раз улыбка у него радостная…
На следующее утро, восьмого декабря, двести шестьдесят один человек не приходят на занятия. Это значит, что пятеро из нерешительных – тоже. Когда учителя в восемь утра пришли в классы, они не поверили своим глазам! У малышей лишь несколько учеников сидят за партами. У учеников постарше отсутствуют почти все. В моем классе, когда входит Хорек-альбинос, встает один Фридрих Зюдхаус. Первый ученик не в состоянии дать объяснение чрезвычайному происшествию. Хорек бежит к шефу. Уже собрались другие учителя. Я стою с доктором Флорианом, так как должен сообщить ему о наших намерениях. Он не сказал ни слова. Только осмотрелся вокруг. Я думаю, что он улыбался, но не хотел, чтобы я видел это.
– Господин директор, в моем классе… – начинает, задыхаясь, Хорек, весь покрытый испариной.
Шеф указывает на записку, приклеенную с внешней стороны двери. Там написано:
«Мы будем бастовать до тех пор, пока не получим уверений в том, что доктор Фрей останется в школе, не будет подвергаться давлению и всякого рода принуждению и сможет преподавать, как и раньше».
Текст составил Ноа. Плакат мы повесили с ним около двух часов ночи. Мы должны были отжать оконную раму, так как входная дверь была заперта. Деньги на новое окно сегодня утром я сразу же принес шефу. Он вернул их мне и сказал:
– Я это оплачу сам. Вы спокойно можете разбить еще пару стекол.
– Достаточно одного, господин директор.
– Это лишь символически. Я благодарю тебя, Оливер.
– Не благодарите меня так рано, кто знает, что еще произойдет дальше.
– Это мне безразлично!
– Безразлично? Позавчера же вы сказали, что потеряли всякое мужество!
– Но с вами я вновь обрел его, – возражает шеф и безмолвно указывает, пожимая плечами, на подпись под плакатом:
«Эту забастовку организовали 261 из 316 учеников интерната профессора Флориана.
Фридхайм-на-Таунусе, 8 декабря 1960 года».
Глава 20
Конечно же, шеф мог выйти на улицу и сделать все, чтобы избежать даже видимости того, что он на нашей стороне. Потому-то этим утром в восемь тридцать он выступает с обращением по громкоговорителю. Он настоятельно просит всех детей немедленно появиться в школе. Дети, которые его слышат, лишь ухмыляются. Шеф говорит, что если через час мы не будем в классах, то нас приведут силой.
– Есть еще кое-что, – заявляет Джузеппе. – Сидячая забастовка.
Через час, когда воспитатели и учителя приходят в дом, где живут маленькие мальчики, все малыши сидят на корточках на полу. Они притворяются вялыми, позволяют поднимать себя и нести. Через несколько метров учителя уже устают, до школы надо идти двадцать минут! Правда, учителя и воспитатели не так уж и усердствуют в этой работе. Они пробуют привести только маленьких, тех, кто постарше, они вообще оставили в покое. Как бы они смогли нести такого верзилу, как, например, Вольфганг?
Из вилл, где проживают маленькие и большие девочки, мы слышим, что дела там идут еще приятнее. Юные дамы протестуют против того, чтобы их хватали мужчины. Красивая Сантаяна сочла необходимым пригрозить шефу, что она вызовет полицию, если кто-то из профессорско-преподавательского состава невзначай дотронется до нее.
Кстати, о полиции. Ее уже вызвал в чрезмерном рвении доктор Хаберле. К счастью, во Фридхайме всего один пост жандармерии. С командой из пяти человек. Один из них всегда свободен. Кто-то должен постоянно находиться в участке. Таким образом, появляются три пожилых господина и пытаются переместить в пространстве двести шестьдесят одного ребенка. Через час они, вспотев, с чертыханиями прекращают это занятие.
Ближе к обеденному времени шеф объявляет, что мы не получим еды ровно столько времени, сколько будем бастовать.
– Все прямо как в Неаполе, – говорит Джузеппе.
У многих детей еще есть продукты. Мы собрали карманные деньги, и несколько человек бегут в деревню и закупают там хлеб, молоко и консервы сразу на несколько дней. Электроплитки и кипятильники имеются на каждой вилле.
Мы приносим тарелку, полную еды, и господину Гертериху, но он отказывается и тихо говорит:
– Я в последний раз предостерегаю вас…
Его никто не слушает.
Ближе к вечеру появляются английские журналисты из Бонна, которым позвонил Томас. Они выходят в секторе «А», просят рассказать суть дела и фотографируют нас. Это приятные парни. Они привезли с собой несколько блоков сигарет.
Ганси сидит на моей кровати и курит.
– Такая забастовка – милое дело, – говорит он. – Нужно почаще устраивать!
– Да, – отвечает Джузеппе, – но не детям, а взрослым.
Глава 21
Уже в первый день забастовки шеф разговаривал по телефону с отцом Зюдхауса и его супругой. О содержании разговора известно лишь то, что группа, поддерживающая Зюдхауса-старшего (генерального прокурора), настаивает на увольнении доктора Фрея. Доктор Фрей до прояснения обстоятельств отправлен в отпуск, уехал во Франкфурт, где поселился в маленькой гостинице.
На второй день забастовки из Франкфурта приехал чиновник из ведомства средних общеобразовательных школ (англичане сфотографировали и его) и заявил, что, если забастовка будет продолжаться, школу закроют, а мы все предстанем перед судом по делам несовершеннолетних. Никто не сказал чиновнику ни слова.
После обеда шеф объявил по громкоговорителю, что постановление ведомства по разрешению министерства культуры и просвещения отменяется. Он вновь призывает нас появиться на занятиях.
– Только не потерять сейчас нерва, – говорит Джузеппе.
На третий день забастовки (я ежедневно звоню Верене, но не могу поехать во Франкфурт, так как никто не знает, что случится здесь в следующие пятнадцать минут) появляется «Мерседес-300» с шофером, который приехал за Фридрихом Зюдхаусом. Он должен был знать о приезде машины, так как все его вещи уже упакованы и он тут же исчезает.
В тот же день Томас получает телеграмму от своего отца, в которой тот требует, чтобы он незамедлительно покинул ряды забастовщиков. В ответ на это Томас идет на почту во Фридхайме и посылает телеграмму на адрес своего отца в главной квартире НАТО: «И не подумаю о том, чтобы прервать забастовку. Каждая попытка забрать меня отсюда кончится тем, что я убегу и полиция должна будет разыскивать меня. Приятного времяпрепровождения. Томас».
На это послание он ответа не получил.
Так как от отца Зюдхауса и его товарищей больше не поступало требований, Ноа говорит:
– Скажи обоим твоим журналистам, что сейчас они могут начинать, Томас!
На пятый день забастовки три крупные лондонские газеты на первой странице поместили фотографии и сообщения о происходящем в нашем интернате. Днем позже эти статьи можно было прочитать в немецких газетах – но не на первой странице.
Приходит много репортеров. Жандармы, учителя и воспитатели пытаются их останавливать, но через лес мы выбегаем навстречу корреспондентам и рассказываем им все, о чем они хотят знать. Как следствие, на шестой день появляется много новых сообщений. Этим вечером шеф вновь обращается по громкоговорителю:
– Я должен сделать вам одно сообщение. Фридрих Зюдхаус и тринадцать других учеников уехали из нашего интерната. Все родители, которые требовали, чтобы доктор Фрей был уволен, сейчас согласны с тем, чтобы он остался и преподавал, как и раньше. Завтра утром всех без исключения жду на занятиях. Ваша забастовка окончена.
В ответ на это в доме, где живут маленькие мальчики, раздается рев одобрения. В своих разноцветных утренних халатах и пижамах они пляшут и прыгают, боксируют и танцуют друг с другом.
И вновь раздается голос шефа. Директор долго откашливается, пока голос его не становится четким, и я замечаю, что говорит он напряженно и чересчур серьезно:
– Я осуждаю поведение всех, кто участвовал в забастовке. Будет проведено дисциплинарное расследование. В остальном желаю всем спокойной ночи.
– Доброй ночи! – хором кричат дети.
На следующее утро первый урок у нас – история.
Худой доктор Фрей, прихрамывая, входит в класс.
– Садитесь!
Все садятся.
– Мы коснемся сегодня событий, перед которыми мы… были прерваны, – говорит доктор Фрей, прогуливаясь, как всегда, по классу. – Мы коснемся так называемого захвата власти Гитлером и роли, которую сыграла при этом тяжелая промышленность Германии… – Его голос становится все неувереннее. Он уже не может продолжать, поворачивается к нам спиной. Повисает длинная пауза. Потом доктор Фрей говорит: – Благодарю вас!
Глава 22
Банкир Манфред Лорд смеется до тех пор, пока не поперхнется и не закашляется. Тогда он перестает смеяться, берет свой бокал и пьет. Вслед за этим проводит рукой по красивым седым волосам.
– Это безумная история, – говорит он. – Не правда ли, любимая?
– Да, Манфред, – отвечает Верена.
– Можно не уставать благодарить вас! Сейчас заграница видит наконец, что у нас здесь, на Западе, стало по-другому, что подрастает новое поколение с иммунитетом против всякой диктатуры. Это позволяет разрешить такие школы и по ту сторону, на востоке, – говорит Манфред Лорд, который так хорошо выглядит и, конечно, состоял в партии, хотя и определенно не совершил ничего особенного. Около двенадцати миллионов партайгеноссе не сделали ничего особенного. Поэтому, собственно говоря, и смогла свершиться эта страшная история, ни один из них и сегодня не смог сказать другому правду.
Вечер четырнадцатого декабря. Господин Лорд любезно вновь пригласил меня.
Вчера, через три часа, после того как я был близок с его женой в «нашем доме», он позвонил в интернат.
– Посидим по-простому. Никакого смокинга. Можете прийти в том, в чем вам удобно.
– Очень приятно, господин Лорд.
– Наверное, это в последний раз перед Рождеством, правда?
– Да. Двадцатого начинаются каникулы.
– Итак, в восемь?
– В восемь. Благодарю вас.
И вот мы сидим перед темными ночными стеклами зимнего сада дорогой виллы господина Лорда на Лисквель-аллее во Франкфурте. Вокруг тропические растения обвивают потолок, свисают с коробов с чудесными орхидеями, катлеями, киприпедиями. В этом зимнем саду действительно уютно, обустроить его стоило, конечно, целое состояние, так как, когда я пришел, Манфред Лорд показывал мне с большой гордостью растения настолько редкие, каких по всему свету вряд ли найдешь дюжину. Он любит и собирает растения.
И старые раритетные книги. У него фантастическая библиотека.
Тоже наверняка стоит целое состояние…
Они с Вереной пьют «Джинджер Але» с виски, я пью только пиво «Туборг» из серебряного бокала. Я не стану напиваться при господине Лорде еще раз.
Мы все одеты в свитеры, Верена – в красный, так как я однажды сказал ей, когда мы встречались в «нашем домике», что мне нравится ее красный свитер.
– Вы стали великолепными парнями, – рассуждает Манфред Лорд и вновь берется за бутылку. – И великолепными девушками. Я считаю это замечательным, правда.
Как только он поворачивается к нам спиной, мы с Вереной смотрим друг на друга. Последнее время мы часто бываем вместе. И настолько близки, насколько только могут быть близки два человека. Когда мы обмениваемся взглядами, возникает ощущение, что мы обнимаем друг друга. Один раз Лорд вышел, и Верена быстро передала мне в руки несколько своих фотографий, которые я быстро положил в карман брюк.
– И этот маленький Джузеппе! Он, конечно, фрукт!
– Да, – говорю я и смотрю на Верену, которая губами изображает поцелуй до тех пор, пока ее муж снова не оборачивается. – Милый парнишка. Но знаете, господин Лорд, нельзя сказать, что эта история закончилась благополучно.
– Что это должно значить?
– В газетах ничего нет об этом. Этого никогда не напечатают. История эта имеет последствия, и это создает проблемы вашему директору. Вчера вечером он говорил со мной об этом. По положению дел он практически банкрот и к каникулам может закрыть свою лавочку, если не произойдет чуда.
– Этого я не понимаю.
– Один из отцов, которые определенно поучаствовали в том, что «засветили» доктора Фрея, и который забрал своего сына из интерната, – известный господин Кристианиа.
– Кристианиа? – Лорд морщит лоб. – Не тот ли Хорст Кристианиа из фирмы «Кристианиа и Вольф» в Гамбурге?
– Да, он.
– Но Хорст же… – Лорд замолкает. Я уверен, он хотел сказать «…мой добрый друг». Но он осторожен: – Что же было с Хорстом?
– Господин Кристианиа… – вообще-то ужасно, что я так спокойно беседую с человеком, жена которого спит со мной, жену которого я люблю; невероятно, как быстро привыкают к подобному —…господин Кристианиа финансировал интернат. Только тогда интернат и был хорошо отстроен. До тех пор виллы лишь арендовались. Три года назад директор купил их. Для этого ему нужны были деньги, много денег.
– Ясно.
– Вчера вечером он сказал мне, что занял слишком много. Но это не катастрофа! При более чем трехстах учениках он мог бы оплатить ссуду в рассрочку. Но за последний год просрочил три векселя. Он каждый раз просил господина Кристианиа отсрочить их оплату или прибавить к погашению последнего векселя, который подлежит оплате в 1964 году. Всякий раз господин Кристианиа делал это без промедления, так как в интернате учился его сын и…
Лорд качает головой. Какое-то время курит трубку. Потом говорит:
– Дальше можете мне не рассказывать, Оливер. Я уже понял. Теперь Кристианиа, конечно, продлит оплату всех векселей, которые необходимо погасить сразу, не правда ли?
– Да, господин Лорд.
Лорд смеется.
– Старый нацист! Сын его больше не учится в интернате. Но надо же понимать и положение других людей? Я всегда говорю так, не правда ли, любимая? – И он похлопывает свою жену по колену. А если он и вправду попытается вникнуть в наши отношения с Вереной? – Ваше пиво становится теплым. Нет, нет, никаких возражений, отдайте! – Он выливает остатки пива из моего бокала и берет новую бутылку из серебряной чаши со льдом. – О! У этого другой вкус! Сколько стоят эти три векселя? Все вместе? – Я думаю. – Сколько необходимо заплатить вашему учителю немедленно?
– Сто тысяч.
– Гм.
– Да, но и весь остаток Кристианиа также хочет получить сразу. Он пытается расторгнуть договор.
– Он может это сделать?
– Говорит, что может.
– Гм.
Манфред Лорд делает глоток, потом поднимается во весь свой рост и прохаживается по зимнему саду туда и обратно между пальмами, кактусами и вьющимися растениями.
– Гм, – говорит он и притягивает к себе темно-фиолетовую в белых пятнах катлею. – Красиво, верно?
Он продолжает свою прогулку и рассматривает другую орхидею. Поворачивается ко мне спиной, но инстинкт подсказывает мне, что не стоит в данный момент смотреть на Верену и делать ей знаки, так как он сразу же обернется…
Это и происходит!
Итак, он ставит ловушку.
А почему бы господину Лорду не делать этого? Каждый устраивает западню. Никто не должен попадать в нее. Я не попал.
– Скажите вашему… как зовут учителя?
– Профессор Флориан.
– Скажите профессору Флориану, что я могу дать ему сто тысяч и что я позвоню Кристианиа по поводу договора. Если с ним не удастся прийти к соглашению, – мы, старики, все же немного закоснелые, – говорит он и обворожительно улыбается, – тогда я возьму на себя ответственность за весь договор. Вашему профессору не надо более мудрить с этими проблемами.
Если бы я не сидел, я упал бы.
Я смотрю на Лорда. Он улыбается. Смотрю на Верену. Она тоже улыбается.
– А почему вы хотите сделать это?
– Что, дорогой Оливер?
– Так… так рисковать!
– Это не риск. Дела в школе идут хорошо. Я не боюсь за свои деньги, еще и заработаю на этом. Кристианиа же лишится хороших процентов с этих векселей.
– Мой муж любит помогать другим, – говорит Верена.
И тут я вспомнил, что Верена уже однажды говорила это. Господин Лорд благодетель. Щедрый и великодушный господин Лорд. Зачем он это делает? Верена знает это, я тоже это знаю: для того чтобы заслужить расположение своей жены. И показать, что он за человек. Чтобы она научилась его любить. То, что она не делает этого, он, конечно, заметил уже давно. Он любит ее. Так же как бедная собака, думаю я, радуясь за шефа, и мне приходят в голову строки из стихотворения Гейне:
«Она была любезна, и он ее любил,
Но он был нелюбезен, и она не любила его».
Это мы читали прямо по-немецки (вновь разрешено читать писателей-евреев). Так и этот Манфред Лорд любезен, и тем не менее Верена не любит его. И все же слава богу! Я говорю – потому что я должен что-то сказать и именно до наступления Нового года:
– Вы спасли его репутацию, господин Лорд!
– Вот как!
– Серьезно. Он будет вне себя от счастья!
– Ему следует завтра после обеда в четыре часа прийти в мое бюро.
Завтра после обеда я встречаюсь с Вереной…
– Так точно, господин Лорд. И я благодарю вас от имени шефа, от имени профессора Флориана.
– Ну, закончим с этим, – говорит хозяин дома, срывает цветок «дамская туфелька», подходит к своей жене, вынимает из ее волос шпильку, с помощью которой прикрепляет орхидею к ее красному свитеру на правой стороне груди. – Самая красивая, которая цветет, – говорит Манфред Лорд и целует ей руку.
У меня более слабые нервы, чем я думал. Я не могу спокойно смотреть на то, как он целует ее руку, касается ее груди, проводит рукой по волосам. Я говорю:
– Половина двенадцатого. Опасаюсь, что должен идти спать, иначе будут неприятности.
– Ах, останьтесь еще, Оливер! Сегодня все так мило. Так непринужденно! По-свойски…
Совсем непринужденно.
– Нет, действительно. На улице гололед. И сильный туман. Ехать придется очень медленно.
– Ну конечно, если вам и в самом деле нужно… – Он подходит ко мне и вновь наполняет серебряный фужер до самых краев. – Последний глоток перед дальней дорогой!
– Спасибо, господин Лорд.
– Сигару?
– Нет, премного благодарен.
– А я вот еще одну… Где же моя зажигалка?
– Разрешите… – Я лезу в карман. Вынимая коробок спичек, едва не вытаскиваю вместе с ним фотографию Верены.
Я вижу, как она кусает губы. Даю господину Манфреду Лорду прикурить. Он хлопает меня по плечу.
– Спасибо. Потом еще благословенный праздник и хороший старт, как скольжение на коньках, в Новый год, мой дорогой! Нам обоим будет не хватать вас, правда, Верена?
– Очень.
– Ах, еще кое-что. Хотите сделать мне приятное?
– Конечно.
– Это касается вашего отца.
– Моего отца?
– Да. Он ведь такой же книжный червь, как и я, верно?
Это правда. Мой отец покупает все. Чем дороже, тем лучше. Ему нравится смотреть на книги, он приобретает книги не для того, чтобы читать. В его доме в Эхтернахе полно первых изданий, фолиантов, старых экземпляров Библии.
– Полгода назад я разыскал для него книгу, о которой он мечтает. Он никогда об этом не спрашивал, но я знаю, он не хотел обременять меня. Теперь я наконец-то раздобыл эту книгу. Это мой рождественский сюрприз. Возьмете с собой книгу для него?
– Охотно, господин Лорд.
Клянусь вам, тогда у меня не было ни малейшего подозрения! Почему я не должен был брать с собой книгу? Но они уже тогда начали чертовски хитро: мой старик, свинья, и достойный уважения, почтенный господин Манфред Лорд…







