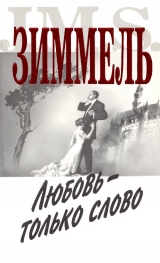
Текст книги "Любовь - только слово"
Автор книги: Йоханнес Марио Зиммель
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 41 страниц)
Глава 14
– …большие и маленькие, с лентами, на многих уже осела пыль. Дверцы печей были распахнуты, и на распахнутых дверцах тоже висели засохшие венки, а один – из золота, – рассказываю я Верене.
Семнадцать часов, смеркается. Верена остановилась в гостинице на Карлсплац, где сняла номер со спальней, гостиной и ванной. Так она может принимать гостей, не опасаясь произвести плохое впечатление, и это не возбудило подозрений, когда я представился портье.
Туалет Верены состоит из очень узких брюк и свободной блузы из материи с золотой ниткой. Мы пьем чай, сидя на широкой кушетке перед огромным окном. Я пришел около получаса назад и рассказал Верене обо всем, что видел и слышал в Дахау. Она не проронила ни слова. Когда я вошел, мы поцеловались, но, целуясь, Верена, должно быть, сразу заметила, что со мной что-то происходит, и, отстранив, взяла меня за руку и подвела к кушетке. Думаю, я слишком быстро и взволнованно говорил.
Верена не смотрит на меня. Она смотрит из окна шестого этажа вниз, в пропасть, на кутерьму машин в районе Штахус. Сумерки сгущаются. Загораются первые огоньки. Я гляжу на большие неоновые вывески:
«Осрам» – Светло как днем
«Рекс» – Отменная яичная вермишель
Супермаркет
Элизабет Тейлор
Я вижу тысячи людей, набивающихся в трамваи, сотни машин, остановившихся перед многочисленными светофорами или тянущихся бесконечной вереницей в обе стороны. Конец рабочего дня. Вот все и возвращаются домой…
Вот все и возвращаются домой, бедные и богатые, из ломбардов и банков, из мастерских и магазинов, из учреждений и с фабрик. Мне еще никогда не приходилось видеть столько людей и столько машин на огромной площади. Если посмотреть вниз, может закружиться голова.
Покупай в «Линденберге»!
Дрезденский банк
Кино
Страховое общество «Виктория»
Сколько людей! Должно быть, многие из них старшего поколения… Нет-нет, не думать об этом! Да-да, всегда думать! Никогда не забуду, что я сегодня пережил, никогда не смогу забыть. Бертольд Брехт писал: «Пусть другие говорят о своем позоре, я буду говорить о своем».
Верена все еще неподвижно смотрит из окна. Перед нами стоит чай, в номере есть кондиционер, все – ново, солидно, красиво, я чувствую аромат «Диориссимо» – запах ландышей.
– Всего в получасе отсюда, – говорю я.
Она кивает и снова смотрит на муравьиную возню на Карлсплац. Внезапно она устремляет взор на меня. В сумерках ее огромные черные глаза светятся, как звезды, отраженным светом уличных огней. Грудным, хрипловатым голосом она произносит:
– Не надо говорить этого, Оливер.
– Чего?
– Что ты хотел сказать.
Мне вдруг становится душно. Я встаю и пытаюсь глубоко вздохнуть. Не получается. Я лепечу:
– Мне очень жаль. Я так ждал этого, так радовался.
– Я тоже.
– Но я не знал, что так будет. Настолько ужасно.
– Это моя ошибка.
– Нет.
– Да. Я это предложила.
Теперь я снова могу дышать. Сажусь рядом с ней, глажу ее колени, глажу материю с золотой ниткой.
– Верена, если б ты была там со мной…
– Мне не нужно было там быть. Я и так понимаю тебя. Очень хорошо понимаю, любимый.
– Я не могу, Верена… Не могу… Боюсь в любую секунду расплакаться, как рыдавший в лагере мальчик. Боюсь расплакаться, если обниму тебя… и все разрушу… и все испорчу…
– Я понимаю тебя. Понимаю.
– Какой ужас. Сейчас мы одни. В чужом городе. Никто нас не знает. У нас есть время. Мы оба этого хотим. И вдруг так выходит.
– Молчи. Хорошо. Все хорошо. Как славно, что ты сидишь рядом со мной, и что у нас есть время, и что мы в другом городе, и что нас никто не знает.
– Может быть, если я выпью…
– Нет, – говорит она. – Ты не должен пить. Не имеешь права пить. Не имеешь права ничего забыть из того, что ты мне рассказал.
– Я все запишу. Даже это.
– Да, даже это.
– Верена, я люблю тебя.
– Ты не должен так говорить.
– Верена, я люблю тебя.
– Мой муж тоже был в партии. Он не имел отношения к Дахау. Но был в партии.
– Знаешь, сколько людей, из тех, на улице, были в партии, Верена? Знаешь, кто сидит в этой машине, и в том трамвае, и в том автобусе?
– Твое поколение не виновато. Но я, я знала, что господин Манфред Лорд был в партии, когда выходила за него замуж. Я вышла замуж за господина Лорда по расчету, по холодному расчету.
– Потому что тебе было нечего есть.
– Разве это оправдание?
– Да. Нет. Не знаю. Для женщины – да.
– Оливер!
– Да?
– Твой отец тоже был в партии?
– Разумеется. А ты думаешь, почему мне так плохо?
Затем мы держимся за руки и молчим, а на улице совсем стемнело, и глухой рев поднимается к нам из недр города. Вечером небо затянули тучи. И вот заморосил слабый-слабый дождик. Сверкающие капли стекают по оконному стеклу. Кажется, будто окно плачет. О ком?
Глава 15
По крайней мере час мы молча сидим рядом, держась за руки, и смотрим на огни и на людей. Наконец она заговорила, и ее грудной голос звучит хрипло:
– Ты… ты помнишь наш уговор, знаешь, что за жизнь я вела. Знаешь, что я за женщина. Знаешь, что между нами любовь невозможна. Но если бы у меня была другая жизнь и все было иначе, тогда… тогда я сегодня влюбилась бы в тебя, Оливер.
Я молчу. Через некоторое время она спрашивает:
– Может, нам взять такси и прокатиться по городу?
– Да. Ты знаешь Мюнхен?
– Нет.
– Я тоже нет.
Она надевает плащ и завязывает платок. Мы выходим из номера и спускаемся на лифте в вестибюль. Все улыбаются – администратор, первый портье, второй портье. Что-то думают о нас. А нам плевать, что они думают. У выхода портье свистком подзывает такси. Я помогаю Верене сесть в машину и говорю шоферу:
– Покатайте нас часок по Мюнхену.
– Будить сделана, – говорит он с акцентом.
В такси мы тоже сразу беремся за руки и время от времени молча смотрим друг на друга. Мы едем по широкой улице со множеством магазинов и огней. Дождь льет сильнее. Мы выехали на большую площадь. Шофер справляется, живем ли мы в Мюнхене.
– Нет.
Тогда он начинает выполнять обязанности гида.
– Это ратуша. Знаменитые часы играют каждый раз в одиннадцать. А видать ли вы фигуры?
– Да, – отвечаю я.
Но вижу только Верену. Дождь. Бесчисленные капельки стекают по стеклу. «Дворники» торопливо смахивают их. Все новые и новые улицы с огнями, машинами и людьми. Руины.
– Это Национальный театр. Его как раз восстанавливают.
А чуть позже:
– А это – Зал полководцев. Там Гитлер…
– Да, – говорю я. – Мы знаем.
– Отсюда до Триумфальных ворот будет ровнехонько километр. Это король Людвиг так распорядился.
Шофер беззвучно смеется.
– В школе, когда я был маленьким, господин учитель меня спросил: «Алоис, что такое километр?» А я ответил: «Километр – это расстоянье между Залом полководцев и Триумфальными воротами».
Ворота подсвечиваются. Совсем как Триумфальная арка.
– Это Триумфальные ворота.
Триумфальные ворота. Ведь мы так много побеждали. Широкая улица.
– Улица Швабинг, – объясняет шофер.
– У тебя есть сигарета? – спрашивает Верена.
Я достаю сигарету из пачки, прикуриваю и протягиваю ей, предлагаю шоферу («Не откажусь!») и беру себе еще одну.
Мы трясемся в машине по узким переулочкам со множеством богемных кафе. Но вот дома остаются позади, и мы едем по огромному, уже по-ночному темному парку, вековые деревья проносятся мимо, блестя от дождя в свете фар.
– Это Английский сад, – говорит шофер.
Из тени выплыло озеро с редкими отражающимися в воде огнями. Мы все еще держимся за руки и время от времени глядим друг на друга.
Машина резко поворачивает, и мы снова выезжаем на широкую улицу за парком. Улица ведет к высокому столпу, на котором расположена крылатая фигура с поднятой рукой.
– Это ангел свободы.
Ангел свободы. А всего в получасе отсюда… В ту же секунду Верена тихо говорит:
– А всего в получасе отсюда…
У Ноа – куча детективов. Как раз в одном из них, в «Мстителе» Эдгара Уоллеса, я прочел несколько ночей назад фразу, над которой теперь задумался: «Для каждого мужчины где-то на свете живет женщина, ее нужно только встретить, чтобы сразу понять и быть понятым». Затем мы проезжаем новый район. Видим новые высотные дома, разбитые сады, ряды гаражей. Дождь усиливается.
– Это спальный район Богенхаузен. Только-только построили.
Мы поворачиваем и возвращаемся с окраины в центр. Верена крепко сжимает мне руку. Шофер обращает наше внимание на Ванны принца-регента и чуть позже на Дворец искусств. Бесчисленные машины, светофоры, люди. Черный обелиск.
– Его велел сделать из переплавленных немецких пушек Наполеон после войны, что мы проиграли, я никогда не знаю – какая это была.
Центральный вокзал.
– Они его все строят, видите? Не знаю, откуда господа прибыли, но это стыд и позор! Прошло пятнадцать лет после войны, а они все никак не построят! Уже полкрыши была готова, как вдруг выплыла в конструкции ошибка, – и все снесли. Говорю вам, коррупция. И теперь другая фирма зарабатывает миллионы. А пассажиры все вымокнут, пока дойдут до поезда. Через пятнадцать лет после войны!
А мокли ли люди там, в Дахау, в получасе отсюда, в течение двенадцати лет, когда их выгоняли из бараков на жуткие переклички – мокли ли замученные, истерзанные, умирающие узники, когда шел дождь?
– Теперь я еще отвезу вас на площадь Гаррас, а там и час кончится.
– Ты голоден?
– Нет, – говорю я.
– Я тоже нет.
Она сует мне в руку какой-то пузырек.
– Это снотворное. Прими перед сном две таблетки. Я тоже приму. Чтобы уснуть.
Ни слова о вечере, который мы должны были провести вместе, – ни с ее, ни с моей стороны. Я прячу пузырек. Я очень ей за это благодарен.
– Как мы будем оставаться в контакте?
– Я напишу тебе, а ты – мне. До востребования.
– Нет!
– Почему ты так волнуешься?
– Просто… я… Я никогда не пишу писем! Никогда не знаешь, что с ними случится. Кто-нибудь найдет. Кто-нибудь будет вымогать у тебя деньги. Вымогать у меня деньги.
– Да, – упавшим голосом говорит она. – Правда. Я так неосторожна. Уже несколько раз теряла письма, знаешь? Обычно я их сразу сжигаю, но некоторые я сохранила, а потом потеряла. Надеюсь, их никто не найдет.
– Надейся.
– Я позвоню тебе.
– Но не из дома.
– Почему нет? На Эмму я могу совершенно…
– Кто это Эмма?
– Наша повариха. Она привязана ко мне.
– Одной привязанности недостаточно. Нужно звонить с почты. Прогуляйся. С двух до без четверти четыре. Когда сможешь. Я буду ждать твоего звонка каждый день с двух до без четверти четыре в гараже во Фридхайме.
– А если я однажды не смогу?
– Тогда я прожду зря. Не звони в интернат – мы не должны рисковать. Там всегда есть кому подслушать.
– Почему ты так осторожен, Оливер? Почему так подозрителен? Что-то случилось?
– Да.
Он привстала на сиденье.
– Что?
– Не с тобой… С другой женщиной… с другой женщиной однажды кое-что случилось… потому что мы были неосторожны, разговаривали по телефону и писали друг другу письма.
– Итак, господа, вот и площадь Гаррас.
– Простите?
– Это площадь Гаррас.
– A-a!
– Отвезти господ обратно в гостиницу?
– Да, пожалуйста, – говорит Верена и обращается ко мне: – Не грусти. Пожалуйста, не грусти.
– Ладно.
– Через несколько дней все пройдет. Клянусь! Потом я найду кафе или бар, где мы сможем встречаться. А потом… – она шепчет мне на ухо, – …потом найду гостиницу.
– Да.
Верена снова крепко жмет мне руку.
– Даже цветов я не могу тебе послать, – говорю я.
– Не страшно, Оливер… Мне не нужны цветы… но ты… мне нужен ты… вот увидишь, это будет чудесно, чудесно, как никогда… для тебя и меня…
– Да.
Тут мы остановились перед гостиницей. Портье с большим зонтом торопливо выходит из вестибюля, чтобы Верена не промокла. Он слышит каждое слово. Нам уже не поцеловаться. И не поговорить как следует.
– Поезжай домой.
– Да.
– Послезавтра днем я позвоню.
– Да.
– Спокойной ночи.
– И тебе спокойной ночи.
Я все же целую ее руку. Верена улыбается и быстро идет в гостиницу, защищенная от дождя зонтом портье. И больше не оборачивается. Я жду, пока она не скрывается из глаз, затем снова сажусь в такси – такси дожидалось меня – и называю адрес маленькой гостиницы, где мы остановились с классом. Дождь льет как из ведра.
Глава 16
Конечно, Верена не звонит каждый день. Она не может. Это бы сразу заметили. Ее муж дает обед. Нужно встретиться с ним в городе. Разумеется, иного я и не ждал.
Но каждый день с двух до без четверти четыре я жду звонка в гараже во Фридхайме. Гараж принадлежит пожилой даме по имени Либетрой, при нем есть заросший сад. В высокой траве стоят стол и скамейка. В хорошую погоду я сижу на скамейке и, пока жду, пишу роман – мой роман.
Я сказал фрау Либетрой, что жду телефонного звонка. Я дал ей деньги. У фрау Либетрой живет старый сенбернар. Звери могут предчувствовать несчастье. Иногда собака начинает скулить. И я уже знаю: не позднее чем через пять минут в конторе гаража зазвонит телефон и этот звонок – от Верены. Она всегда извиняется, что не может звонить каждый день, рассказывает, что было пережито с тех пор, как мы виделись в последний раз. Она была в театре, спорит со своим мужем, скучает по мне.
– И я, и я, сердце мое!
– Потерпи, потерпи совсем немножко. Мой муж сейчас как сумасшедший. Он не спускает с меня глаз. Или он что-то заметил? Но я что-нибудь придумаю для нас. Может быть, уже завтра, может быть, послезавтра.
– Может быть, через год.
– Не говори так. Я же хочу этого не меньше, чем ты. Ты мне не веришь?
– Верю. Извини.
– Ты думаешь обо мне?
– Всегда.
– Я тоже. Я должна постоянно думать о тебе. И об этой поездке в такси. Потерпи. Запиши нашу историю. Ты сделаешь это?
– Да.
– Целую тебя, любимый.
– Я люблю тебя.
Так проходят день за днем. Я терплю, жду, пишу. Иногда идет дождь. Тогда я пишу в конторе. Через большое окно я вижу двух механиков, ремонтирующих автомобили: пожилого и молодого. Сенбернар всегда лежит у моих ног. Иногда он скулит. Тогда я становлюсь счастливым и начинаю пристально смотреть на телефонный аппарат – раз, два… Тут раздается звонок, и я вновь слышу голос Верены.
Наступает суббота, так называемый «родительский день». С автострады тянется целый поток помпезных автомашин, которые я видел, когда подходил. Дорогие родители посещают своих дорогих деток. Они привозят подарки и свертки с едой и идут с дорогими детками в ресторан «А», так как с дорогими родителями разрешено пойти в ресторан «А». Ко мне не приезжает никто. Ко многим детям тоже никто не приезжает. Либо родители слишком далеко, либо не хотят приезжать, либо не могут.
– Я рад, когда не вижу свою старуху, – говорит Ганси.
Правда ли это?
Он залезает в свою кровать и целый день не выходит на улицу.
И лишь одни взрослые приезжают на электричке и полчаса идут от железнодорожной станции до интерната пешком – это родители Вальтера. Это мальчик, с которым ходила до меня Геральдина. Родители Вальтера не идут в ресторан «А». Они привезли с собой бутерброды. Уже ранним вечером они прощаются и уезжают, выглядят подавленными. Вальтер идет ко мне, сидящему так, что могу прекрасно наблюдать весь этот лживый цирк, и говорит:
– Я думаю, что накрылась медным тазом наша семейная жизнь.
– Почему?
– Нет денег. Папаша полный банкрот. Мелкий бухгалтер-ревизор, понимаешь? Он говорит, что больше не выдержит здесь нужды и безнадежности. Он хочет эмигрировать. В Канаду. Уже оформил все документы.
– Так это же отлично, дружище!
– Отлично? Дерьмо!
– Как так?
– Мать непременно хочет остаться в Германии.
– А ты?
– Они говорят, что я должен выбрать сам. Прекрасный выбор, не правда ли? В любом случае к Рождеству меня здесь не будет. Отец не может платить за обучение.
– Ты не получал стипендии?
– Для этого я недостаточно хорош.
Он куда-то убегает, забивается, как больное или подстреленное животное. Многие дети убегают в такие «родительские дни» в лес, если не приезжают их родители. Сейчас так же поступил Вальтер. Смешно, брак его родителей распадается из-за нехватки денег, а у моих родителей – от их чрезмерного количества.
Это не должно зависеть от денег.
Примерно в шесть-семь часов вечера все взрослые начинают вдруг ужасно спешить. Объятия. Наставления. Поцелуи. Слезы. Колонна «мерседесов», «капитанов» и «BMW» снова отправилась в путь, на этот раз вниз по долине. «Родительский день» прошел. Родители выполнили свой долг. Дети остаются. Они набрасываются на содержимое пакетов с едой, переедают, и у многих уже ночью вся эта пища выходит со рвотой, у некоторых лишь на следующее утро. Во всех классах появляются пустые места. Все как всегда. И всегда одно и то же.
Глава 17
Мне, впрочем, не на что жаловаться. Я получаю почту – от своей матери. Мой отец не пишет мне никогда. И моя дорогая тетя Лиззи – тоже. В письмах матери – деньги, о которых я просил, так как мне необходимо еще оплатить вексель за машину. Письма написаны слабой, дрожащей рукой, видно, что она пишет их лежа, и все они очень короткие и удивительно похожи одно на другое.
«Мой дорогой Оливер,
Как тебе известно, вот уже несколько недель я снова в санатории, но чувствую себя намного лучше! Скорее наступило бы Рождество, тогда я снова увижу тебя. На праздничные дни, возможно, меня отпустят домой. Если бы не эти вечные депрессии и расстройства кровообращения! И бессонница. Но и это пройдет. Когда-нибудь ты закончишь школу и станешь совсем взрослым, тогда я объясню тебе все то, чего ты сегодня не понимаешь.
Обнимаю и целую тебя тысячу раз. Твоя любящая мамочка».
Ты ничего не должна мне объяснять, мамочка. Я уже давно все понимаю. Желаю счастья, тетя Лиззи! И дальше в том же духе. Еще несколько санаториев, и вы можете предложить матери пятьдесят первый параграф. Тогда ты, тетушка, – неограниченная властительница. Ты действительно сделаешь это очень тонко, мое почтение.
Кстати, Геральдину еще никому не разрешено навещать. Бедный Вальтер попытался было. Но его выпроводили. Ей лучше, но еще далеко не хорошо. После перелома позвоночника появились осложнения.
Итак, я сажусь и вымучиваю пару строк для Геральдины, бездушных, ничего не говорящих строк, находясь в конторе гаража фрау Либетрой и ожидая телефонного звонка.
В тот день звонка не было.
Время проходит. Вот уже и октябрь. Часто идут дожди. Деревья черные и голые. В нашем классе создана джаз-группа, в которой играют Ноа и Вольфганг. Часто по вечерам группа устраивает в подвале виллы джем-сейшн. Всегда с большим успехом. Еще один вечерний аттракцион организовал доктор Фрей: тот, кто хочет, может смотреть по немецкому телевидению «Третий рейх». Вперед, мальчики и девочки шестого класса!
Большой телевизор стоит в столовой.
Очень много школьников приходят на передачу. Присутствуют даже воспитатели с учителями.
Документы описывают события 1933–1945 годов не в хронологическом порядке, а по следующим темам:
Так называемый захват власти.
Уничтожение интеллигенции.
Сжигание книг.
Подготовка к войне.
Поход на Польшу.
Поход на Россию.
Концентрационные лагеря.
Интервенция и прочее.
Часто случается, что школьники смотрят на взрослых со стороны, например, на съезде в Нюрнберге, в Кроллоппер, где собирался рейхстаг или сотни тысяч с поднятой правой рукой, рычащие свое «Хайль!» на Олимпийском стадионе, когда фюрер, тощий Геббельс или жирный Геринг с пеной у рта, взахлеб, срывающимися голосами выкрикивали свои чудовищные лозунги.
Геббельс спрашивает:
– Вы хотите тотальной войны?
И неистовствующая, свирепствующая масса старается изо всех сил:
– Да! Да! Да!
Да, да, да.
Это были наши отцы.
Это были наши матери.
Это был немецкий народ.
Конечно же, не весь, было бы глупо утверждать подобное. Но большая часть его.
Вы хотите тотальной войны?
Да! Да! Да!
Не презрительно, но с удивлением, с непониманием, в растерянности смотрят дети на взрослых при таких кадрах на экране.
Я часто сижу спиной к телевизору и вглядываюсь в лица. Такое впечатление, что дети хотели бы спросить: «Как вообще это стало возможным, что вы поверили таким крикунам, таким толстякам, таким преступникам? Как такое могло с вами произойти?»
Они не говорят ни слова.
Они спрашивают глазами.
И взрослые опускают головы.
Фридрих Зюдхаус никогда не ходит на такие вечера. Он пишет, как говорят его соседи по комнате, длинные письма.
Никто не знает кому.
Скоро мы должны об этом узнать.
Господин Гертерих, воспитатель, становится все более бледным и худым. Никто больше не воспринимает его всерьез. Но нельзя также сказать, что он мешает. Он просто делает все вместе со всеми.
– Я думаю, мы его воспитали, – говорит Али.
Маленький черный Али в своей религиозной неумолимости, впрочем, развязал целый скандал.
Во Фридхайме есть две церкви: протестантская и католическая.
В субботу много детей приходят в церкви. Парочки всегда заходят вместе в одну церковь независимо от принадлежности к той или иной конфессии.
Напишу лучше: парочки ходили.
Так как это уже в прошлом.
Али принял за оскорбление и несказанно возмутился, когда увидел в своей католической церкви трех девушек и трех молодых людей-протестантов.
Он сразу же помчался к своему досточтимому святому отцу.
Тот созвонился со своим коллегой, подметившим, кстати, что и в протестантской церкви находились несколько католиков и католичек.
Оба духовных лица сразу обратились к шефу и нажаловались.
С тех пор надзиратели и воспитатели вместе ходят в обе церкви.
Какие же были последствия?
Парочки различных конфессий вообще не ходят на службу в церкви.
Они пропадают в лесу.
Устраивать свою судьбу в церквях они уже не будут.
Ноа сказал Рашиду:
– Мне бы заботы этих господ! Радуйся, маленький принц, что здесь нет синагог и мечетей!
– Неплохо было бы, если бы во Фридхайме построили мечеть! – ответил Рашид. – Так здорово дома, когда муэдзин по вечерам зовет на молитву!
Школьники третьего, пятого, седьмого и восьмого классов организовали хор. Он репетирует в спортивном зале и специализируется на духовных песнях североамериканских негров. Среди них действительно есть великолепные певцы, они выполняют тяжелую работу и, когда находятся в хорошей форме, дают концерты в разных городах, соревнуясь с другими хорами. Один из них, поющий лучше всех, – бедный маленький Джузеппе. Иногда я слушаю, как «Менестрели» – так они себя назвали – репетируют. У них много песен. Наш учитель музыки, господин Фридрис, написал мелодию с текстом на английском языке. Песня, которая мне особенно нравится, называется «Стой смирно, Джордан!»
Стой смирно, Джордан!
Стой смирно!
Но не могу я этого делать,
Хотя все-таки должен…
Все, что еще остается от Верены, – это ее голос, и то не каждый день, хотя я жду этого голоса, этого телефонного звонка, как воду испытывающий жажду.
– Терпение… Еще немного терпения… Он постоянно следит за мной. Я не могу покинуть дом даже вместе с ребенком. Сейчас он как раз на час уехал в город… Я должна закончить разговор, не сердись, любимый! Надеюсь, до завтра.
Надеюсь, до завтра.
А может быть, у нее есть кто-то другой?
Нет, тогда она больше не звонила бы.
Или все-таки кто-то есть?
– Записывай нашу историю и терпи, – сказала она.
Прошло всего недели, а мне кажется, что два года. Что мне делать? Я записываю нашу историю от руки. Обработав и поправив текст, я печатаю его на машинке. Получилось уже целая пачка страниц, слава богу, достаточно толстая, но не до такой степени, чтобы совсем лишить меня сил и отбить желание продолжать эту работу.
Поначалу я и собирался все закончить, поскольку думал, что все это было чепухой. Может быть, это действительно чепуха…
Я должен наконец рассказать еще одну историю, вызывающую улыбку (не смех) у всего интерната.
Я уже писал об учителе английского языка, с которым мы читали «Бурю» Шекспира. По ролям. Я также поведал о том, каким восхитительным был этот человек. Молод. Всегда с шиком одет. Постоянно любезен и при всем этом – полный авторитет у ребят.
Мы все любим его. И он любит нас. Мальчиков немножко больше, чем девочек. Но здесь необходимо быть очень внимательным, чтобы подметить, что он живет с оглядкой, так как является жутко осторожным развратником, который никогда не позволил бы себе какую-либо вольность в стенах интерната. Для этого он слишком честолюбив!
Ну вот, как сообщает Ганси: однажды утром, когда учитель английского языка мистер Олдридж входит в четвертый класс, на его столе стоит ваза с великолепными цветами.
Кто их поставил?
Никто не признается.
Мистер Олдридж усмехается, кланяется во все стороны и благодарит всех сразу, так как никто не называет себя лично.
И все опять довольны его любезностью.
В этом классе учится Чичита, которая делала макумбу для Гастона и Карлы. Ей пятнадцать лет.
После урока, когда пустеет классная комната, Чичита не уходит.
Ганси – этот маленький чертенок успевает везде – подслушивает у двери, и то, что он слышит, позже, конечно, рассказывает не только мне, но и всем другим…
Мистер Олдридж складывает свои книги и говорит с удивлением:
– Что ты здесь делаешь, Чичита? Ведь сейчас же перемена?
– Я должна вам что-то сказать, мистер Олдридж…
(Вся беседа происходит, конечно, на английском языке, но Ганси уже достаточно владеет английским, чтобы все понять, а так как он еще и подсматривает в замочную скважину, то впоследствии может утверждать, что Чичита чуть не лопнула от смеха, «но, как должен я вам сказать, покраснев от уха до уха».)
– Итак, Чичита?
– Цветы…
– Что с цветами?
– Они от меня, мистер Олдридж!
– От тебя? А почему, собственно, ты даришь мне цветы?
– Потому что… я не могу этого сказать!
– Но я желал бы знать это!
– Тогда вы должны отвернуться! Пожалуйста, мистер Олдридж!
Так вот, учитель английского языка поворачивается к маленькой бразильянке спиной, и она совсем тихо произносит:
– Потому… потому… потому что я люблю вас!
И быстро бежит к двери (Ганси едва успевает отбежать на пару шагов в сторону и потом бросается вниз по коридору на улицу).
Когда эта история за обедом становится достоянием гласности, то о Чичите начинают злословить.
Она очень расстроена.
Кто подслушал?
Кто предал?
Она сидит здесь. Ничего не ест, уставившись в одну точку.
Но тут я должен сказать, что некоторые из этих гомиков обладают чрезвычайным шармом.
Знаете, что случилось?
Учителя ведь едят вместе с нами в одном и том же зале, в одно и то же время. Неожиданно мистер Олдридж встает, идет к Чичите, дотрагивается до ее заплаканного лица, поднимает за подбородок и говорит с поклоном:
– В последние недели ты была такой усердной и прилежной, что я хотел бы кое о чем спросить.
– Вы… хотите… меня… о чем-то… спросить… мистер Олдридж?
– Не могла бы ты доставить мне удовольствие и сегодня вечером в семь часов поужинать со мной в ресторане «А»?
(Это он, естественно, заранее обсудил с шефом, и я вижу, как шеф ухмыляется.)
Маленькая Чичита встает, вытирает слезы и делает реверанс.
– С удовольствием, мистер Олдридж, – говорит она, если только я не буду вам в тягость…
– В тягость? Это будет для меня большой радостью и честью, Чичита! Позволю себе зайти за тобой в половине седьмого.
Итак, в этот вечер Чичита одалживает у одной подруги самое красивое платье, у старших девочек – помаду и духи и идет под руку с мистером Олдриджем в ресторан «А» ужинать.
В половине десятого вечера Чичита уже лежит в своей кровати, она – самая счастливая девочка в интернате!
Конечно, она не в силах уснуть всю ночь.
Ну, ситуация улажена, мистер Олдридж сумел исправить то, что натворил Ганси. Большего Чичита и не желает.
Она еще сильнее боготворит мистера Олдриджа, и на занятиях он время от времени гладит ее по голове. Получает по английскому языку только отличные отметки, так хорошо она учится.
Счастливая Чичита!
Ей пятнадцать, и она довольна ужином.
А мне двадцать один.
И каждый новый день становится для меня все мрачнее. И после каждого разговора я чувствую себя только хуже.
Так продолжается до одиннадцатого октября.
Одиннадцатое октября – это четверг, и дождь льет как из ведра. Я сижу в конторе гаража фрау Либетрой и пишу, и тут звонит Верена. Ее голос звучит так, будто она задыхается.
– Слушай! Четырнадцатого у меня день рождения. Сегодня утром мой муж сказал, что тринадцатого он обязательно должен лететь в Стокгольм и вернется лишь пятнадцатого! Любимый, сладкий мой, я приглашаю тебя на мой день рождения!
– Но ведь у тебя будут и другие гости!
– Они уйдут самое позднее в двенадцать. Я приглашу людей в возрасте, ты уйдешь с ними, а потом вернешься. И вся ночь будет наша!
– А прислуга?..
– Спит на самом верхнем этаже. Моя спальня – на первом этаже. Нам нужно только не шуметь. Правда, прекрасно? Почему ты ничего не говоришь?
– Потому что это замечательно. Так замечательно, что я ничего не могу сказать.







