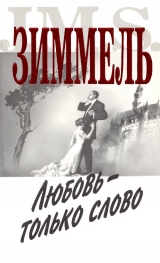
Текст книги "Любовь - только слово"
Автор книги: Йоханнес Марио Зиммель
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 41 страниц)
Глава 7
Комиссар криминальной полиции Гарденберг распорядился, и до поры до времени мне вообще не придется ходить в школу. Тетя Лиззи позвонила и спросила, что я хочу на Рождество.
– Поехать к маме.
– Мама в санатории, солнышко, ты ведь знаешь.
– Тогда мне ничего не надо.
Все же незадолго до Рождества для меня пришли три огромных пакета.
– Мне обязательно их брать? – спросил я Гарденберга, который приходил каждый день присматривать за мной.
– Ты ничего не обязан.
– Я не хочу их брать.
И три пакета отослали обратно в Люксембург. Сочельник я провел с господином Виктором и прислугой. Позвонил отец, но я сразу повесил трубку. Чуть позже позвонила мать. Она говорила слабым голосом, было плохо слышно, сказала, что скоро покинет санаторий и все будет хорошо, только не надо отчаиваться.
– Нет, мама, я не отчаиваюсь.
– Знаешь, как я тебя люблю?
– Да, мама. Я тебя тоже очень люблю. Выздоравливай скорее. С Рождеством!
Двадцать восьмого декабря в вечерней газете появился заголовок: «РАДИОМИЛЛИОНЕР МАНСФЕЛЬД УКРАЛ ДВЕНАДЦАТЬ С ПОЛОВИНОЙ МИЛЛИОНОВ МАРОК У ГОСУДАРСТВА И СБЕЖАЛ ЗА ГРАНИЦУ».
Под жирными буквами заглавия в длинной статье можно было прочесть – а на следующий день и в тысячах других отечественных и зарубежных газет, – что мой отец – крупнейший налоговый махинатор послевоенной Германии. Уголовный розыск завершил расследование и обнародовал результаты. Некоторые газеты я читал, но не понимал смысла статей. Тем не менее эти газеты я сохранил, они и сейчас у меня, теперь-то я понимаю, о чем в них сообщалось.
Короче говоря, вот о чем.
С помощью ложных сведений об оборотах, явно преуменьшенных балансов о якобы не сбываемых, а на самом деле еще как сбываемых радиоприборов, чаще всего путем выдуманных поставок и трансакций за границей отцу удалось нагреть немецкие финансовые ведомства на двенадцать с половиной миллионов марок в период между валютной реформой 1948 и декабрем 1952 года. Такие чудовищные манипуляции он, конечно, не мог провести в одиночку, ему помогал торговый поверенный Яблонски. Когда в октябре 1952 стало ясно, что в декабре грядет – сама по себе вполне безобидная – налоговая проверка, у Яблонски сдали нервы и он застрелился в послеобеденный час двадцать девятого ноября 1952 года. Случайно задержавшийся на работе отец обнаружил самоубийство и сделал все, чтобы представить его как убийство и уничтожить при этом важные бумаги. После первого допроса, когда отец узнал от комиссара криминальной полиции Гарденберга, что тот не поверил в убийство, а принял смерть Яблонски за самоубийство, ранним утром первого декабря 1952 года он со всеми наличными и драгоценностями, моей матерью и тетей Лиззи сбежал в Люксембург, где в чудесном местечке Эхтернах у него давно был роскошный дом.
Двадцать девятого декабря 1952 года газеты сообщили: 57 немецких и зарубежных журналистов по телефону, оборудованному микрофоном, провели с отцом пресс-конференцию. Отец сидел дома в Эхтернахе. Журналисты сидели в бюро франкфуртского пресс-агентства. Им было позволено задавать вопросы. Отец мог отвечать, когда хотел, мог не отвечать, если не хотел.
Газеты эти у меня сохранились, и осталось только описать, как протекала эта игра в вопросы и ответы.
Вопрос: Господин Мансфельд, вам известны выдвинутые против вас тяжкие обвинения. Что вы скажете об этом?
Отец: Вранье от начала до конца.
Вопрос: Тогда зачем вы сбежали в Люксембург, страну, которая, как известно, не выдает людей по налоговым преступлениям?
Отец: Я не сбежал. Я здесь по делам.
Вопрос: Надолго?
Отец: На неопределенное время.
Вопрос: Правда ли, что заводы Мансфельда украли у государства двенадцать с половиной миллионов марок?
Отец: Если это вообще правда, я не имею к этому ни малейшего отношения.
Вопрос: А кто же имеет?
Отец: Мой торговый поверенный Яблонски. Видимо, поэтому он и застрелился.
Вопрос: Неужели вы думаете, мы поверим, что поверенный мог совершать подобные рискованные трансакции, не ставя в известность руководителя фирмы?
Отец: Верите, не верите – мне все равно. Я об этом ничего не знал.
Вопрос: Знаете ли вы, что господин Яблонски оставил жену и двоих детей?
Отец: Я им соболезную.
Вопрос: Почему вы не сдадитесь немецким властям, если невиновны?
Отец: Господа, многолетним тяжелым трудом я возвел мои радиозаводы, одни из крупнейших в Германии. Я не вернусь в Германию, ибо не хочу, чтобы дело всей моей жизни уничтожили. Я знаю, вышел приказ о моем аресте и об аресте жены, нас могут схватить, лишь только мы ступим на немецкую землю. Что ж, вот мы больше и не ступим на немецкую землю. Мы чувствуем себя прекрасно здесь, в Люксембурге.
Вопрос: Вы говорите о деле всей вашей жизни, господин Мансфельд. Не подвергаете ли вы его большей опасности, не возвращаясь добровольно в Германию и не отдавая себя в руки следствия?
Отец: Нет. Отчего же?
Вопрос: Знаете ли вы, что немецкие власти могут описать ценности на сумму двенадцать с половиной миллионов марок на всех ваших заводах и вилле?
Отец: Как раз и не могут. Повторяю, как раз и не могут!
Вопрос: Что это значит?
Отец: За исключением упомянутой виллы с имуществом, мне в Германии ничего не принадлежит. А виллой господа могут располагать. Пусть повеселятся!
Вопрос: А заводы? Как понимать, что вам в Германии ничего не принадлежит?
Отец: От внимательного взора налоговых органов не могло укрыться, что я превратил заводы Мансфельда в акционерное общество с тридцатью миллионами основного капитала.
Вопрос: А где резиденция нового АО? За границей?
Отец: Без комментариев!
Вопрос: Но финансовое ведомство может все же описать ваши акции.
Отец: Не может, потому что ни я, ни кто-либо из членов моей семьи не имеет ни единой акции.
Вопрос: А у кого же акции?
Отец: Девятнадцать процентов принадлежат моему давнему другу Манфреду Лорду, известному во Франкфурте банкиру, который помогал мне создавать заводы. Разумеется, эти девятнадцать процентов описать нельзя, потому что господин Лорд купил эти акции, как полагается по закону.
Вопрос: Кому принадлежит оставшийся восемьдесят один процент?
Отец: Оставшийся восемьдесят один процент я продал консорциуму бельгийских банков.
Вопрос: Каких?
Отец: Вас это не касается.
Вопрос: Вы их продали с правом на выкуп?
Отец: Без комментариев!
Вопрос: А как будут работать ваши заводы?
Отец: Как и прежде. Власти четко знают, что не имеют права описать даже винтик. Как генеральный директор, я буду отсюда управлять предприятием.
Вопрос: Долго?
Отец: Возможно, еще несколько лет. Когда-нибудь и в Германии налоговые проступки будут прощаться за давностью лет.
Вопрос: И тогда вы однажды вернетесь в Германию и продолжите работать, не заплатив ни пфеннига из украденных двенадцати с половиной миллионов?
Отец: Я вообще не знаю, о чем вы говорите. Я не должен никому ни пфеннига.
Вопрос: Почему ваш маленький сын Оливер все еще в Германии?
Отец: Потому что он так захотел. Он останется в Германии, в Германии сдаст выпускные экзамены и тогда будет работать на моем предприятии. Работать он сможет уже через семь лет.
Вопрос: Вы полагаете, через семь лет вы все еще не сможете работать, поэтому придется ему?
Отец: Ваше замечание я использую как повод…
Глава 8
…прекратить интервью. Доброго вечера, господа, – сказал мой отец и повесил трубку. Так и завершилась пресс-конференция.
Я рассказал обо всем этом Верене. Некоторое время мы молчим, держась за руки. Постепенно ее ладони согрелись. Над домом пронесся реактивный самолет. Издалека доносится детское пение: «Пусть дадут разбойникам пройти по золотым мосткам». Верена спрашивает:
– А что потом?
– Ах, больше ничего особенного. К Новому году распустили всех служащих, и налоговая полиция описала виллу.
– Но тебе ведь надо было где-то жить!
– Комиссар Гарденберг продолжал заботиться обо мне. Сначала некоторое время я жил в гостинице. Даже в неплохой, ведь господин папа каким-то образом переводил деньги – сам-то сидел в безопасности с награбленными миллионами. А потом был детдом.
– Детдом?
– Конечно. Я ведь был ребенком без родителей. Несовершеннолетним. Те, кто имел право на воспитание, сбежали, их не найти. Потом появился опекун и засунул меня в приют.
– Только этого не хватало!
– Я, правда, не хочу жаловаться, но это было проклятое, гадкое время! Теперь ты понимаешь, почему я испытываю такие «нежные» чувства к отцу?
Она молча гладит мою руку.
– Кстати, там я пробыл всего год. Потом был мой первый интернат.
– Интернат! Но ведь это очень дорого!
– К тому времени игра раскрутилась. Твой муж переводил каждый месяц деньги на счет опекуна.
– Мой муж? Но зачем…
– На первый взгляд, из жажды сочувствия и чтобы помочь старому другу, моему отцу. Власти должны были этим довольствоваться. Никому не запретишь ведь дарить другому деньги! На самом деле они, как и прежде, одним миром мазаны. Я уже говорил, твой муж аккуратно получает все переведенные им деньги назад. Не знаю как, но получает. Отцу что-нибудь да придет в голову. Правда, безумно смешно: твой муж и поныне платит за меня каждый месяц, а мы сидим здесь, ты гладишь мою руку, а я…
– Прекрати, – Верена отворачивается.
– Что такое?
– Я никогда не любила мужа, – говорит она. – Я была ему благодарна за то, что он вытащил нас с Эвелин из нужды, была благодарна за красивую жизнь, которую он дал мне, но никогда не любила его. Но я его уважала, до сегодняшнего дня. Для меня Манфред был до сегодняшнего дня как… как его имя! Лорд! Господь Бог! Тот, кто не замешан в грязных делах.
– Сожалею, что разрушил твою иллюзию.
– Ах…
– В качестве утешения: у нас в интернате есть маленький калека. Страшный проныра. Знаешь, он говорит: «Все люди – свиньи».
– Ты тоже в это веришь?
– Гм…
– Но…
– Но что?
– Но… но… Невозможно жить, если так думать!
И вот она снова смотрит на меня умными черными глазами. Меня бросает в жар, я наклоняюсь, целую ее шею и говорю:
– Прости, прости, я так не думаю.
Неожиданно она обвивает меня обеими руками и крепко обнимает. Я чувствую тепло ее тела через одеяло, вдыхаю аромат ее кожи, и мои губы застывают на ее шее. Мы оба замерли. И долго так лежим. Потом она резко отталкивает меня кулачками.
– Верена!
– Ты не знаешь, чего я только не наделала! Со сколькими мужчинами я…
– Я не хочу этого знать. Думаешь, я ангел?
– Но у меня есть ребенок… и возлюбленный…
– Никакого возлюбленного. Только некто, с кем ты спишь.
– А до него у меня был другой! И еще один! И еще! Я шлюха! Я погрязла в разврате! Я ничего не стою! Ни гроша! А замуж я вышла только по расчету, и с первой секунды…
– Теперь дай мне сказать!
– Что?
– Ты прекрасна, – шепчу я и целую ее руки. – Для меня ты прекрасна.
– А мою крошку я склоняю к тому, чтобы она помогала мне в моих предательствах. Я… я… я…
– Ты прекрасна.
– Нет.
– Ну, хорошо, тогда мы друг друга стоим. Ведь я всегда говорил: невероятно, как похожие натуры притягивают друг друга, чуют по запаху. Разве это не удивительно?
– Ты находишь?
– Да, Верена, нахожу.
– Но я не хочу! Не хочу!
– Чего?
– Чтоб это началось снова. С тобой. Не хочу обманывать Энрико!
– Ты обманываешь мужа, так что можешь спокойно обманывать и Энрико.
Она вдруг начинает смеяться. Сначала я думаю, это истерический припадок, но нет, это совершенно нормальный смех. Она смеется до колик, потом кладет руку на живот.
– Ай. Я же знаю, нужно быть осторожной. Ты прав, Оливер, все это очень смешно. Безумно смешно! Вся жизнь смешна!
– Ну вот, видишь, – говорю я. – Моя взяла.
Глава 9
Снова где-то далеко поют дети (там, должно быть, игровая площадка): «Безмолвно и тихо в лесочке стоит человечек один…»
Мы с Вереной долго смотрели друг на друга. Последние фразы мы произносили, друг на друга не глядя. У нее было такое выражение лица, словно она видит меня в первый раз. Вот мы одновременно начали говорить, наши взгляды снова разбежались, она смотрит на одеяло, а я – в окно. Вам это знакомо? Словно мы боялись друг друга. Нет, не друг друга, но каждый самого себя.
– Мой отец…
– А из того, первого интерната ты…
«Из чистого пурпура, правда, сюртук человечек носил…»
– Что ты хотел сказать?
– Нет, что ты хотела сказать?
– Я хотел сказать, отец слушается тетю Лиззи. Он – мазохист. На каникулы я всегда езжу домой. И останавливаюсь не на вилле, а в гостинице. Только если мама не в санатории, я живу дома, – пожимаю плечами. – Дома!
– Она часто лечится в санатории?
– Почти все время. Только из-за нее я все время езжу домой. Иначе бы оставался в Германии.
– Вот как!
– Конечно. Однажды, когда мама как раз была не в санатории, а дома, дорогой тети Лиззи дома не было, и я перерыл ее комнату. Но как! В течение двух часов. Наконец я их нашел.
– Кого?
– Плетки. Поводки для собак, наездничьи хлысты, чего там только не было! Всех цветов. По крайней мере, дюжина плеток была заботливо спрятана в платяном шкафу.
– Она бьет его?
– Полагаю, уже двадцать лет!
– Ну и ну!
– Говорю тебе, это его первая любовь! Как только я нашел плетки, мне совершенно все стало ясно! Она – единственный мужчина из них троих! А моя мать – лишь жалкий дух. А мой отец? Только и слышно: «Лиззи! Лиззи!» У нее доверенности на все его счета. Говорю тебе, она участвует в каждом новом его трюке, в любой коммерческой махинации. Говорю тебе, сейчас отец – ничто, всего-навсего ноль без палочки, шестерка в ее руках, а она – садистка.
– Мерзко.
– Почему же? Он хочет порку. Лиззи задает ему ее. That's love. [22]22
Это любовь (англ.).
[Закрыть]
– Не говори так.
– Возможно, он обращался с подобной просьбой и к матери, а она отказала. Или плохо выполнила. Удовлетворить мазохиста, видимо, не так уж и просто. Ну, он и выбрал ту, которая его так хорошо порола. Ты бы видела ее! Настоящая мегера.
– Отвратительно.
– Я говорю правду, а она всегда отвратительна.
– У нас ничего не получится.
– Почему?
– Потому что ты такой.
– Но ты точно такая же.
– Да, – говорит она и снова по-детски смеется. – Это правда.
– Это будет самая великая любовь на свете, и она не кончится, пока один из нас не умрет.
– Sentimental fool. [23]23
Сентиментальный дурак (англ.).
[Закрыть]
– Ага, ты тоже знаешь английский?
– Да.
– Конечно. Каждой немке после войны досталось по американскому возлюбленному.
– Ты что, спятил? Как ты со мной разговариваешь?
– Ах, простите, милостивая государыня, у вас такого не было?
– Три!
– Всего? – спрашиваю я. – Ну и ну! На чем я остановился?
– На мазохизме отца, – отвечает она и все смеется.
– Боже мой, боже мой, ну и разговор!
– Верно. Говорю тебе, он типичный мазохист. Я стал за ним наблюдать, пристально и долго, когда нашел плетки. И за тетей Лиззи. Как она командует. Как смотрит на него. Как просит огоньку, когда хочет закурить сигарету. И затем возится, прикуривая, так долго, что отец обжигает пальцы. Им это нравится, еще как нравится. Обоим!
– Оливер, этот мир гадок. Если бы не Эвелин, я бы наложила на себя руки.
– Ах, брось! Очень немногие накладывают на себя руки. Что ты думаешь, и я частенько играл с этой идеей! Мы с тобой слишком трусливы для этого. К тому же у тебя все хорошо! Ты – богатая женщина! У тебя есть любовник. А теперь еще и я. Если хочешь, можешь проверить, кто лучше…
– Оливер!
Я говорю именно те вещи, о которых не хочу говорить.
– Прости, пожалуйста. Я веду себя несносно. Я говорю именно те вещи, о которых не хочу говорить.
– Я тоже, я тоже! Все время! Возможно, ты прав, и это будет любовь. Это было бы ужасно!
– Нет, нет. Одно я тебе сразу скажу: я для тебя никогда не буду таким, как Энрико! Я не поцелую тебя, не прикоснусь к тебе, если мы не будем по-настоящему любить друг друга.
Она снова отворачивается и тихо произносит:
– Это были самые прекрасные слова, когда-либо сказанные мне мужчиной.
Глава 10
Она опять не смотрит на меня, лежит, отвернувшись к стене. В профиль она еще красивее. У нее маленькие ушки. Одни эти ушки кого угодно с ума сведут…
– Ну да, – говорю я. – That's the whole story. [24]24
Вот и вся история (англ.).
[Закрыть]За эти тринадцать лет милая тетя Лиззи все прибрал к рукам. Сейчас она королева. Колотит моего старика. Определяет ход событий. А отец – всего лишь марионетка. Что он за малый, можно понять, понаблюдав за тем, как он обращается с подчиненными: бесцеремонно, безжалостно. Малейший проступок – «You are fired!» [25]25
Ты уволен (англ.).
[Закрыть]Типично для таких парней. Безвольно слушается женщину, а с окружающими – тиран. Подумать только: настоящего шефа заводов Мансфельда зовут сейчас, да что сейчас, уже много лет, Лиззи Штальман. Штальман – прекрасное имя для дамы, не так ли? Я уверен, уже в истории с налогами она рьяно помогала отцу. Из-за нее мне не позволили последовать за семьей в Люксембург. Понимаешь? Мать она уже растоптала. Отцом овладела полностью. Только я еще стоял у нее на пути.
– Бедный Оливер, – говорит Верена и снова смотрит на меня.
– Бедная Верена. Бедная Эвелин. Бедная мамочка. Бедные люди.
– Ужасно.
– Что?
– Как мы похожи друг на друга.
– Почему ужасно? Сейчас я скажу нечто смешное, нечто забавное. Сказать?
– Да.
– Ты – все, что у меня на свете есть, все, во что я верю, все, что люблю, и все, ради чего я хотел бы быть приличным человеком, если б только мог. Я знаю, мы могли бы быть страшно счастливы вместе. Мы…
– Прекрати!
– Твой ребенок стал бы моим ребенком…
– Прекрати!
– И никогда-никогда-никогда мы бы не обманывали друг друга. Мы бы все делали вместе: ели, путешествовали, слушали концерты, засыпали, пробуждались. Завтра тебя выпишут. Ты придешь в субботу к нашей башне, в три часа?
– Если смогу.
– Если не сможешь, дай мне знак в ночь на субботу. Три коротких сигнала. Значит, ты не сможешь. Или три длинных – значит, ты придешь.
– О Господи.
– Что это значит – опять «о Господи»?
– А ведь я на двенадцать лет тебя старше! – Она долго смотрит на меня. – Оливер… Оливер… Знаешь, что странно?
– Что?
– Что я, несмотря ни на что, так счастлива.
– Я тоже, я тоже!
– Да, но со мной это первый раз в жизни, – она выдвигает ящик тумбочки. – Посмотри, – говорит она, – до чего я дошла. Докатилась в своем безумии!
Я заглядываю в ящик. Там лежит карманный фонарик и маленькая тетрадочка. На титульном листе я прочел: «Азбука Морзе».
– Мы оба чокнутые, Оливер!
– Конечно.
– И горько поплатимся за то, что творим.
– Конечно.
– Счастливой любви не бывает.
– Конечно, конечно, конечно, – говорю я и наклоняюсь, чтобы поцеловать ее губы, ее прекрасные губы. Вдруг раздается стук в дверь, и сразу затем в комнату входит сестра Ангелика, лживо и похотливо смеясь.
– Вам пора. Ваша сестра еще очень слаба.
– Да, – говорю я, – мне правда пора (но из-за господина Гертериха, ведь уже половина двенадцатого). И вот я встаю, по-братски целую Верену в щеку и прощаюсь:
– Ну что ж, пока, малышка!
– Пока, малыш!
– Почему вы улыбаетесь, сестра Ангелика? – спрашиваю я.
– Ах, – отвечает она с улыбкой Мадонны, за которую я бы с удовольствием дал ей в зубы. – Привязанность братьев и сестер друг к другу всегда так трогает меня.
Я иду к двери. Там еще раз оборачиваюсь.
– Прощай, – говорит Верена. – И спасибо за цветы.
При этих словах она делает едва заметное движение рукой. Треклятая сестра его не замечает. Но я знаю, что этот жест значит. Таким движением Верена закрыла мне рот рукой, когда я хотел ее поцеловать ночью в машине (мы тогда еще искали браслет). И я тоже на секунду поднес руку ко рту. Сестра Ангелика ничего не заметила. Она уставилась на пациентку, как удав на кролика. Верена задвигает ящик тумбочки.
Не правда ли, забавно, как карманный фонарик и азбука Морзе могут почти свести с ума мужчину?
– Пока, сестренка, – говорю я и выхожу из комнаты, словно мужчина, выпивший пять двойных виски.
Глава 11
Взрослые!
К вам – наше слово!
Разве любовь – это преступление?
Удивленно вы покачаете головами.
Но вы осуждаете любовь пятнадцатилетней девушки к восемнадцатилетнему юноше!
Как вы возбуждены!
Чудовищно возмущены! Ведь в пятнадцать еще невозможно любить!
У вас еще море времени для любви, несмышленые непоседы! Вам ведь еще неведомо, что такое любовь. Вас следует отлупить по задницам!
А что, если у тебя будет ребенок?
Так говорите вы!
Ведь вы так хорошо понимаете нас. И нам следует быть благодарными за наших – таких дорогих – родителей и за наших – таких дорогих – учителей, за то, что они у нас есть!
У нас есть дрянь!
Ничего у нас нет!
Никого!
И вдруг мы находим друг друга.
А вы? Что делаете вы?
Вы тотчас отбираете нас друг у друга!
Двенадцать часов сорок пять минут. Я снова покорно лежу в постели в «Квелленгофе». Ноа принес мне из столовой еду в двух алюминиевых мисках. И этот странный памфлет.
Я великолепно управился по времени. Когда я вернулся домой, господин Гертерих скорбно взглянул на меня и сказал:
– По вашей милости я еще попаду к чертям на сковородку.
– Не попадете, – заверил я. – После еды я снова лягу, а вечером меня, послушного, осмотрит дядя доктор. Жар тогда уже спадет. Расстройство желудка. Такое бывает. Кстати, я слышал, Али вчера снова был с вами заносчив.
– Да, несносный ребенок… Потребовал, чтобы я мыл ему ноги.
– Позвольте только, господин Гертерих, я его проучу.
– Правда?
– But how! [26]26
Еще как (англ.).
[Закрыть]
Тут он просиял, бедный малый.
Ну что ж, если другого выхода нет, негритенок получит сегодня по полной программе! Если все пойдет, как я хочу, дружба господина Гертериха будет мне скоро нужна как воздух, жизненно необходима. У меня часто будет случаться жар по утрам…
И вот Ноа стоит передо мной, подает мне три исписанные мелким почерком странички, о чем они, я уже отчасти написал, но это не все.
– Что означает эта мура?
– Это не мура, а потрясающий документ, запечатлевший человеческое отчаяние, – говорит он, ухмыляясь.
– Сегодня утром здесь творилось такое… С кровати упадешь от удивления. Кстати, как все прошло?
– Спасибо.
– Судя по голосу, должно быть, дело дрянь.
– Заткнись!
– Но-но-но! Уж не любовь ли это?
– Да.
– Тогда прости, пожалуйста, – он снова ухмыляется и говорит: – Вот Распутница обрадуется!
– Что стряслось сегодня утром?
– Шеф задал жару Гастону и Карле! Выгнал из интерната. Они уже уехали. На поезде в десять пятьдесят: он – в Париж, она – в Вену. Все происходило молниеносно. Шеф – странный малый. Иногда его месяцами не слышно, а потом ни с того ни с сего – раз!
– Что случилось?
– Фрейлейн Гильденбранд застукала их вчера в лесу. Именно Гильденбранд. Она едва еще что-то видит. Но сразу донесла шефу. А шеф в таких вещах шуток не понимает. Еще вечером было собрание учителей. Шеф позвонил родителям Гастона и Карлы и сообщил, что он обязан без промедления выгнать их чудесных детей и почему. А чудесным детям он объявил это только сегодня утром. У шефа и учителей они уже давно на мушке. Первое предупреждение, второе предупреждение. Событие в лесу оказалось, так сказать, последней каплей, переполнившей чашу.
– Так это случилось сегодня утром?
– Это случилось на уроке латыни. Кстати, шеф, сам того не подозревая, испортил Хорьку шутку.
– Как это?
– Хорек выдумал кое-что особенное, психологическую ловушку. И, насколько я знаю нашего брата, дело бы выгорело. Но теперь, конечно, все коту под хвост.
– Расскажи!
– Ты помнишь историю с нюхательным табаком?
– Которую устроил Гастон?
– Да. Сегодня утром – на первом уроке латыни – Хорек входит в класс, направляется прямо к Гастону и говорит: «Ну так что?» – «Пардон?» – спрашивает Гастон. – «Нюхательный табак, – отвечает Хорек. – Будет мне понюшка или не будет?»
– Черт возьми!
– Да, и мы так подумали. Это он в самом деле чудесно выдумал! Гастон встает, протягивает ему табак и потрясенно лепечет: «Вуаля, месье!» Хорек нюхает. Затем нюхают все остальные мальчишки в классе. Некоторые даже хлопают в ладоши. Но соль не в этом.
– А в чем?
– Когда все мальчишки нюхнули, Хорек говорит: «А теперь, господа, как ни прискорбно, Тацит. Что до остального, предлагаю: пусть мы с сегодняшнего дня, только после урока… – Ноа набирает воздуха – будем нюхать табак», – хотел он сказать! Но посреди этой первоклассной фразы вклинивается шеф и сообщает, что Гастон изгнан и должен спешно собирать вещи, чтобы успеть на поезд в десять пятьдесят. Испортил пьесу.
– Гастон очень расстроился?
– Совсем нет. Но прежде чем смыться, они с Карлой еще сочинили памфлет, – говорит Ноа и показывает три страницы. – Каждый писал по строчке: одну – она, другую – он. А потом они прикололи памфлет на черной доске. В обеденный перерыв все его прочли, и стар и млад! Я его сорвал, завидев учителя. Ты ведь интересуешься такими вещами, верно?
– Да.
– Так я и думал. Читай дальше!
Итак, я продолжаю читать странный документ, составленный из перемежающихся строчек мальчишечьего и девчачьего почерка.
Вы, разумные, справедливые взрослые!
Вы говорите: «Не делайте этого!»
А мы говорим вам: «Мы делаем что хотим, а вы хоть на голову встаньте! Мы снова встретимся, мы не расстанемся, а вы хоть отравитесь!»
«Town without pity!» [27]27
«Город без жалости!» (англ.).
[Закрыть]
Вы снимаете фильмы, чтобы мы заплатили полторы марки за билет и смотрели дрянь.
«We need an understanding heart» [28]28
«Нам нужно понимающее сердце» (англ.).
[Закрыть]
Вы пишете песни, чтобы разжалобить нас, чтобы мы купили пластинки.
Teenager age! [29]29
Переходный возраст! (англ.).
[Закрыть]
Twen age! [30]30
Двадцатилетие! (англ.).
[Закрыть]
Что еще? Все это – лишь реклама для вашей грязной индустрии!
– Ну, – говорю я, – в спешке они написали много душевного. Тебе следовало оставить памфлет на доске.
– Я снова его повешу, когда пойду есть. Я только хотел тебе показать. Если какой-нибудь учитель его прочтет, памфлета ведь не будет!
Я читаю конец:
Все родители говорят: «Нам бы ваши проблемы!»
Отлично, у вас свои проблемы.
Вас волнуют деньги.
Нас волнуют любовь и доверие.
Неужели вы думаете, что можно, как радио, выключить любовь?
– Эта фраза мне особенно нравится, – говорит Ноа, он читает вместе со мной. – И при этом они должны были успеть на десять пятьдесят.
Неужели у вас нет сердца?
А любовь для вас – заморское слово?
От кого же мы появились на свет?
От вас!
Благодаря любви! Или иначе?
Что же с вами стряслось?
Почему вы запрещаете нам то, что делали сами?
Почему вы наказываете нас за это, ведь вы нам так часто говорили, что мы раньше вас созрели, раньше вас стали взрослыми?
Мы знаем наверное: шеф боится, что у Карлы будет ребенок, а у его интерната – дурная слава!
– Ну и ну, – произношу я.
– Да уж, – отвечает Ноа. – Это у них темперамент прорезался. Конечно, в такой беременности приятного мало!
Почему вы нас не понимаете?
Почему не поможете нам?
Вы сдали нас в интернат, как чемоданы в камеру хранения, а когда мы помогаем друг другу в нашем одиночестве, то совершаем преступление, верно?
На кой нам ваши прекрасные речи?
Вам никогда не понять, что вы нам нужны!
Есть ли вообще еще связь между нашим миром и вашим?
Не живете ли вы в каком-то совершенно ином мире?
Так мы считаем!
Во всяком случае, большинство из нас уже создали свои миры, как мы вдвоем – наш.
Почему вы не создаете их вместе с нами?
Потому что вы – идиоты!
– Они заходят слишком далеко, – говорю я.
– Это точно, – соглашается Ноа.
Я читаю.
Вам ни разу не хватило понимания, чтобы понять нас!
Вы полагаете, оттого что вы были другими, мы должны быть такими же!
Да-да-да, мы – другие!
Однажды мы станем взрослыми – и совсем-совсем-совсем другими, с Божьей помощью, не такими, как вы.
Мы будем стараться понять наших детей, защитить их. Наши дети будут счастливее нас!
Мы не желаем вам счастливо оставаться, ведь вы все равно не умеете, никогда не умели быть счастливыми.
Карла Хонигштайн и Гастон Латуш.
– Так, – говорит Ноа. – А теперь отдай мне листки снова, пусть наши учителя тоже порадуются.
Прячет листки.
– Кстати, ты так и будешь прикидываться больным или встанешь после обеда?
– Зачем?
– Чичита будет творить макумбу. Ровно в три, – Ноа смеется. – Ведь Чичита приехала из Рио, не так ли? Ну, а в Бразилии у них есть такое суеверие. Чичита дружила с Карлой. Поэтому и сотворит макумбу, чтобы добрые духи защитили Гастона и ее подругу Карлу, а злые духи не могли причинить им вреда. Чтобы их любовь сохранилась вопреки разлуке.
– Но ведь это чушь.
– Чужие нравы и обычаи. Я пойду. И сто других ребят тоже обязательно пойдут.
– Через час я встану и тоже пойду.
– Но тебе нужно принести несколько сигарет или немного табаку, спички или шнапс.
– Зачем?
– Не знаю. Чичита сказала, что все объяснит, когда мы будем в ущелье. Я возьму маленькую бутылочку шнапса.
– Я возьму сигареты, – говорю я. – Это все равно, какие сигареты я принесу?
– Да. Духи курят и пьют все. Так сказала Чичита.
– Это меня радует.
– Не шути. Гастона и Карлу вышвырнули.
– Я не шучу. Я правда хочу, чтобы духи их защитили. Только поэтому я сказал про сигареты. Духи должны остаться довольны.
– Любовь – это любовь, любовь, – пояснил Ноа. – See you later, alligator! [31]31
Увидимся позже, крокодил! (англ.).
[Закрыть]







