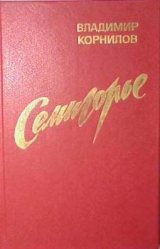
Текст книги "Семигорье"
Автор книги: Владимир Корнилов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 30 страниц)
– Вот, – говорит, – тебе, Евгения Петровна, от государства. За твой мужественный поступок. За безотказную твою работу. На эти деньги дом себе поставишь и корову выберешь…
Вот как оно обернулось: ждала сиротства в чужом дому, а меня Советская власть в свою родню взяла!..»
Женька отёрла кулаком слезину, тихонько огляделась: ни лесника, ни Батина рядом не было. Иван Митрофанович ещё говорил, говорили и бабы, стоявшие позади. На Женьку никто не смотрел. И Женька теперь жалела, что люди не слышала её горячей исповеди…
Митинг закрыли. Толпа в нерешительности колыхнулась, раздалась по сторонам. Потом луговину как будто наклонили, толпа хлынула к одному краю и потекла, поначалу медленно, потом скорее.
Женька в этом живом потоке стояла, как упёршийся в отмель корытень, не в силах уйти от того, что сейчас в себе пережила. Люди шли мимо, она знала их всех, от сопливых стригунков с озороватыми глазами до молодух, баб и густобородых плотных стариков строгого староверского обличья. По лицам, по взглядам, по движениям она видела, что заботы, от которых они не ушли даже в праздник, торопят их к домам и гостям.
Женьке, стоявшей на притоптанной луговине, улыбались, махали руками, кричали: «К столу приходи! Пива ныне наварили…», «Что зачужалась-то?! Пошли гулять!..» Но Женька, простоволосая, коротко стриженная, стояла, наматывая на пальцы красную косынку, и отвечала на приветы непонятной улыбкой. Сегодня ей не хотелось бездумья. Она желала праздника чистого, светлого, хотела умно и по душам говорить с хорошими людьми.
Последними уходили с луговины Гужавины – Васёнка и Витька. Остановились. «С праздником вас, Женя!» – поклонилась Васёнка. Мягкий Васёнкин голос будто пригладил угловатую Женькину душу.
– Нынче скоро праздник отбыли, – говорила Васёнка. – Должно, гулять долго будут! К нам приходите, Женя. Всё веселей, чем одной!
Женька презирала всех красивых девок, но добрая красота гужавинской дочки смиряла её, как тишина тёплого вечернего поля. Золотистое, будто обласканное солнцем, лицо Васёнки, доверчивый взгляд её захороненной нежности. Голосом, сиплым от подступивших чувств, Женька сказала:
– Спасибо, Васка. Случится быть рядом – притулюсь к вашему застолью. Покуда вина не хочу. А ты, Витюха, куда путь держишь? – Женька любила говорить с ним о жизни, и теперь ей хотелось Витьку придержать, хоть малость погореваться другому сердцу. Витька пожал островыпирающими даже под отцовским пиджаком плечами.
– Может, к дому, Витенька, пойдём? – несмело позвала Васёнка. Встревоженными глазами она смотрела на Женьку, будто молила не задерживать братика. Ни Витька, ни Женька не знали, как металось её сердце, как не хотелось ей идти в свой приготовленный к гулянке дом.
– Пойдём, Витенька! И вы, Женя, с нами! Право, все пойдёмте, пойдёмте к нам!.. – упрашивала Васёнка.
Женька вдруг озлилась. Всегда близкая обида на свою одинокую судьбу ожгла ей душу.
– Ну что ты парня тащишь на пьяную маету глядеть! – закричала она. – Айда, Витька, со мной, к Макару! У него завсегда праздники чистые. Умные у Макарушки праздники!
От слов Женьки Васёнка зарделась, как заря от близкого солнца. Потупилась. Улыбнулась жалко и беззащитно.
– Да уж что, Витя. Поди побудь, – сказала она. – А я побягу. Гости, того гляди, найдут!.. – Покоряясь одной ей известной необходимости, Васёнка пошла лёгкими шагами, остановилась. – Братик, прошу тебя, вертайся поскорей! – В тихом её зове была такая одинокость, что даже у Женьки дрогнуло сердце. Зло щуря поблёскивающие глаза, она глядела, как Васёнка с колыхающимися за плечами синим платочком быстро и плавно, будто гонимая ветром, уходила в улицу. Когда Васёнка скрылась за домом, Женька надрывно крикнула:
– Витя! Не умею я сказать, что есть во мне… Но ты-то веришь, что у Женьки Киселёвой тоже сердце, а не мотор? Ладно, молчу. Пошли к Макару. Ему, как богу, выверну свою разэтакую душу!..
В тёплом и чистом доме Макара уже сидел за столом Иван Митрофанович, по-домашнему раздетый до рубашки. Женька, с ходу по обняв тётку Анну, погладив по сутулой спине хлопотавшую у печи Грибаниху, бочком, будто стесняясь, прошла в горницу, на цыпочках обошла стол, с шутливым почтением села на лавку, рядышком с Иваном Митрофановичем. В улыбке широкого рта обнажив красные влажные дёсны и белые крупные зубы, она проговорила сиплым, надорванным в грохоте мотора голосом:
– Вот не думала, не гадала, что в праздник усядусь за стол с самой Советской властью!
Иван Митрофанович шилом провернул в поясном ремне дырку, глянул на Женьку.
– Не тот счёт, Евгения Петровна! Ты уже двадцать лет с Советской властью за одним столом!
Женька рассмеялась:
– А ведь в точку угодил, Иван Митрофанович! Сегодня и моей жизни аккурат двадцать. Мать будто ведала, что в тот год в Петрограде «Аврора» гукнет. Так что считай – я вместе с революцией рождённая…
– А этого не знал, – сказал Иван Митрофанович. – Промашку мы с Макаром тут явную допустили… Ладно, Женя, дай нам денька три, обмозгуем.
– Да разве об этом речь! – обиделась Женька. – Я тебе про жизнь толкую, а ты про подарок!.. ты лучше в моей вот обиде помоги.
– Что за обида? – Иван Митрофанович затянул и оправил на рубашке-косоворотке ремень, передал Макару шило, повернулся к Женьке. Женька затруднялась начать разговор, клонилась к полу, кулаком постукивала по ладони. Сказала наконец:
– Прослышала я, будто с Мадрида детишек в Ленинград привезли. Люди сказывали, по семьям их раздают. Чтоб, значит, не было среди них сирот. Ты не слыхал, на Волгу не прибывает такой пароход?.. – Женька смотрела на Ивана Митрофановича с ожиданием. – Не слыхал?.. Она вот тоже говорит – знать не знаю! Дора наша, Дарья Кобликова, что в райкоме сидит. Была я у ей в кабинете… Говорит, если б даже привезли, на руки не дали. «Почему, спрашиваю, не дали?» – «А потому, говорит, что не каждому можно доверить воспитывать испанских детей!..» Слышь, Иван Митрофанович? Не каждому. Понимай – мне не дано. Ты ответил бы так? Можешь ты думать, что я малого вырастить не сумею?.. Одену и обую, и молоком и драничками накормлю. Сама, если что, стерплю, а ему – первую ложку… И ягодок в бору насбираем. Пахать, сеять вместе будем. О фашистах вспомнить не дам, клухой над ним растопырюсь… И земля семигорская ему полюбится. С места не сойти – полюбится! Не веришь?
Иван Митрофанович не скрывал, что растроган Женькиной печалью.
– Верю, Женя! Как в самого себя верю. Ты чистый, горячий, правильный человек. Только хорошую твою мечту не смогу я поддержать: нету у меня испанских детишек…
– Понятно. Кукушке гнезда не свить.
– Не обижай, Женя. Ты не кукушка, я – не бог!
– Ладно. Будто не понимаю! – Женька вскинула голову, обвела всех затуманенным взглядом. – Навела я на вас скукоту! Другого дня не выбрала… Ругайте, штрафуйте, негодную!.. – Она подняла руки.
– Ну, к столу, что ли? – сказал Иван Митрофанович. – Подвигайся ко мне, Евгения Петровна! За тебя и таких, как ты, хочу первое слово молвить… И ты, Гужавин-младший, не тихонься у окна. Знаю, человек ты уже рабочий! Садись-ка в красный угол…
Иван Митрофанович распоряжался за столом, как у себя в доме. И ни тётка Анна, ни Макар, ни Грибаниха не удивлялись: Иван Митрофанович говорил, что всех хороших людей давно записал в родню. Он взял ржаную горбушку, приложил к губам бережно, глубоко вдохнул.
– Родной запах! Люблю! – сказал и сощурился, как будто что-то припоминая. – А ты не думала, Евгения Петровна, что ты – первый представитель рабочего класса на селе? В партию вступать тебе срок…
– Ух, хватил, Иван Митрофанович! – Женька развела руками, покачала головой, а сама лицом распалилась, будто в гору вбежала. – Мне ли речи людям говорить? Языком я – вон как Витькин батька кувалдой по железу. Ушибить – ушибу, а чтобы душу подлечить или мозги кому вправить – на то не научена. Нет, мил человек, быть мне беспартийным большевиком при вас с Макаром…
– Слышь, Макар? Она считает, что мы только языком и горазды!
– Э, Иван Митрофанович, не в ту сторону ручку крутишь! – Женька улыбалась и грозила худым мозолистым пальцем. – Слово – это я по себе знаю, – когда оно горячее, двух, а то и трёх дел стоит! Без горячего слова сердце пустеет. А с пустым сердцем не наработаешь. Так, Макарушка?..
– Так, Женя, – сказал Макар. – А всё-таки за тебя я бы поручился – ты делом говорить умеешь.
– Полно вам! – хрипло сказала Женька. – Лучше ругайте. А то зареву… Ну что, за праздник, что ли? – Женька осторожно взяла гранёную стопочку. – Витьке-то налейте. Работник! И помощник – дай бог каждому!..
Витька в смущении рвал с ладони жёлтые бугры мозолей. С трудом поднял глаза, поверх стола встретился с внимательным взглядом Макара. Макар от своей тарелки переставил налитую стопку.
– Чокнись с нами за праздник! А пить – не пей, повремени, – сказал он. – Садитесь, мама! Авдотья Ильинична! Вас что, печь заколдовала?!
– Сейчас, Макарушка! Вот ужо пирог подрумянится… – откликнулась баба Дуня.
Когда она появилась в горнице. На ходу приглаживая растрёпанные волосы, и села на лавку рядом с Витькой, улыбнувшись ему и обдав его жаром печи и запахом горячего масла, Макар сказал:
– Ну что же, Иван Митрофанович, тебе речь?..
– Куда денешься! Такая уж должность… – Подумал, сказал: – Мирно лет бы ещё сто нам землю пахать да хлеб сеять. Но коли воевать случится – чтоб все воевали, себя не жалеючи. Как ныне работаем! Такое моё слово…
Уже за самоваром, в неторопливом чаепитии, Грибаниха, с доброй хитрецой глядя на Макара, сказала:
– А что, Анна, вроде бы за столом человека не хватает!.. Не думается тебе?..
Тётка Анна, мать Макара, седыми, ровно зачёсанными назад волосами и ещё чем-то – достоинством своим, что ли? – очень похожая на Грибаниху, только на голову ниже высокой бабы Дуни, лицом пошире и поглаже, затеплела глазами, её руки зашарили по столу, метнулись к груди, – видать было, она хорошо поняла Грибаниху и взволновалась её словами. Радуясь, тревожась, смущаясь чего-то, она сказала:
– Жду того дня, Авдотья. Устала ждать! Всё кажется, не даст бог внучков голубить. Вон глядите на него! – она направила палец на Макара. – Смеётся! А до смеха ли?! Двадцать седьмой годок! Прячешь глаза, неторопь бессовестный! «Я, говорит, мама, человека на всю жизнь выбираю!» Будто мы за своих мужиков шли не на всю жизнь!..
– Ты, Макар, слушай мать! – неожиданно строго сказала Грибаниха. – Выбирай – не спеши, но коли выбрал… Не за тебя тревожусь. Горлинке от коршунов самой не отбиться!..
Слова бабы Дуни накрыли Макара, словно тенью. Он перестал смеяться, весь подобрался и сосредоточенно, будто собираясь встать, смотрел на острый кончик лежащего на столе ножа.
– Извините, товарищи женщины, что в ваш разговор встреваю. Но… – Иван Митрофанович большим пальцем провёл по жёстким усам, – большое торопить – на малом споткнуться. Человек новый пиджак надевает – и то нужен срок пообвыкнуться. А тут не пиджак!.. Ты что, Анна, Макара своего не знаешь? Он восемь раз меряет, потом уж – и то не сразу! – отрубает. Но что отрубит, то навек!.. Дело, как я понимаю, у Макара залажено. Так что давай-ка ещё по рюмочке за твоё материнское спокойствие, Анна, за основательность, за крепкость всего вашего рода! И чтоб посажёного отца другого не искали – сам буду!.. Женя? Ты что?.. Ну, ну, девонька, негоже на праздник кулаками глаза мять! Я ещё не всё сказал. К тебе своё слово обращаю. За твои, Женя, двадцать героических лет, за душевную твою красоту, которую ты не скроешь от нас даже махоркой, которую, назло неизвестно кому, куришь! И знай, на всю жизнь пойми, что родня ты нам самая что ни на есть близкая. И до тех пор, пока мы есть на земле. А что на земле не мы, так родня наша будет вечно – это ты сама знаешь! Ну, выше голову, Женя!..
Иван Митрофанович ложкой выловил в глиняной миске солёный груздок, положил на ломтик хлеба. В какой-то далёкой задумчивости он жевал, и впалые щёки его шевелились под выпирающими скулами. И когда дожевал, остался в прежней задумчивости, Витьке даже показалось, что у Ивана Митрофановича сменилось настроение.
– Да, люди мои хорошие, – сказал Иван Митрофанович уже без прежней оживлённости. – Спешить никогда не след. Ни перед лицом жизни, ни перед лицом смерти… Даже Чапай… Только раз Чапай на глазах заспешил. А мог бы. Мог!.. Урал-то я переплыл…
Грибаниха даже как будто вздрогнула от этих слов Ивана Митрофановича.
– Погоди, Иван, – сказала она. – ты про то не говаривал…
– Не спрашивали, потому и не говаривал! А был я в тот день… в Лбищенске был.
Витька даже про пирог забыл.
– Так рассказали бы, дядя Иван! В кино-то разве не так? – с неожиданной настойчивостью спрашивал он, забыв, что минуту назад не посмел бы сказать слова. Иван Митрофанович не глядел ни на Витьку, ни на Грибаниху, но видно было, что он сам взволновался тем, что вспомнил, – его щёки будто нагрелись изнутри.
– Нет, кино я не хулю, в кино правду показали. – сказал он. – Правду. Да не всю… В Лбищенске наши тылы стояли. Фронт, считали, был не ближе сотни вёрст. Ну, и настроение соответствующее. Снабжение туго шло, в основном из-за реки. А на понтонах много ли доставишь?.. Мне приказали ладить мост. Строили ходко, сваи догнали почти до той стороны. Тут в Лбищенск и приехал Чапаев со штабом. А часа в два ночи началось… Часов до десяти отбивались. Потом Чапаева на берег доставили. Рубаха в крови, рука – плетью. А всё горячится. «Назад!» – кричит. Потом, видать, понял, что нет другого ходу, кроме как на ту сторону, за Урал. Гляжу: через реку, вплавь, наши последние уходят, а сверху, с берега, вдоль воды, казаки из пулемётов бьют. Тут и сошлось всё на той самой минуте, что до сих пор сердце жгёт… Кричу: «Василий Иванович, за мост! Все за мост! За сваями переправимся…» Хоть и страшный момент, а прикинуть можно было. Не вышло. Всё, будто рекой заворожены, орут: «К воде его, к воде!..»
И Чапай, разгорячённый, оглушённый, поторопился. Оттолкнул от себя всех, поплыл. Под пули поплыл… До моста всего-то шагов двести было. За сваями хоронясь, переплыл я Урал. А Чапаев не переплыл. Так-то вот… Может, и случай. Да не всё случай! Около десятка со мной перебралось. С винтовками…
И Женя, и Грибаниха, и тётка Анна, и Макар слушали Ивана Митрофановича не шевелясь. У Витьки от напряжения занемела шея. Но он и сейчас, после того как Иван Митрофанович замолчал и, выложив на стол руки с широкими кулаками, задумчиво глядел в тот день своего прошлого из-под серых встопорщенных бровей, не мог повернуть головы, отвести глаз от человека, который был рядом с Чапаем.
Макар сидел напротив и тоже молчал, пальцами потирал прямой напористый лоб.
– Как оно, брат! – сказал он, вроде бы ни к кому не обращаясь. – Чапай, а в горячности не нашёлся!
– Как видишь! – сказал Иван Митрофанович. – Мне уж не придётся, если что. А вам с Витькой помнить о том надобно…
На улице и в доме стемнело. Макар зажёг фонарь проводить гостей. С открытых звёздных небес стекал холод. Тётка Анна набросила на плечи Жене телогрейку, хотела накинуть Макаров пиджак на Витьку, но Витька стеснительно увернулся. Он ещё не чувствовал себя у Разуваевых как дома, хотя все относились к нему, как к своему.
– Гляди-ко, – сказала, выходя на крыльцо, Грибаниха. – тепло-то только до праздника выстояло. Будто заказал кто!
Хмельная Женька плечом сдвинула Макара в сторону, с горьким вызовом спросила:
– В кино небось с Васёнкой пойдёшь?
Макар смолчал. Витька слышал, как Женька трудно хлебнула воздух, будто не хватало ей простора, что был вокруг от чёрной земли до звёзд.
– Эх, Макарка!.. ладно, не серчай на меня, на дурру. Это я так, – от вина поослабла… Тётка Дуня! Иван Митрофанович! Где вы там? Вместе айдати! – Женька отошла от Макара, по-мужски грубо, с сипотцой, запела:
Хаз Булат удалой,
Бедна сакля твоя…
И, оборвав песню, крикнула из темноты:
– Эй, Разуваевы! Прощевайте!..
МАКАР
На второй день праздника показывали кино. От набившихся в клуб людей трещали дверные косяки, под скамьями подламывались ножки, неудачники с визгом и хохотом валились на чужие ноги. Пламя в керосиновых лампах, развешанных по стенам, шаталось, струйки копоти плыли к потолку.
Васёнка с Макаром сидели рядом. Люди сжали их так плотно, что Васёнка чувствовала напряжённое плечо Макара: он старался оттеснить соседа, чтобы хоть чуток прибавить Васёнке воли. А Васёнке было хорошо в этой тесноте. Она ждала, когда погасят лампы и Макар станет её обнимать: девки сказывали, что парни всегда обнимают в кино.
Пока налаживали ленту, Зинка Хлопова пробралась через ряды и уселась к своим подружкам позади Васёнки. Васёнка, не оборачиваясь, чувствовала взгляд Зинки, и, хотя лампы, наконец, задули, она переживала, что от синего луча стрекочущего аппарата в зале видно, как при луне, и уж кто-кто, а Зинка всё углядит!
«Сказать, чтобы не обнимал?» – думала, мучаясь ожиданием, Васёнка. Зинки она боялась.
На последней «беседе», что собралась в избе бабы Дуни, Васёнка весь вечер ожидала обещанной радости. А радости всё не было. Парни и девчата уж наплясались, все хорошие песни перепели, в «почту» наигрались. Васёнка про себя печалилась, уж к дому собралась, и вдруг – Макар! Встал у порога, снял шапку, поприветствовал всех зараз и – будто не знал деревенских обычаев! – вышел на пустую серёдку избы и, не таясь, не спуская с Васёнки весёлых глаз, пошёл к ней.
Вот уж натерпелась она страху!
Видела – к ней идёт Макар, чувствовала – не остановить его. И молила широко раскрытыми глазами: «И подойди. И сядь. Но молчи. Сядь рядом и молчи. Дай совладать с собой. Ну, прошу… Так прошу!..»
Макар подошёл близко, жарко было от его горячих косящих глаз. Он уже готовился о чём-то спросить, но тут взгляд его дрогнул, как будто он услышал её мольбу. Молча сел рядом, локоть опёр на своё колено, поигрывая шапкой, с какой-то лукавостью оглядел притихшую избу.
Васёнка теперь видела, что все смотрят на Макара и на неё.
Макар, улыбаясь, оглядывал всех, спокойно и легко на себя принимал колкие взгляды девчат, сгрудившихся вокруг сдвинутого в угол стола.
– Беседу собрали, а что не пляшете? – просто, будто здесь он был хозяином, спросил Макар.
Зинка Хлопова качнула ногой в модном шнурованном ботинке, с вызовом спросила:
– Сам-то плясать будешь?
– А как же! – с готовностью ответил Макар.
Зинка встала.
– Давай, Иван, играй цыганочку! Потрафим редкому гостю!
Постукивая то носками, то каблуками ботинок, она вразвалочку и, в то же время, легко пошла серединой избы.
Макар наблюдал, как пляшет Зинка, а сам незаметно клонился ближе к все еще замиравшей от страха Васенке. Дождавшись, когда на него и на Васенку перестали смотреть, он тихо и быстро сказал:
– На праздник кино обещали. Не откажи, Васенка, приходи. У клуба тебя дождусь… Сегодня хотел побыть, да никак – в МТС бегу!..
Зинка, разгоряченная пляской, громко и зло топнула перед Макаром ногой. Макар подскочил мячиком, в своей кожаной куртке, в сапогах, вприсядку прошелся вокруг Зинки. Будто боясь, что Зинка его сейчас схватит, он прыжком отскочил к двери, смеясь, еще раз взглянул на Васенку, махнул шапкой и выбежал за порог.
Зинка, покачивая острыми плечами, прошла мимо не смевшей пошевелиться Васёнки, крикнула, чтоб слышали все:
– Смотри, на всё село ославит такой ухажёр!.. – и поджала свои сто раз целованные губы!..
Вот что случилось на «беседе». Васёнка понимала, что Зинка неспроста пробралась через набитый людьми зал и умостилась позади. Теперь ей было не до картины.
Не поворачивая головы, Васёнка покосилась на Макара. После светлого экрана она вдруг разглядела, где у Макара лицо. А когда разглядела – дух прихватило: Макар не смотрел на картину, низко нагнувшись, он сбоку глядел на Васёнку, и глаза у него светились.
Макар так и не обнял Васёнку.
Когда механик вставлял в аппарат новую часть, мальчишки, забившие весь перед клуба, завозились, засвистели, пошвыряли шапки в потолок, и рассерженные мужики потащили мальчишек к выходу. Макар разглядел войну у дверей, шепнул Васёнке: «Я сейчас…» – и быстро-быстро пробрался через ряды туда, где шумела обиженная ребятня. Васёнка видела, как Макар обратно привёл вытолканных из клуба озорников, усадил их и, громко крикнув: «А ну, ребята, ша!..», угомонил сразу всех и сам сел среди мальчишек. Так до конца кино она и не видела Макара.
Макар отыскал её в расходящейся толпе, пошёл рядом. Васёнка крепилась, хотя Зинка Хлопова успела её обидеть: впереди неё, пробираясь среди сдвинутых скамеек, Зинка обернулась, насмешливо обронила:
– Сбежал от тебя твой-то!..
– Уж и прилепила! – испугалась Васёнка, а сердце ожгло неожиданным словом – «твой!».
Васёнка одна сошла с высокого клубного крыльца, уже стыдясь, что она – одна.
– Пошто ушёл-то?! – попрекнула Васёнка, радуясь что Макар снова рядом с ней.
Макар развёл руками.
– Ребятня в плен взяла! – и, понимая Васёнку и винясь перед ней, сказал: – Малые ведь! Выгнать, понятно, легче…
Они шли, поотстав от всех. Народ дорогами и тропами разбежался по селу. Какое-то время слышалось, как по обеим сторонам улицы гулко колотили в дверь, кто-то стучал в дребезжащее окно, кто-то кого-то кликал. То у одного, то у другого дома взлаивали потревоженные собаки. Наконец, всё утихло, и Васёнка с Макаром остались одни, в одной заботе: чтобы дорога, по которой сейчас они шли, была длинной, как ночь.
От околицы, с полей, от стылого леса шла тишина, такая ясная, хрупкая, что Васёнке казалось: хлопни она в ладоши – и с неба, как этот первый иней с деревьев, посыпятся звёзды. Засверкают, посыпятся на тёмные дома, на острые крыши, на дорогу, на идущего рядом «её» Макара…
Среди звёзд Васёнка увидела едва прочерченный тоненький серпик и обрадовалась, тут же поверив, что новорождённый месяц сулит ей счастье.
– Глянь-ка!.. Месяц народился!..
Замерев, она ждала, что ответит Макар. Ей даже не важно было, что он ответит, важно было, как ответит, и она, вот сейчас, сразу, узнает, о чём он думает.
Макар почувствовал на плече робкую Васёнкину руку и посмотрел вверх, куда смотрела Васёнка. Он увидел затерявшийся в звёздах серпик. И, хотя этот краешек будущей луны никак не мог вмешаться в его жизнь, Макар был рад, что именно сейчас он появился в небе, потому что из-за этого лунного краешка Васёнка своей рукой тронула его плечо.
Он почувствовал, что Васёнка связала с народившимся месяцем что-то важное в своей жизни и, угадывая это важное, радуясь и стараясь дольше задержать на своём плече Васёнкину руку, осторожно сказал:
– На счастье…
Васёнка засмеялась, отвернулась, закрыла лицо варежкой.
Они много раз прошли село от околицы до околицы, наконец, остановились под берёзами, у Васёнкиного дома.
Васёнка встала у калитки и сразу увидела, как тоненький месяц отблёскивает в крайнем, её окне.
– Макар! – позвала Васёнка. – Пошто тогда, на «беседе», ты прямо на виду ко мне подошёл?..
Макар долго не отвечал, глядел на Васёнку, потом сказал:
– А к чему скрываться? Пришёл тебя повидать, вот и…
– А я чуть разума не лишилась!..
Макар тихо, как будто про себя, засмеялся, положил ей на плечи свои тяжёлые руки, бережно притянул к себе. Сердце у Васёнки заметалось. Она не уходила от его рук, не отворачивала лица. Беззащитная перед силой Макара, она, едва шевеля испуганными губами, попросила:
– Не обижайте меня, Макар Константинович!
– Как можно обидеть тебя! – сказал Макар дрогнувшим голосом и с осторожностью прижал свою горячую щеку к её холодной щеке.
Васёнка отвернула запылавшее лицо, чуть отступила, загадав ещё раз увидеть ясный серпик в окне, и не увидела. Торопясь, осторонилась, даже привстала на плетень – плетень, прихваченный молодым морозцем, заскрипел, ломая чуткую тишину. У лесника залаяла собака, где-то взвыла другая, в доме глухо стукнуло, как будто в тёмках уронили скамью. В окне сдвинулась занавеска, к стеклу прилипло бледное пятно – Капитолина!
У Васёнки в груди захолонуло, как перед бедой. А Макар спокойно стоял, плечом подпирая ствол берёзы, смотрел на Васёнку, улыбался.
– Погоди, утихнет сейчас… – сказал Макар.
И правда, ночь утихла.
Васёнка повернулась к Макару. Ещё бы чуток смелости – и кинула бы она ему на плечи руки, зажмурила глаза, чтоб Макар не видел её стыда и тоски, зашептала бы: «Веди меня, Макарушка, отсюда! Беду чует сердце… Хочешь моей жизни – веди!» И ушла бы с ним, на Капкиных глазах ушла, не оглянулась. Не хватало Васёнке смелости: девичья доля застыдила. Будто над ухом услышала строгий окрик матушки: «В уме ли ты, доча?! Да можно ли самой-то на парня кидаться! Парню делать, девке ждать…»
Никогда не перечила матушке Васёнка, не ослушалась и на этот раз. А Макар стоял под берёзой, полный спокойствия и силы, смотрел на неё горячими глазами и молчал, как будто они всё уже обговорили и уладили, и дело было только за сроком. Не ведал он её страхов, не знал, что Васёнке нужны были надёжные слова, за которые она могла бы ухватиться в своей неулаженной девичьей жизни.
Васёнка подождала, теребя концы завязанного у шеи платка, улыбнулась потерянно, робко поклонилась и пошла по тропке к дому.
У Макара тревожно стукнуло сердце, он шагнул в калитку. Васёнка дошла до крыльца, обернулась, и Макар, нарушая тишину, позвал:
– Васёна! Васёнушка!.. Ты не затворяйся в дому. Завтра же к клубу приходи!
– Приду-у… – шёпотом ответила Васёнка и уже с крыльца махнула Макару варежкой.







