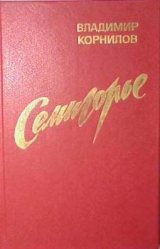
Текст книги "Семигорье"
Автор книги: Владимир Корнилов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 30 страниц)
– Васёнка! – крикнула она, стоя посреди горницы. – Приглашай братца за стол! Чего это он праздник не уважает!
Васёнка быстро и покорно встала, подошла, прижала к себе Витькину руку.
– Посиди с нами! Прошу тебя, братик, – звала она. – Поди хоть поешь! – Она упрашивала и тянула его к столу, и Витька покорился её зовущей руке.
Васёнка подвинула ему сковороду с жареной картошкой и мясом. Алёшка видел, как от вида даже остывшего жаркого Витька сглотнул слюну. Он взял ложку, но Капитолина его остановила.
– Э, погоди, милок! Наперво у нас пьют, – сказала она, наполнила кружку брагой, поставила перед Витькой. Налила Алёшке, Красношеину, Зинке, себе. Перед Васёнкой стоял чуть початый стакан.
– Ну, – сказала она и посмотрела на лесника.
Красношеин поднял кружку, слегка ударил по Витькиной кружке.
– За праздник и боевой натиск, парни! – сказал он, подумал и разъяснил: – Во всяческом деле!
– Правильное слово! – поддержала Капитолина и ближе к Витьке подвинула нарезанный ломтями шпиг, белеющий и розовеющий, как молодой снежок.
Витька отложил ложку.
– За пасху комсомольцы не пьют, – сказал он. Хмурясь, добавил: – И вообще не пьют…
– Смотри-ка, в дому монах объявился! – изумилась Капитолина. – Ну, а ты как, дорогой наш гость Алёша?..
– Я тоже предпочёл бы не пить. У меня и у Вити, как вы знаете, положение одинаковое… – Алёшка сказал так и смутился своего путаного объяснения. Ему хотелось быть по-мужски решительным в чужом застолье, и в то же время проявленная Витькой твёрдость его стыдила и останавливала.
– Вот молодёжь пошла! Народный праздник, а не чтут! – Лесник сокрушался и мотал головой, как лошадь на жаре. – И ведь не то чтобы не чтут, – пню не быть деревом! – боятся! На людях все мы как сжатые пружинки! Во! – Он сдавил пальцами воздух. – Вот в лесу, без прочих глаз, там – да! Там и ты выпил бы, Алексей. Выпил бы, а? – Он толкнул Алёшку плечом, наклонился. Лицо у Красношеина было пьяное, а глаза – трезвые, взглядом он будто боталом крутанул в душе.
Алёшке стало не по себе.
– Ладно, молодёжь ещё не знает, где трава укосистей! – сказал лесник. – А вот красна девица, хозяюшка молодая, должна знать, где косят с прибылью. Покажи, Васёнка, гостям пример!..
– И то: люди просят! А ты с полдня мычишь, не телишься. Чего уж! – корила Васёнку Капитолина.
Зинка Хлопова, пальцем покачивая на столе кружку, прикрыла глаза, поджала жидкие, словно измятые губы.
– В праздник и матушку не грех вспомнить, – сказала она, будто между прочим. Она знала, что сказать! Васёнка кинула на Зинку испуганный взгляд, посмотрела на Витьку, – её нежный девичий подбородок беззащитно дрожал. Винясь перед всеми, она поднесла стакан к губам, покорно, как нужное лекарство, выпила всё.
– Вот за это хвалю! – сказал лесник, чокнулся с Капитолиной и выпил сам.
Васёнка сидела, руками горестно закрыв лицо.
– Тебе, братик, не надо пить. Ты ешь, ешь! И вы, Алёша, ешьте! – говорила она, не отнимая рук от лица. Голос у неё дрожал, Васёнка совсем расстроилась.
Капитолина подмигнула Зинке, обе, вроде бы по нужде, скрылись в сенях. Когда они вернулись, у Зинки был такой вид, как будто её пугнули мешком из-за угла: она хохотала и ничего не могла сказать. Она влезла за стол, поковыряла вилкой яичницу, бросила вижу, откусила пирога и от разбиравшего её смеха вздрагивала угловатыми плечами. Капитолина взглядом строжила её, но Зинка ни на кого не обращала внимания – она была вся в себе.
– Ну, мальчики, – сказала она вдруг, – проводите меня на ваше гулянье. А то у меня в голове всё кружится, кружится – дорогу не найду!..
Алёшке уже порядком надоело сидеть за чужим столом, он с готовностью поднялся. Витька с беспокойством смотрел на Васёнку. Видно было, ему тоже хотелось уйти, но оставить Васёнку одну он не решался.
– Я с вами пойду. Погодите малость, сказала Васёнка. Она всё ещё прятала в ладонях лицо, её маленькие аккуратные уши на фоне чёрных волос траурно пунцовели.
– Куда это пойдёшь? – крикнула Капитолина. – Гость в доме. Чай, не ко мне пришёл!..
Лесник, казалось, был безучастен ко всему. Он отвалился к стене, большие пальцы рук засунул под ремень, свободными пальцами лениво постукивал себя по животу. Он был сыт, уважен, глядел сонно. Казалось, здесь, за столом, он сейчас и всхрапнёт.
– Что ж, пойдём, Васён, – осторожно позвал Витька.
– Пойдём, братик, пойдём… – Васёнка попыталась встать. Капитолина с силой надавила ей на плечи.
– Сиди, сказано!.. А ты, если такой беспокойный, – кричала она на Витьку, – поди вон Зинку проводи. Уйдёт гость – тогда и Васёнку отпущу!..
Зинка нагнулась, пощекотала ему шею носом.
– Ну, кавалер. Пошли! Две свободных руки у меня, на каждую по ухажёру!.. – Она вытянула из-за стола Витьку, подхватила под руку Алёшку, озоруя, крикнула: «Праздничка вам весёлого!..» – и вместе с Витькой и Алёшкой вывалилась за дверь.
Зинка шла, даже не покачиваясь, цепко держала обоих парней при себе и даже подшучивала то над одним, то над другим, как будто вся её забота в том и состояла, чтобы развлечь провожатых. Не прошли они от села до боа и полдороги, как Витька решительно вырвался из-под Зинкиной руки.
– Лёшка, – сказал он, – не могу гулять. Пойду за Васёнкой! Если что, подожди у бора…
Зинка попыталась ухватить Витьку, но он с твёрдостью отвёл её руку.
Зинка растерялась, потом вдруг озлобилась.
– А ну вас всех с вашими кобыльими баньками! – крикнула она. – Сами разбирайтесь!.. – и побежала к выходящей из села весёлой компании.
Алёшка и Витька переглянулись, пожали плечами – им показалось, что хмель ударил Зинке в голову.
Едва Витька вошёл в калитку, на крыльцо вывалилась Капитолина, гулко топая по ступеням, сбежала навстречу. Она тяжело дышала, рукой держалась за грудь.
– Витёк, Витёк!.. Авдотья у нас. Сказывает, батя сильно пьяный из Заозерья шёл, у моста через Вотгать свалился. Без памяти, говорит, лежит. Беги, милок, спасай батю! Как бы хуже чего не стряслось!
Убитый вид Капитолины, жалобные её слова, а главное батя, – не раз приходилось выручать его из подобной беды, – подействовали на Витьку. Он, не раздумывая, повернулся, высоким краем улицы, через всё село и дальше полем побежал к Заозерью.
До Заозерского хутора было шесть вёрст. Дорога шла большей частью лугами, вдоль Нёмды, и через две деревни – Колесово и Починки. Бежать всю дорогу по непросохшей скользкой земле Витька не мог, да и по гуляющим деревням, чтобы не привлекать к себе внимания, шёл шагом, – к мосту через Вотгать, неширокую, но глубокую речушку, впадающую в Нёмду, он добрался не быстро. Бати ни у моста, ни поблизости он не нашёл и, чувствуя, как от тревожности заходится сердце, побежал к уже близкому хутору, к батиному брату дяде Мише.
Большой дом с полуподвалом и надстройкой в ещё одну горницу под крышей с крытым, единым с домом двором и поветью, со своим колодцем у крыльца и невиданным узорочьем по карнизам и наличникам – узорочьем украшал дом батя – встретил Витьку гульбой: песни, голоса, крики пьяно толклись у раскрытых окон, выпадали на дорогу, баламутили всегда стоявшую здесь тишь.
Дом шага на четыре выступал из общего порядка других шести домов хутора и почти упирался кирпичным фундаментом в дорогу. Ни одна подвода, ни единый человек, даже собака, не могли проехать или пробежать по дороге, не замеченными из дома. Заметили, надо полагать, и Витьку, потому что, когда он вбежал по ступенькам на мост, там уже стоял дядя Миша, дожидаясь его. Не в пример бате, он был невысок и не худ, а сух и крепок, как свилеватое дерево, руки держал за шёлковым поясом чёрной сатиновой рубахи и часто моргал, как будто плохо видел Витьку.
– С чем пожаловал, молодец? – высоким голосом спросил дядя Миша. Он не очень жаловал племянника, и были на то у него свои причины.
– Батя был? – неуспокоенно спросил Витька.
– И сейчас здесь! Во, гляди, – дядя Миша указал через раскрытую дверь. Батя сидел с краю стола, ниже плеч уронив всклоченную голову, сидел молча среди шумных гостей, тяжело и как-то одиноко. – Со вчерашнего в гульбе и домой не просится!
– И не уходил?
– А куда ему уходить. Как сел за стол, так и не вставал. Ты чего это лицом на себя не похож? Иди поешь!..
Витька не ответил. Путаясь ногами в ступенях, едва не скатился с высокой, не как у всех, дяди Мишиной лестницы и побежал изо всех сил домой. Он бежал, спотыкаясь на гладкой тропе, и глотал на бегу слёзы.
На подгибающихся, ослабевших от бега ногах Витька поднимался на крыльцо, чувствовал в себе холодную, будто застывшую ненависть к Капитолине. Он знал теперь, что Капитолина обманула его, что в доме у них не было никакой бабы Дуни, – всё было придумка, ложь, всё для того, чтобы обмануть его, отправить на сторону. Он не знал, что делала Капитолина в дому, пока он искал батю. Но лишний глаз ей мешал, и ощущение беды, которое он почувствовал ещё на гулянье у бора, и которое улеглось после того, как они с Алёшкой повидали Васёнку, теперь тревожило его сильнее, чем прежде. По мере того как Витька проходил крыльцо и сени, ощущение близости беды росло. И, когда он распахнул дверь и увидел то, что было внутри дома, он задохнулся, как задыхаются от душного жара не в меру топлёной и угарной бани: он понял, что опоздал, опоздал навсегда, на всю жизнь…
Васёнка в помятом, открытом на груди платье сидела у окна, растрёпанные волосы закрывали её мокрое лицо. Она смотрела на Витьку провалившимися глазами и молча глотала слёзы. Лесник Красношеин сидел рядом, засунув руки в карманы штанов, раскинув ноги. Надорванный ворот форменки лежал на его плече, на скуле темнела кровь. Он смотрел в пол и тупо улыбался. У печи стояла Капитолина, прикрыв пухлыми веками глаза. На её тугом лице было такое выражение, как будто она только что молилась.
Окна в доме почернели, будто ночь упала на двор. Цепляясь за косяк, Витька дотянулся до пожи, нащупал молоток и боком, медленно пошёл к Капитолине. Капитолина глянула и осела, будто подмытый водой сугроб.
– Люди! – прошептала она.
Лесник встал.
– Ну-ка, ну-ка, ты что!.. – опасливо бормотал он, не решаясь подойти.
Витька не смотрел на лесника, он видел отступающую за печь Капитолину и шёл на неё, как раненый медведь идёт на охотника, и ужас был на лице Капитолины. Она нашарила медный таз, шатающимися руками подняла над собой, и Витька, дичая от злобы и мести, что есть силы, всадил молоток в его отблёскивающее дно.
Звон пробитого таза, грохот опрокинутой скамьи, падающих вёдер и тел оглушили дом.
Капитолина билась на полу под неловкими Витькиными ударами, и Витька всё больше озлобляясь за её страх и визг, в исступлении тянулся к её раздутому криком горлу. Он нашёл, сдавил тугую шею, но сзади его крепко обняли горячие руки.
– Не надобно, братик! – сказала Васёнка. – Не губи себя. – Она отвела покорного её рукам Витьку, усадила на лавку.
Капитолина стонала и ухала за печью, как в ночи филин. Васёнка чуть повернула голову.
– А ну, будет! – сказала она тихо, Витька едва услышал. Но в голосе её была такая сила, что Капитолина как захлебнулась – её будто не стало в доме.
Васёнка из-под упавших на глаза волос смотрела на всё ещё стоявшего посреди горницы лесника. Взгляд её был тяжёл и недобр.
– Иди, молодчик, покуда, – сказала она. – Иди и ноги не смей на моё крыльцо ставить, пока сама не скажу… Всё понял?
Красношеин, суетясь, отыскал фуражку, вышел, боясь оглянуться.
Васёнка подошла к Витьке, ткнулась головой ему в плечо, заплакала безутешно, как на похоронах.
Витька плечом чувствовал, как пылает Васёнкина голова, рукой придерживал её за спину и тупо думал: «Нету теперь нам с тобой жизни, сеструха, нету…»
У ТУНОШНЫ
Васёнка сложила бельё в корзину, сверху накрыла мокрой ситцевой наволочкой, подцепила тяжёлую корзину на руку, отправилась на Туношну полоскать.
Лето подошло к вершине. Даже на ходу было горячо ступать босыми ногами по тропе. На ржи колос уже гнул высокий стебель; в спелых травах заходились стрёкотом кобылки, на луговых цветах паровались бабочки. Речные густо-синие стрекозы играли над водой. Вдруг ни с того ни с сего разлетались, рассаживаясь на зелёных хлыстиках свища. Хлыстики покачивало течением, вместе с ними качались стрекозы. Радостный шум зелёных лесов на косогоре полнил речную луговину. Лето было в разгаре, земля в силе.
Васёнка умостила корзину на берегу, зашла в воду, ступнями утонув в прохладном донном песке, и забыла, зачем пришла на Туношну. Обняла плечи руками, как будто вдруг ознобило её в этом жарком, звенящем июльском дне, и, не видя, глядела в пёструю от солнца бегущую воду.
Тут и нашёл её Макар. Сел позади на бугре, свесил руки с колен – большие сильные руки свисали ниже травы – и так в молчаливости сидел. Боком к Васёнке.
Долго не понимал Макар, что случилось. Свидеться рвался, а свиданье не удавалось. И не только оттого, что, вернувшись с курсов, всю посевную пропадал в МТС на разного рода срочных ремонтах, – казалось сама Васёнка уходит от встречи. Не раз, умотавшись за день, в летних зыбких тёмках возвращаясь домой, он делал крюк, заходил в село от гужавинского дома, при себе носил завёрнутый в чистую бумагу и плотную холстину подарок – из пуха вязаный платок. Старуха, у которой он сторговал его в городе, сама протянула весь платок через кольцо, снятое с пальца, сказала: «Лучшего не найдёшь, голуба. Такой только матери да невесте дарить…» Он нёс дарить невесте, хотел сам накрыть Васёнкины застенчивые плечи невиданным подарком. Но Васёнку ни у дома, ни в селе не повстречал, не увидел её лица даже в тускло освещённых изнутри окнах. И матушка толком ничего не знала, смотрела на него тревожно. Как на грех, и бабка Грибаниха дорогу к ним в дом запамятовала!..
Ходить бы Макару, удивляться – не повстречай он на тракте за селом Витьку. Увидел Витька Макара, заметался по сторонам, выглядывая, куда бы сгинуть, но Макар уже крепко держал его за плечи.
Сели тут же, двух шагов не отступив от дороги. Витька, сразу осипнув, будто залпом хватил ковш колодезной воды, слово за слово рассказал Макару всё.
Дня не прошло – сошёлся Макар с Красношеиным в роще, за селом. С ходу, как медведя рогатиной, поднял лесника, придержал, прикидывая, о какое дерево ушибить. Одумался, бросил на землю. Долго поднимался лесник. Поднялся, стащил с плеча ружьё. «Как оно оборачивается, партийный товарищ! – сказал, задыхаясь. – Твоя не взяла – кулаки в ход?! – Раскрытым ртом он хватал воздух, челюсть его тряслась не то от бешенства, не то от страха. – А это видал? – Он показал ружьё. – Пока молчит. Помолчит, помолчит да стрелит!»
Макар подошёл вплотную к Красношеину, прихватил потёртый френч так, что вспоролись в плечах лесника швы. «Слушай. Ты, лишай еловый! – Макар всё ещё сдерживал себя. – Лежать бы тебе под этой осиной. Лежать – и не подняться. На счастье твоё забыть не могу, что человек я…»
Отяжелел Макар в горе, душа будто чугуном налилась. Домой приходил, садился у окна, молчал, мать боялась с ним заговаривать. Искал дела, а в МТС не ко времени случилась передышка. Через Ивана Митрофановича напросился на общий колхозный сенокос, что объявили по селу, надеялся там свидеться с Васёнкой и вдруг, глазам не веря, увидел у Туношны. Васёнка заметила позади сидящего Макара, напряглась, как лозина на струе, но боль оборвавшегося сердца не выдала. Подтянула корзину, выложила закрученное бельё в воду, корзину ополоснула, поставила на траву. Зашла поглубже, взяла Зойкино платье, стала полоскать.
– Не признаёшь? – тихо спросил Макар.
– Как не признать! – насмешливый голос Васёнки будто ударил Макара.
– Что так-то? – спросил он ещё тише.
Васёнка выпрямилась, обернулась, тылом мокрой руки отвела со лба волосы.
– По привету – ответ, по заслугам – почёт! – сказала с вызовом. Глаза её, всегда ясные, как погожий день, сощурились, смотрели на Макара отчуждённо и холодно.
Васёнка похудела, лицо истончилось, построжело, щёки опали, вокруг рта залегла тень.
Макар всё это видел, тяжесть сострадания не давала ему говорить.
Васёнка тоже не охотилась на разговор, полоскала бельё, быстро и ловко выжимала, складывала в корзину. Всё прополоскав и сложив, она оправила волосы, вытерла руки о фартук, спросила, глядя себе на руки:
– Жалеть пришёл?..
Макар поднял тяжёлые от боли глаза.
– Может, сядешь? – сказал он.
– Некогда сиживать! Да и не к чему, Макар Константинович. – Васёнка вздохнула, в горькой усмешке сомкнулись её губы. – Что ж теперь по полю бегать, руками махать, – отпущенную птицу не ловят!..
Макар, как будто не замечая в голосе Васёнки ни насмешки, ни горечи, смотрел на неё грустными спокойными глазами.
– Я, Васёна, от дел не бегаю, с полдороги назад не возвращаюсь. Нет нужды нам с тобой жизнь разламывать. Что задумано, тому быть.
Васёнка от слов качнулась, руками прихватила высокую шею, будто теснота в груди не давала ей вздохнуть, смотрела на Макара испуганно и беззащитно.
– Зачем такое говорите, Макар Константинович! – сказала с упрёком, руки её упали с груди, повисли без сил. – Сами знаете, такое не можно…
– Можно. Нам с тобой жить, Васёна. Двоих нас то касается, никого больше. Огорим.
– Огорим! Значит, горе-то есть?! – Васёнка уже справилась с глупой радостью, что поманила её надеждой. Губы снова сомкнулись горько и усмешливо. – Нет, Макар Константинович, не знаю я людей, которые через такое переступают! Батя на Капкины прежние грехи глаза позакрыл, да разве жизнь у них?! В голодности лютуют, потом смотреть друг на дружку не можут… Это ли жизнь?.. И ты, Макар, помнить про то будешь. Сердцем изболеешь. Как рана в боку, замучает она тебя, случись что не по тебе… Не то, не то, всё не то!.. Сказать тебе надобно: не двоих нас то касается. Как в дом-то твой с дитём на руках приду?.. Вот оно как, Макар Константинович. Батины грехи, видать, на меня обернулись…
Васёнка подняла корзину, напрягая гибкое тело, взошла на бугор. Остановилась позади сидящего в немоте Макара. Постояла, глядя на его крепкие, теперь приспущенные плечи, туго обтянутые белёсой со спины гимнастёркой, сказала помягчевшим голосом:
– Прости меня, Макарушка! Видит бог, о тебе мечтала… Не удалось мне судьбу обойш. Другой ухажёр ловчее тебя оказался. По всему видать, с ним доживать век… Прощай, Макарушка!..
Васёнка шла лугом, опустив голову с узлом тёмных волос над высокой шеей, придерживала рукой висящую на локте корзину, шла медленно, будто ощупывая босыми ногами тропу. Спустилась в низину, поднялась на косогор.
Васёнка уходила по косогору всё дальше, виделась всё меньше и на глазах Макара затерялась в пестроте цветущего луга, как дымок растворилась в раздолье летней земли.
МАЛЕНЬКАЯ СОБАЧКА
1
В квартире Поляниных появился чёрный в рыжих подпалинах щенок. Беспомощное существо на разъезжающихся ножках ползало в углу, сморщенной мордочкой размазывало слюни по крашеному полу и надрывно скулило.
У Поляниных никогда не было ни кошек, ни собак: Иван Петрович и Елена Васильевна в своей кочевой жизни избегали всякой лишней привязанности. Наверное, и эта маленькая собачка не оказалась бы в квартире – не появись она вдруг.
Щенка принёс колхозный пасечник Федя-Нос, известный Елене Васильевне своим весёлым поведением на праздниках и непонятной дружбой с Алёшей.
Когда Елена Васильевна вошла в кухню, щенок уже был на полу, а Федя, держа в огромных красных руках помятый картуз, откланивался у двери. Елена Васильевна испугалась скулящей собачки, но она не была б Еленой Васильевной, если б не улыбнулась гостю.
Так оно и свершилось, это невозможное в семье Поляниных событие.
– Что вы! Зачем? Собачки нам не надо! – говорила Елена Васильевна и в то же время с милой улыбкой прикладывала руку к груди. И глуховатый Федя-Нос, по-своему понимая улыбку и жест Елены Васильевны, во весь рот улыбался в ответ и отгораживался от благодарности рукой:
– Не стоит того, Лена Васильевна! Это вашему Олёше. Зайцев стрелять: «Бух, бух…»
Алёшка застал мать в расстроенных чувствах: она стояла у плиты, около её ног в луже молока, ползал мокрый щенок.
Алёшка всё понял: схватил тряпку, вытер пролитое молоко, вымыл и насухо обтёр голопузого щенка. Щенок дрожал, плакал, мордочкой тыкался в ладонь: глаза его, наполовину подёрнутые синей поволокой, ещё плохо видели мир.
Алёшка унёс свою неожиданную драгоценность в комнату, уложил на кровать, прикрыл щенка ладонями. Согретый Алёшкиным теплом, он затих.
В дверях появилась мать. Молчаливую договорённость с сыном она сочла нужным дополнить:
– Учти, Алёша, всё будешь сам: и убирать, и мыть, и кормить. Всё, всё сам!..
Она выждала, желая убедиться, дошла ли до сына вся тяжесть дополнительных неприятных обязанностей, и когда сын ответил: «Сам, всё буду делать сам, мамочка!..» – ушла, в душе осуждая своё безволие.
Теперь только отец мог пресечь счастливое развитие событий.
Отец, по наблюдениям Алёшки, преодолевал какую-то трудную полосу в своей жизни. И дело было не только в нуждах работы, хотя его часто вызывали в район, и на строительстве он нервничал и раздражался. И домой приходил поздно, усталый и неразговорчивый, – всё это было в порядке вещей, работа, как бы она трудна ни была, никогда не угнетала его.
Алёшка не раз видел отца в тяжёлой задумчивости: развернув перед собой газету, он близорукими глазами невидяще смотрел поверх куда-то вдаль, в распахнутое окно, – в такие минуты он бывал так далёк от дома, что не сразу отзывался даже на обращённый к нему вопрос. Было что-то на душе отца, что не зависело от успехов и неудач в работе, от его здоровья или тревожных событий в Европе, за развитием которых он хмуро и сосредоточенно следил.
Однажды он застал его у письменного стола: отец разглядывал лежащую перед ним небольшую фотографию Сталина. Судя по всему, он хотел повесить фотографию и даже осмотрел стену, но раздумал и убрал в свои бумаги. На его столе всегда была только одна фотография – Ленин, читающий «Правду», – других никогда Алёшка не видел. Он понял, что эта молчаливая сцена с фотографией как-то связана с тем, что было на душе отца.
В таком настроении отец легко мог вспылить и очень даже просто оборвать его радостные мечты о настоящих охотах с собакой.
Томясь ожиданием, Алёшка надумал заручиться поддержкой матери, взял щенка на руки, пошёл к ней в комнату.
Мама, вытащив на стол старые письма, листочки и тетради с записями по живописи, музыке, воспитанию – что только не интересовало маму! – сосредоточенно наводила в бумагах порядок.
Алёшка послонялся вокруг, попробовал завладеть её вниманием.
– Мам, правда, симпатичная мордашка? – он наклонился над столом и приподнял лопоухую щенячью голову.
– Гениальная! – вздохнула мама.
Нет, в самом деле. Ты посмотри!
– Алёшенька! – мама даже не взглянула на щенка, как-то очень странно она смотрела на Алёшу. – С отцом разговаривать я не буду. Твоя собака – сам и говори, сам упрашивай. Хватит с меня…
Алёшка давно заметил, что мама как будто сторонится отца. Нет, никто ни с кем не ругался, и жизнь в семье шла по заведённому порядку: мама вовремя их кормила, следила за бельём, прибирала квартиру, знала, когда поставить чайник на керосинку, подать на стол хлеб и масло. Жизнь в семье не менялась – менялась сама мама: такой молчаливой и замкнутой она редко бывала прежде. Очень часто стали приходить к ней письма из Ленинграда. И после каждого письма она уходила одна на речку или в ближний лес и возвращалась ещё более замкнутой и молчаливой, и вот так же странно поглядывала на отрешённого от домашних забот, сосредоточенного на чём-то своём отца.
Мама была чем-то недовольна, но ведь каждый человек бывает недоволен! Он, Алёшка, сам раз десять на дню недоволен собой и другими!
Он ушёл к себе в расстроенных чувствах.
Но отец пришёл, постоял над щенком, в раздумье подняв брови, неопределённо сказал:
– Ну-ну… – и взял газету.
Такого полного счастья Алёшка не ждал. Чтобы щенок не беспокоил родителей, он на ночь укладывал его рядом с собой под одеяло. В тепле щенок вёл себя тихо, но бесстыдно пачкал постель.
Каждое утро Алёшка стирал простыни, вывешивал на двор сушиться, вечером гладил, заново стелил. Мать с любопытством наблюдала за его мужественным поведением, но, кажется, не верила, что терпения ему хватит надолго. Мама, как всегда, оказалась права: на пятый день Алёшка, краснея и пряча глаза, принёс к себе в комнату ящик, поставил у кровати, долго и заботливо выстилал внутри тряпками.
Собачка обрела место, но дом потерял покой: щенок искал тёплых Алёшкиных рук, и одинокий плач был слышен даже через закрытую дверь.
– Отец нервничает, – предупредила мама. Но что он мог поделать?
И гроза пришла.
Ночью щенок заскулил. Сонный Алёшка тянул к нему с кровати руки, гладил, но не мог успокоить ни лаской, ни теплом. В родительской комнате что-то грохнуло. Алёшка вмиг проснулся и замер от предчувствия беды. Раздались шаги. В проёме распахнутой двери появился отец: в нижней рубашке, в кальсонах, страшный, как привидение. Он шагнул, опрокинул стул, нагнулся над ящиком; Алёшка не успел протянуть руку, как отец выхватил скулящего щенка, босыми ногами прошлёпал в кухню. Звякнул, отскочив от двери, крюк, гулко пристукнули на крыльце шаткие ступени, жалобный визг донёсся до Алёшки. Топая по полу, отец прошёл в комнату.
Алёшка медленно приходил в себя. Насилие всегда его подавляло, он цепенел, когда на него обрушивалась неожиданная грубая сила.
За стеной что-то говорила мать. Отец сердито отвечал.
Под раскрытым в кухне окном плакал щенок.
Алёшка оделся, через окно вылез во двор. У крыльца подобрал дрожащего щенка, сунул носом под мышку, прикрыл ладонью, пошёл на берег реки.
Домой вернулся, когда по его расчётам отец был уже на работе. Молча напоил щенка молоком. В рюкзак сложил куртку, майку, полотенце, рыболовные снасти.
Мать поставила на стол сковородку с картошкой, подвинула кринку с молоком, стакан.
Алёшка молча ел. Она стояла рядом, охватив плечи, уткнув подбородок в руки.
Как ни был Алёшка погружён в себя, он почувствовал необычайное состояние матери. С беспокойством взглянул на неё раз, другой, ему стало душно: он понял, что мать одобряет то, что задумал он, мать хочет, чтобы он ушёл, она велит ему уйти!
Может быть, всё обошлось бы, как обходилось в прошлом: до вечера он побродил бы по лесу, лес бы его успокоил, и отец за это время успел бы пожалеть о своём несправедливом гневе. Но мать ВЕЛИТ ему идти. Он чувствовал, как она напряжена, видел, как твёрдо и решительно сжаты её красивые губы, и тяжело поднялся.
– Пойду, мама, – сказал он. – Несколько дней меня не будет…
– Хорошо, сын. Иди. Только скажи, где ты будешь… – её голос от напряжения дрожал.
– Где всегда. У дяди Феди, на озёрах.
Он закинул за плечи рюкзак и взял на руки щенка.
2
Федя-Нос, к которому отправился Алёшка, был человеком ни на кого не похожим: с весны до осенних холодов жил в избушке, в пойменных лугах, километрах в десяти от села, вёл колхозную пасеку да забавлял себя кой-каким ремеслом: плёл корзины, лапти, рыбу ловил.
– Мой дом на озёрах, Олёша, – говорил он. – В Семигорье – зимние квартиры, на постой к своей хозяйке становлюсь…
Хозяйкой он называл свою жену – маленькую, курносую, удивительно спокойную к его чудачествам женщину.
Носом все звали Федю за фамилию – Носонов – и за нос, багровый, с сизым отливом, толстый, как картошка, – так бы отломил да бросил в чугун вариться!
Сам Федя-Нос, по мнению Алёшки, был составлен из противоположностей. В молодых летах он был силён и сейчас в свои «под шестьдесят» один на плече подтаскивал из лесу трёхметровые лесины. Но в жизни своей, как говорил, напрасно «мыши не обидел». Над погибшей пчелой он мог сокрушаться без меры и хоронил её обязательно в землю, как человека, и в то же время был охотник, и выстрелы его по пролётным стаям бывали опустошительны. «За осень три раза, от силы четыре, беру на себя грех, Олёша. Но без того, чтоб не стрелить, не могу…» – признавался он.
Стрелял Федя-Нос из старинной шомпольной фузеи какого-то пушечного калибра. Порох и дробь засыпал в дуло горстью, крепко запыживал и где-то уже в октябре, когда земля холодала, шёл на озеро. Там, на мыске, стоял у него шалаш, до половины набитый сеном, в воде плавали струганные из липы чучела. Федя зарывался в сено, выставлял из шалаша фузею и терпеливо, многие часы, ждал. Садились утаи: парами, шестёрками, стайками, – это баловство его не занимало. Но вот с водопадным шумом опускалась на озеро пролётная стая; Федя, едва шевеля руками, подтягивался к ружью и замирал. С собачьим терпением он смотрел и дожидался, и когда с полсотни уток сплывалось, и вся их масса плотно покрывала воду, как муравьи кучу, – фузея изрыгала огонь. Гул, похожий на гром с небес, прокатывался над озёрами. Стая взмывала, оставив с десяток белеющих брюшками уток. Федя вылезал из шалаша, яростно потирал скулу: отдача у фузеи была как у пушки. Потом собирал добычу и шёл в Семигорье. Уток раздавал по домам, чаще и больше других – Петраковым.
К вечеру скулу у него разносило флюсом. Флюс наливался чернотой, потом синел, постепенно желтел, к концу недели опадал. Федя прощупывал скулу большим пальцем, устанавливал между ног фузею и, щуря глаз, снова с горсти сыпал порох в широкое дуло.
Таков был он, Федя-Нос, и ничто не могло его изменить. На праздниках он гулял широко, благо угощали его в каждом дому и не скупились для хорошего человека. Но только на праздниках. Кончился праздник – и весёлое шатание снимало с Феди как рукой: он загружал в мешок хлебы, виноватясь, что-то говорил своей хозяйке и уходил на пасеку, в одинокую свою избушку.
Алёшка не знал, по какому такому случаю пригрел его около себя Федя-Нос, но бывать с ним любил, и слушать любил, и не к кому другому – к нему шёл сейчас со своей горькой обидой на отца и с каким-то недоумённым чувством к матери. В избушке он отмяк, домашние заботы от него отошли. Федя-Нос подал мёду с чаем и, как всегда, сходу подзадорил:
– Не пойдёшь с удочкой? Какой головель в протоке прихватывает – жутко!.. И ручейники припасены…
Он сопроводил Алёшку на протоку, усадил под «уловистый куст», поставил баночку с ручейниками. Щенка забрал с собой, чтоб «не было шевеленья». Так до вечера Алёшка и мудрил над голавлями, забыв про всё на свете. К ночи, обирая губами мякоть с румяно поджаренных рыб, он разговорился.
– Фёдор Игнатьич, скажите же, наконец, чем вы меня отличили? Привечаете, а за что? Ни сын, ни родной вам. И добра никакого не сделал…
Федя-Нос прибавил в лампе свету, с другого края стола поглядел внимательно:
– Я, Олёша, со всеми одинаков: тепла надо – грейся, голоден – садись, ешь за ради бога, совета спросишь – дам. От добра не беднеют! А в злого человека – что вот есть он такой негодный – не верю. Зло и в добрых бывает. От нужды. Всё зло, Олёша, от нужды… А людей я всё же различаю. Тебя вот различил. Не запамятовал, как по весне на сухой гриве свиделись? Ты в шалашике на токовище таился. А я за тобой смотрел. Очень бывает мне интересно человека глядеть, когда он того не знает… Тогда и подглядел, как ты тем старым токовиком распорядился. Ну, красавец, всех петухов поразогнал. И с самочкой так это жалостливо обошёлся – сердце ущемил! Думаю: сейчас ты этого, дорогого мне, кавалера стрелишь. Гляжу на твой шалаш, а солнце пробивает сквозь и на лицо твоё падает. И вижу – очарован ты этой великой птицей и про ружьё не помнишь. Тут я тебя и различил, хотя раньше видел на озёрах. Показался ты мне, вот и рад, когда приходишь…







