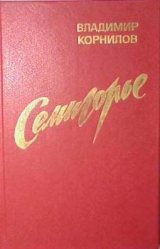
Текст книги "Семигорье"
Автор книги: Владимир Корнилов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 30 страниц)
НА НОВОМ МЕСТЕ
Полянины устраивались, пока временно, в отведённом им доме бывшей конторы. Вещи вносили в большую комнату, ставили в беспорядке. Чтобы подойти к окну, взглянуть на луг и речку, приходилось раздвигать чемоданы и перешагивать через тюки. Вторая, гулкая комната, пока пустовала.
Иван Петрович обежал квартиру, с удовлетворением отметил, что к его приезду стены, потолки и печи заново побелили, пол покрасили, даже в кладовочке вымыли квадратные окна, с подоконников стёрли пыль. В кухне стояло ведро чистой воды, у подтопка лежали мелко наколотые сухие дрова, на полешках – кучка надранной бересты. Чья-то заботливая рука сделала всё возможное, чтобы угодить незнакомому директору будущего лесного техникума.
Иван Петрович, утомлённый долгой дорогой и жарой, жаждал одного – горячего чаю. Раздражённый медлительностью людей, он нетерпеливо ходил из кухни в комнату, выбегал через широкое крыльцо во двор, видом своим поторапливая мужиков-возниц. Мужики поругивались, отходили к колодцу напиться, от колодца окрикивали неспокойно стоявших на жаре лошадей. Наконец, кряхтя усерднее, чем требовал груз, они внесли в дом последнюю дорожную корзину и, старательно отирая картузами лбы, встали у порога. Рыжеватый мужичок по имени Иван Батин, к хозяйственности и хитроватости которого Иван Петрович пригляделся за двое суток пути, одобрительно подмигнул и северной скороговоркой сказал:
– Барахлишка-то порядком нажили…
Крышка чайника выпала из рук, звякнула о керосинку, покатилась по полу. Иван Петрович сквозь очки уставился на мужичка.
– Труд, говорю, таскатъ-то… – пояснил Батин, несколько потерявшись под взглядом хозяина.
Иван Петрович наконец сообразил, о чём речь, и рассердился на то, что обжёг руку, и на этих людей, которые тянули время, теперь вытягивали деньги.
– Леспромхоз, товарищи, с колхозом рассчитался за подводы! – сказал он и сделал нетерпеливое движение к двери.
– Мы ж для вас постарались! – сказал Батин, не двигаясь с места. – На чай после такого дела сам бог не осудит…
В другое время Иван Петрович выстоял бы перед несправедливым напором рыжеватого мужичка, но сейчас ему так хотелось хотя бы минутного покоя, что молча он вынул бумажник и протянул три рубля.
– Вот теперь интерес соблюдён, – удовлетворённо сказал Батин, с достоинством принял деньги. – Благополучия вам на новом месте…
Примостившись к свободному уголку кухонного стола, Иван Петрович налил из чашки в блюдце горячего чаю. Он всегда блаженствовал над стаканом крепкого чаю с кусочком сахара вприкуску, но сейчас пил с блюдечка торопливо и хмурился. Выпил чай, отодвинул чашку от края.
– Гм… соблюдён интерес… – вспомнил он рыжеватого возницу. – Там Днепрогэс, Магнитка, Чкалов пролетает над Северным полюсом, а здесь всё тот же извечный «свой интерес»…
И всё-таки техникум мне строить здесь. И детей Батина учить и выводить в люди. И ничего не поделаешь: новь и старь. В который уж раз вот так, начинаю почти с нуля!..
Иван Петрович заглянул в комнату. Елена Васильевна сидела на дорожной корзине среди груды вещей, как печальная дева над разбитым кувшином. Иван Петрович смущённо кашлянул.
– Пойду представлюсь, – сказал он.
Елена Васильевна промолчала.
– Чай горячий, уже пил, – сообщил Иван Петрович, виновато глядя на жену. – Вы тут без меня не разбирайтесь!
Елена Васильевна, разомлевшая от духоты и беспорядка, с досадой отмахнулась.
– Иди, пожалуйста, я сама всё сделаю!..
Иван Петрович помялся у вещей, потом с той же виноватостью, но и с твёрдостью, надел чёрный китель, фуражку и, сказав «ну, я пошёл», тихо прикрыл за собой дверь.
Алёшка тоже не усидел.
– Мам, я в лес, сказал он и выскочил вслед за отцом.
Елена Васильевна сидела среди сгруженных вещей, безвольно опустив руки на чемоданы. Она всегда медленно обретала способность к действию. И даже после того, как осталась в доме одна, некоторое время пребывала в том грустном и покорном расположении духа, которое охватило её ещё в Москве, в ту ночь, когда Иван Петрович сообщил, что они уезжают из столицы.
Наконец она открыла замок чёрной сумочки, достала ножницы, не вставая и не спеша, с тщательностью чертёжника, шов за швом распорола старые Алёшкины штаны, курточку, мешковину – всё тряпьё, в которое неделю назад зашила свой столик. Отпоротые тряпки сползли на пол, и среди пустых стен и хаоса вещей вдруг солнечно сверкнули великолепной полировкой и бронзой тонкие, изящно изогнутые ножки. Глаза Елены Васильевны на какой-то миг оживились. Она высвободила из вещей и тряпок весь столик, поставила его и, поджав губы, с усилием перетащила в заднюю, смежную комнату. Столик осторожно вдвинула в угол, напротив окна, отошла и опустилась на железную, кем-то уже принесённую для них кровать. Оживление оставило её. Она прислонилась щекой к холодному железу, с грустью смотрела на круглую поверхность столика, сияющую чем-то далёким и невозвратным. Этот туалетный столик красного дерева с бронзовыми инкрустациями на ножках был единственной достойной вещью в домашнем хозяйстве Поляниных. Он был как память, как последний свидетель того далёкого времени, когда Елена Васильевна безумно поверила в свою счастливую звезду и стала женой заметного даже в Петрограде красивого молодого человека. Иван Петрович в то время был уже партийцем-большевиком, и его, студента четвёртого курса Лесного института, удачно организовавшего по специальному заданию лесозаготовки в Тихвинском уезде, выдвинули на руководящую работу. Учреждение, где он работал, снабжало дровами весь Питер. А топливо в те годы было как хлеб. Что значило тогда тепло живого огня в печурке, Елена Васильевна увидела однажды воочию, на концерте, который давали для работников топливного фронта солисты петербургского оперного театра.
«Облтоповцы», как звали их тогда, после концерта преподнесли артистам не розы и хризантемы, даже не астры, – каждому солисту они выдали по маленькой вязанке дров. И знаменитые артисты, перед именами которых млело её восторженное сердце, с радостью – она видела это, – с радостью и благодарностью несли в дома подаренные им щепки, прижимая их к своим собольим шубам. Её потрясла тогда переоценка ценностей, которой она была свидетель. Может быть, именно в тот вечер обаяние высокого искусства померкло в её глазах перед возможностью простого домашнего тепла. Лена оставила занятия в киностудии, овладела машинописью и заботами Ивана Петровича была устроена к нему секретарём.
За Леной ухаживал Саша, юноша с грустными глазами Есенина и руками пианиста. С Сашей они занимались в киностудии, и Лена, кажется, любила Сашу. Даже после того, как она ушла из студии, они продолжали встречаться в Таврическом саду.
Судьбу её решил Кронштадтский мятеж.
Среди тех, кто пошёл по льду Финского залива на крепостные стены, под огонь пушек и пулемётов, был Иван Петрович Полянин. И, когда мятеж контрреволюционеров был подавлен и к ней, прямо в дом, Иван Петрович пришёл в ремнях, с револьвером на боку, пришёл с вокзала, пропахший морозом, порохом и победой, Лена забыла, что на свете есть юноша Саша, с грустными глазами Есенина. Она бросилась Ивану Петровичу на грудь и пылающим лицом уткнулась в красный бант в петлице его пальто.
Саша уехал на Дальний Восток добровольцем-пулемётчиком. Когда он вернулся, Лена уже ждала будущего Алёшку.
Ивану Петровичу отвели огромную квартиру, реквизированную Советской властью у какого-то царского сановника. В квартире была обстановка из красного дерева с бронзовыми инкрустациями. К тому времени Иван Петрович оставил институт. Он считал, что Революция – не время книг и теорий, надо практически строить новый мир.
Через год он преспокойно оставил роскошную квартиру на Петроградской стороне, бросил всю обстановку красного дерева и увёз Елену Васильевну вместе с маленьким Алёшкой на Урал, в Екатеринбург, в старый кирпичный дом, где не было водопровода, но был сосед-пьяница, который каждую ночь поднимал в доме дебош. На Урале кто-то почему-то проваливал лесозаготовки, и кто-то где-то решил, что там нужны ум и энергия Ивана Петровича. С тех пор Елена Васильевна потеряла счёт дорогам, городам и посёлкам. И всё-таки, как ни трудны были переезды, как ни выходил из себя Иван Петрович, убеждая её избавиться от лишних вещей, Елена Васильевна каждый раз обшивала столик тряпками и везла с собой. Столик тихо светил ей в её жизни, как в сумеречной комнате светит луч закатного солнца. И пока столик был, не угасала в ней надежда на то, что когда-нибудь Иван Петрович образумится, они вернутся в Ленинград, на её и Алёшкину родину.
Елена Васильевна встала, прошла в комнату, где были вещи, из той же чёрной сумочки достала ключи, открыла замки на дорожной корзине. Из-под слежавшихся в дороге платьев вытащила и бережно высвободила из белой шали свой портрет в широкой тёмно-вишнёвой раме. Это тоже было прошлое: петербургский фотограф запечатлел её накануне замужества. Елена Васильевна поставила портрет перед собой и острее почувствовала щемящую боль утраты.
Как она была хороша! Эти полуобнажённые плечи в мехах (меха специально для фотографа дала старшая сестра Марина), и тонкая девичья шея, и высокая причёска, и локон, как будто случайно упавший сбоку на чистый открытый лоб (волосы ей укладывал знакомый по киностудии парикмахер), и этот нежный овал подбородка, скромно опущенные, затемнённые ресницами глаза, красивая, чуть поджатая губа, и даже вот эта мочка уха с жемчужной серьгой (серьгу ей одолжила вторая старшая сестра Анна) – всё юность, ожидание, прелесть невозвратимого теперь девичества!..
Елена Васильевна вдруг заволновалась, достала из корзины зеркало, поставила рядом с портретом, поправила волосы, тревожно вгляделась в себя. Нет, нет, всё ещё хороша, если не обращать внимания на усталость в глазах, беспокойный взгляд, истончившиеся, в горечи изогнутые губы. Прежней девичьей нежности – увы! – нет. Прожитая жизнь как будто отретушировала её лицо: резче обозначились линии носа, рта, подбородка, нервная напряжённость изменила выражение лица, но, слава богу, она ещё не потеряла привлекательности, не огрубела, как грубеют женщины в этих бесконечных лесах и посёлках…
Елена Васильевна протёрла стекло и рамку, отнесла портрет в комнату, на кухне разыскала гвоздь, утюгом вколотила его в стену. Портрет повесила над столиком, отступила к окну, прикидывая, всё ли хорошо у неё получилось. Взглядом она сразу охватила всё: и столик, и свой портрет, и ещё не распакованные вещи среди голых, с конторским запахом стен – и уронила руки. Ей вдруг показалось, что в этой, ещё чужой для неё квартире сгрудилась вся её жизнь. «Да, да, – думала она, – вот здесь вся моя жизнь в миниатюре! От сверкающего, дорогого сердцу столика и портрета до вот этой груды развалившихся чемоданов, протёртых одеял, старых штанов и рубашек! Ни одного хорошего костюма, ни обстановки, ни своего угла! Всё казённое, всё временное: кровати, дом, работа, знакомства, – всё, как на вокзалах! Мне воздано за моё девичье упрямство! – с горечью к тому, что сейчас было перед ней, думала Елена Васильевна. – Как не хотела моего замужества мама, как отговаривали сёстры, как молча страдал папа, боясь своим вмешательством повредить счастью любимой младшей дочери! Я же видела, что Иван Петрович чужой для нашей семьи. Он и сам не скрывал этого. «Я не чувствую у твоих родственников революционного духа», – сказал он, когда уже был мужем…
Елена Васильевна, сцепив руки и до хруста заламывая пальцы, в волнении прошлась по комнатам. «Но почему я здесь? – вдруг подумала она, останавливаясь в раскрытых дверях. – Что держит меня около неуживчивого и вечно занятого человека?.. Любовь?..» Если бы она любила!.. Держит её любовь Ивана Петровича. Он любит её трудной и нетерпеливой любовью. До сих пор она не может понять, чего больше в его чувствах – доброты или самолюбия, бережливости, неумелой чуткости или мужской несдержанности. У Ивана Петровича она одна, это она знает. Если бы она ушла от него, так, в одиночестве, он и дожил бы свой век. В этом она убедилась за шестнадцать лет жизни с ним. Ей всегда было приятно сознавать, что она у кого-то единственная. И, оправдываясь в дни своих коротких наездов в Ленинград перед сёстрами, жалеющими и ругающими её за цыганскую жизнь и бесхарактерность, она, краснея, лепетала: «Но Иван Петрович не может жить без меня…» Ревнивую опёку, с которой он оберегал её красоту, она принимала со скрытым удовлетворением и в грустные минуты очередных переездов утешала себя мыслью, что Иван Петрович, срываясь с обжитого места, подстёгивает себя ещё и страхом потерять её. Ей казалось, что, ревнуя, он увозит её даже от невиданных знакомств.
Пока Елена Васильевна была молода и наивна и Алёша подрастал, требуя её забот и материнских чувств, она примирялась с любовью Ивана Петровича и семейными хлопотами. Но Алёша мужал, его душевный мир становился сложнее, всё больше он замыкался в своих интересах и пока ещё робко, но всё определённее тянулся к отцу. Елену Васильевну это не только огорчало, она страшилась потерять свою власть над душой сына. Она хотела видеть Алёшу в его будущей жизни другим, она ещё плохо представляла, каким именно, но только не таким добровольным неудачником, каким был в её глазах Иван Петрович.
После того как Алёша с глупым мальчишеским восторгом поддержал Ивана Петровича в его неожиданном решении уехать из Москвы, сменить высокую должность и столицу на незаметное директорствование где-то в лесной глуши, Елена Васильевна в первый раз так остро и определённо почувствовала, что в семье она одинока. И теперь, стоя в дверях пустой, ещё чужой для неё квартиры, она с необычной доя себя обнажённостью чувств и мыслей видела и заново переживала всё, что долгие годы составляло её семейную жизнь.
«Что наша семья? – думала Елена Васильевна. – Три разных человека под одной крышей. Потолок, стены, стол – у нас одни, песни у каждого свои. Что Ивану Петровичу до моей жизни? Что ему до интересов Алёши? Вместе мы только за столом…»
У Елены Васильевны и прежде возникали подобные мысли. Они на время печалили её и уходили. Но никогда прежде её возбуждённые воспоминаниями чувства не были столь определённы и мысли столь решительны, как сейчас. Елена Васильевна была не в силах одолеть волнение и ходила по комнатам, нервно потирая тонкими пальцами виски.
«Ведь пишет же мне мама – приезжай! – думала Елена Васильевна. – Ведь ещё можно, если не всё, то хотя бы себя возвратить к той жизни, которая мне дорога!..»
В дверь постучали. Елена Васильевна вспыхнула, засуетилась, как будто она делала что-то нехорошее и её могли сейчас уличить в этом нехорошем.
– Да, да, пожалуйста! – крикнула она и пошла на кухню, на ходу оправляя платье и волосы.
В дверь просунулся маленький человек в кепке, с длинным унылым носом.
– Маликов. Зав. хозяйством! – отрекомендовался он и с уважением посмотрел на Елену Васильевну. – Кровати доставил. Куда прикажете?..
С крыльца в кухню одну за другой он втащил две железные кровати, точно такие же, как та, что уже стояла в комнате. Вслед за кроватями внёс четыре волосяных матраса.
– Зачем же четыре?! – удивилась Елена Васильевна.
Маленький человек в кепке почтительно улыбнулся.
– На вашу кровать велено положить два матраса, – сказал он.
Кровати, по указанию Елены Васильевны, он расставил в комнатах, положил на них матрасы. Откуда-то принёс кринку молока, десяток яиц, два каравая хлеба.
– Не извольте беспокоиться, Елена Васильевна, расчёт произведён. Может, подтопок растопить? – заботливо спросил он.
– Нет, что вы, я сама!
– Как вам желательно.
Человека в кепке звали Иван Петрович.
– С Иваном Петровичем мы полные тёзки! – сообщил он с достоинством и, поклонившись, вышел.
Елена Васильевна в растерянности ходила по кухне, зачем-то отодвинула железную заслонку, заглянула в пустое и холодное отверстие русской печи, сплела и до боли сжала пальцы, тяжко вздохнула, прошла в комнату. Присев на корточки, она стала покорно развязывать верёвку на помятом в дороге чемодане.
Всё встало на свои места.
ВОЛГА
– Ой, Витька, думаешь не вижу?! Думаешь, не знаю? Всё вижу, всё знаю. И, пожалуйста, не строй из себя!..
Зойкин голосок как будто старался ущипнуть за больное место. Витька лежал лицом вниз. Ему было хорошо и лениво, как бывает только на горячем песке у Волги, и Зойкины слова были даже приятны, как отдалённое жужжание пчелы.
– Думаешь, не вижу, как замаривает тебя Капка? Ломтя путного не отрежет, так и выхватит в серёдке. Молока дома напиться не даёт! Точит тебя, как короед. А ты… Ишь, тихохонький какой! Смотрю на тебя. Вот-вот молиться начнёшь! Что молчишь, христосик несчастный?! Думаешь, не знаю, что голубя на костре варил? И что картошку на огороде подкапываешь?..
Витька плотнее прижался к песку: Зойка нащупала-таки больное место.
– Молчишь? – Она ударила Витьку по спине.
– Больно, Зой!
– А! Больно?! А мне, думаешь, не больно? За тебя переживать не больно? Слушай, Витька, если будешь молчать, я сама устрою такое! Сегодня же. Как обедать сядем, я ей скажу, бессовестной! И бате скажу. Это что такое, всё на глазах, а он не видит!
– Бате не смей говорить, – глухо сказал Витька.
– Как это не смей?! Привёл в дом Капку, так пускай строжит!
– Говорю, бате не сказывай, – ещё глуше, в песок, сказал Витька. Зойка рванула Витьку за плечо.
– А ну, повернись! А ну, посмотри на меня!.. Это почему не говорить? Ты трус, Витька!..
Зойкино лицо пылало, её взгляд из-под сузившихся век и дрожащих густых ресниц жёг таким презрением, что Витьке стало не по себе. Зойка отпихнула его, охватила свои ноги руками, сжалась в тугой непримиримый комок.
Витька сидел, прижимаясь подбородком к колену, горестно думал: «Ну, что ты, сеструшка, понимаешь? Батя теперь ничто. Сам теперь от людей бегает. Капка матушку извела. Васёнку покорила. Нас с тобой к полу гнёт. Нет, Зойчик, батя ни тебе, ни мне не защита. Самим надо в белый свет выкарабкиваться».
Витька положил руку на разлохмаченную Зойкину голову, как всегда делал, когда хотел помириться, но Зойка отпрянула от его руки.
– Не смей меня трогать! – кричала Зойка, её голос и плечи дрожали. – Ты – трус, трус! – Зойка опять уткнулась лицом в колени. Витька хотел снова погладить Зойкину голову, но раздумал, встал, охватил плечи широкими ладонями, щурясь, оглядел Волгу. Он видел её сейчас всю, от песчаных островов и кос, тёмных среди сверкающей солнцем воды там, где Нёмда вливалась в Волгу, до лугового берега, где ходило стадо. Луговой берег был так далёк, что коровы казались с овцу: опустив к земле головы, они паслись, будто пили зелёную воду.
Вся речная ширь от Разбойного бора за Нёмдой до низкого берега, где ходило стадо, млела в жарком полдне. На стрежне вода морщилась от течения и слабого ветра, рябь полосой тянулась снизу, от далёких отмелей. За Волгой, в густом, как пыль, мареве, прорисовывались багрово-белые края облаков.
Зойка всё ещё сидела, уткнувшись в колени, её согнутая спина с бугорками позвонков под загорелой кожей выражала непримиримость.
Витька вошёл в воду. Шёл медленно, потом быстрее, торопясь пройти отмель. Но, когда дно круто упало вниз и вода плеснула под грудь, он почувствовал идущую из глубины опасность и, как от холода, поджал живот, остановился.
«Волга не любит шутить!» – не раз говаривали старые люди. А с прошлого лета Волги остерегались даже видавшие виды семигорские мужики. Витька помнил тот ветреный день, разорванный отчаянным криком рыжей Феньки, когда на телеге привезли в село укрытого холстиной Костьку, молодого Фенькиного мужа. Лихой парень выпил на берегу с косцами да на беду назвался храбрецом. Выловили его уже неживого…
Волга напирала на Витьку; он переступал под водой, чтобы устоять на ногах, и даже отступил к берегу, где было помельче.
Плыть не хотелось.
Повернув голову, он смотрел наверх, где на горбу широкого холма, выше зеленеющего льнами поля, открыто и вольно стояли избы Семигорья. Окна изб, обращённые к Волге, на солнце дружно светили неподвижным измятым пламенем. Только их, гужавинский дом, примостившийся в тени двух старых берёз, настороженно посверкивал холодком затенённых стёкол. Витька поглядел на дом, на Волгу, сжал зубы и нырнул прямо в багровый край завалившегося в Волгу облака.
Он плыл быстрыми саженками, стараясь забраться как можно дальше против течения. Рябь разгулялась сразу же на ширине, мелко и надоедливо плескала в лицо. Голову приходилось тянуть вверх, плечи от напряжения немели. Он опустил руки, теперь плыл, разгребая перед собой волну, по-лягушачьи отталкиваясь ногами.
На стрежне он почувствовал, как понесла его река. Он видел дуб на берегу, где ходило стадо. Дуб, словно лёгкий пароход, всё быстрее и быстрее уплывал вправо, а берег был по-прежнему далёк.
Витька помнил, что ниже Нёмды, в узком фарватере, за перекатом, Волга заваливалась в круговерть. Если он не успеет пересечь стремнину, там его закрутит, и тогда ему несдобровать. Он чувствовал грудью, под отяжелевшими ногами текучую глубину реки. Волга несла его и расступалась под ним, медленно, как топляк, он оседал в воду.
В лицо плеснула волна, наглухо закрыла рот. Он увидел, как ослепительно белая чайка метнулась к нему, тут же, косо вскинув крылья, с криком взмыла вверх. Витька, задыхаясь, барахтался, отворачивал от волн лицо, яростно отбивался от влекущей его глубины. Наконец перехватил жёсткий, царапающий горло воздух и, обессиленный, повернулся на спину, раскинул руки, пустыми глазами уставился в небо.
Вынесло его на косу, ниже Нёмды. Он выполз на песок, уронил голову на руки, лежал, не шевелясь, ни о чём не думая, – ждал, когда вернутся силы.
Отлежался, встал, дошёл до Нёмды, переплыл её. Взобрался на бугор, увидел бегущую ему навстречу Зойку. Зойка остановилась, глядела на него дикими, одуревшими глазами. Витька молча прошёл мимо, на зубах у него скрипел песок. Он поднимался вверх по берегу, не убыстряя и не замедляя шаг. Зойка видела, как Витька вышел на далёкий, рассекающий Волгу мыс, забрёл в воду и снова поплыл.
Теперь он плыл не спеша.
Он знал, что плыть ему долго, и плыл на боку, левую руку выбрасывая вперёд головы, отталкивался ногами и на какое-то время расслаблял тело, отдыхал. Изредка он поднимал голову, взглядом отыскивал дуб над качающимися горбами волн. Оба берега теперь были одинаково далеко. Среди воды он был один.
Волны бежали навстречу, им не было конца.
Когда волна подбегала и, как будто натолкнувшись на его взгляд, приостанавливалась, по-кошачьи выгибалась и падала, Витька сам поднимался из воды ей навстречу. Волна промахивалась: закипев у груди, с шумом проносилась мимо. Подходила другая, он бросался на эту другую. Он одолевал волну за волной и знал, что будет плыть, пока не выйдет на тот берег или, обессилев, не пойдёт на дно…
Долго Витька отлёживался на траве, его худой живот поднимался и опадал, как бока запалённой лошади. Суетились на ногах рыжие муравьи, он не чувствовал их, – лежал, смотрел в небо, устало и счастливо улыбался.
Далеко, на береговой круче, дрожал листьями дуб. Витька поднялся и, будто хмельной, размахивая руками, пошёл к нему.
Дуб на ветру гудел. Волга казалась землистой от тучи, заслонившей солнце. Среди почернелой воды то и дело вспыхивали шипящей пеной соловцы.
Предгрозовая суета на земле и на воде веселила. Витька победно смотрел на свой пустынный берег и не думал, как вернётся домой: на крайний случай оставался перевоз – три версты не путь…
Ветер крепчал. Видно было, как за Волгой, над мощёным трактом, пыль поднялась выше берёз, оседая и растягиваясь, понеслась в поле. Листья, сорванные с дуба, летели стремительно, как ласточки-касатки, далеко от берега падали в воду. Даже под крутым берегом, где он стоял, морщилась и плескалась вода.
Туча накрывала Волгу.
Витька давно приметил чёрный буксир, тащивший снизу баржу. Буксир пробирался против течения так медленно, что казалось – стоял на месте: только-только поравнялся с Нёмдой. На перевоз идти не хотелось – далеко; да и стыдно одному, в одних трусах. Он раздумывал, не поплыть ли ему обратно. Ветер попутный, силы вернулись, да и тот, свой, берег казался теперь не таким далёким. «Вот пройдёт буксир и поплыву», – решил он.
Ударил гром, ливень стегнул по берегу. Поёживаясь под ветром и секущими струями, Витька искал, где укрыться. Встал под ветви, но одинокий дуб не укрывал от грозы. Озираясь и вздрагивая от ударов грома, он сбежал по мокрой глинистой круче и окунулся в спасительную воду.
Он плыл в волнах, накрытый хмарью низкой тучи, в шумящей навеси сплошного дождя, и было ему жутко и хорошо. Волга прикрывала его и как будто согревала неведомым раньше теплом. Вспыхивала молния, падал гром, Витька, играя, головой погружался в воду, как будто прятался под подушку. Никто не знал, что воображал, что вспоминал он в эти жуткие восторженные минуты, скрытый от всех на свете глаз!
Он был уже где-то на середине Волги, когда сквозь шум волн и дождя услышал короткие тревожные гудки. Он поднял голову и, как сквозь туман, увидел, что его проносит близко от идущего вверх буксира. Буксир тревожно гудел, около чёрной высокой его трубы суматошно вырывался пар. На барже люди в чёрных блестящих от дождя плащах бежали к корме.
От баржи отделилась лодка, качаясь в волнах, взбрызгивая вёслами, стала приближаться. Витька понял, что это его заметили с буксира и спешат спасти. Он попытался удрать, но лодка настигла, едва не пристукнув мотающимся носом, – пришлось руками ухватиться за борт.
Дядька в плаще с откинутым на спину капюшоном, с мокрыми усами, с косицами прилипших к вискам волос, неуклюже полз по дну лодки к носу, подбадривая Витьку криком: «Держись, сынок, сейчас я. Сейчас…»
Он ухватил Витьку за руку и с неожиданной силой втащил в лодку. Парень на корме изо всех сил подгребал коротким веслом и орал: «Фролыч! Заливает..!» В истошном вопле испуганного матроса был такой открытый ужас перед бурей, что Витька, пойманной рыбиной лежащий на стланях, засмеялся.
Парень замахнулся веслом.
– У-у, скажённый! Зубы ещё скалит… Из-за тебя, паразита, сам концы отдашь!..
Он развернул лодку против волны, с натугой работая вёслами, правил к барже. Витька с приятным чувством превосходства наблюдал за парнем на корме. Лодку швыряло с волны на волну, парень качался, как на качелях; то и дело взмахивал рукой и хватался за борт. Порой вода ядрёно шлёпалась ему под ноги. Парень откидывался, прижимал весло к мокрому животу, круглыми бегающими глазами смотрел вокруг.
«Тоже мне матрос…» – думал Витька. Он уже наполовину лежал в воде, но это нисколько его не страшило. Он готов был хоть сейчас уйти в волну.
Баржа приближалась. Витька понял, что его потащат туда, наверх, и начал беспокоиться. В другое время – пожалуйста, он с охотой прокатился бы на барже! Но сейчас это было, ни к чему: тащат, будут глазеть, как на утопленника!..
Витька сел, поджал к груди ноги.
– Дяденька, а мне домой надо! – сказал он жалобно.
– Эва что! – сказал усатый дядька, не переставая работать вёслами, и пригрозил: – Вот сдадим, тебя в Костроме куда следует, будешь знать, как в бурю на Волгу выходить…
– В Костроме-е? – удивился Витька. – Как же я оттуда назад-то?
– А как знаешь… Лодку-то, где переворотило?
– Да я без лодки. Я так…
Фролыч даже вёсла бросил, зашебуршился, как ёж под листьями.
Волна плеснула через борт, парень-матрос закричал. Фролыч схватился за вёсла, тужась, подгребал и, задыхаясь от усилий, сипел, как испорченный пароходный свисток:
– Сорога пустоглазая… Щенок! Сопля зелёная… Это в бурю! Вот ужо погоди!
Крутой бок баржи замывали и били волны. Наверху, наклонясь, стоял матрос с накинутой на руку верёвкой. Витька понял, что время удирать.
– Спасибо, дяденьки! – крикнул он, легко поднялся и прыгнул в волны. Он долго плыл под водой, вынырнул, услышал разорванный ветром крик: «Куды-ы ты-ы… Чё-ёрт водяной!» Снова нырнул. Потом поплыл к своему берегу.
Туча обогнала его, ушла вверх по Нёмде, за лес. Волны потеряли силу, перекатывались с ленцой, покачивали. Берег был недалеко, и Витька, радуясь своей силе и тому, что он совершил, плыл не спеша, разгребая воду усталыми руками.
В волнах, с правой стороны, он давно заметил что-то постороннее: буй не буй и не бревно, что-то вроде плывущей коряжки. Коряжка, однако, не уплывала, а приближалась. И когда они сплылись, Витька ясно увидел голову парня с прилипшими ко лбу космами волос. Он щурился и смотрел на Витьку. Витька не утерпел и крикнул:
– Ты откуда это?
– Да оттуда! – парень поднял над водой руку, махнул на дальний берег.
Витька как-то сразу ослабел, неловко забултыхал руками, с трудом догрёб до берега, сел на песок, лицом к воде. Он видел, как парень в синих плавках пошёл к тальникам, пружиня сильными ногами, на ходу растирая ладонями плечи. Тело у него, на вид крепкое, было без сколько-нибудь заметного загара, почти белое, и Витька догадался, что этот не из местных. Всё ещё тяжело дыша, он с молчаливой враждебностью наблюдал, как парень, подставляя проглянувшему солнцу то грудь, то спину, отжимал плавки, потом достал из-под нависшего над берегом конца колоды сложенные брюки и майку, оделся, туго затянул на поясе ремень. Майку он не стал надевать, перекинул через плечо, вынул расчёску, стал расчёсывать и укладывать густые волосы. Парень всё делал не торопясь, заметно было, что он старается, чтобы всё у него выглядело красиво. Он, как иная девчонка, без зеркала видел себя. «Тоже мне, волгарь… Маков цвет на грядке!» – думал Витька, не в силах примириться с чужаком.
Парень, сам того не зная, испортил ему радость одержанной победы.
Витька не слышал, как подбежала Зойка. Она с бега тяжело упала к нему на колени, ткнулась ему в живот головой и затихла, не в силах ни говорить, ни плакать. Витька молча привлёк к себе Зойкину голову, всю в смешных мокрых косичках, гладил, винясь и успокаивая напереживавшуюся за него сестрёнку.
Нездешний парень подошёл к воде, в руке держа за ремешки сандалии. Зойка подняла голову, увидела, заморгала мокрыми ресницами, быстро вытерла ладошками глаза.
– Витька! Это он – Алёша! Про которого давеча я сказывала… – Зойка шептала, не сводя с парня глаз, и толкала Витьку локтем. – Из Москвы… Из самой-самой Москвы!.. Витенька, миленький! Ну, подойди к нему… Ну, заговори!.. Витенька!.. Ну, уйдёт сейчас… Гляди, обулся уже!.. – Зойка умоляла.
Витька не шевелился. Тогда Зойка толкнула его и, округлив глаза, в отчаянье крикнула:
– Ты можешь для меня?!
Витька угрюмо усмехнулся, сказал:
– Я, Зой, лучше Волгу переплыву. Ещё раз. Для тебя.







