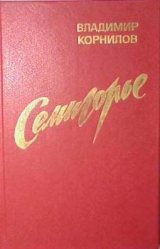
Текст книги "Семигорье"
Автор книги: Владимир Корнилов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 30 страниц)
Смущаясь приятной ему похвалы, Алёшка поднялся, сунулся к умывальнику отмывать замасленные пальцы. Оттуда, из угла, спросил:
– Значит, нет злых людей? А меня отец обидел. На всю жизнь! – он вернулся к столу, рассказал всё, что случилось дома. Федя-Нос сильно расстроился, даже не мог спокойно сидеть на лавке, вставал, снова садился.
– Я-то, старый глухарь, думал, тебя собачкой одарю! От самого Петра Ишутина нёс – в нашем краю лучшей породы нету! Ах ты, едрёна калина!.. Ну, ты, Олёша, на отца сердца не держи. Всяко в житье бывает. Но скажу тебе, и ты меня послушай: ежели человек прогоняет собаку, значит, худо у него на душе.
– Ты вот что, Олёша, щеночка мне оставь. Утихнет дома – возьмёшь. Ах ты, едрёна калина!..
Ночь Алёшка проворочался на сене, не столько от духоты и комарья, сколько от смуты, которую зародил в нём Федя-Нос.
Весь другой день он провёл около избушки, помог перепилить пару лесин, поколол их помельче, вместе сходили на вырубку, нарезали берёзы на веники – Федя-Нос любил париться в баньке, за раз исхлёстывал по два веника. Потом поиграл на лугу со щенком и нарёк его именем: отныне собачка стала «Уралом». «На Урале мы долго и, кажется, хорошо жили», – пояснил Алёшка. А к вечеру вдруг собрался домой, и Федя-Нос его не задержал.
– Ступай, Олёша, – сказал он. – Пригляжу за собакой.
3
К посёлку он подошёл уже в сумерках и свернул на тропу, которой обычно ходил к перевозу. На обрыве, против дома, увидел одинокого человека и, чувствуя, как заколотилось сердце, помедлил с шагом.
Случайно отец оказался у знакомой тропы или долго и намеренно поджидал его – Алёшка не понял. Отец стоял, сутулясь, в руках держал очки. Даже в сумеречном закатном свете было видно, как осунулось его лицо. Близорукие глаза смотрели на Алёшку с такой растерянностью и болью, что ещё миг – и Алёшка опустился бы перед отцом на колени.
Отец старался говорить спокойно, но голос его срывался:
– Хотел предупредить… Мама очень взволнована. Я погорячился. Ты – тоже… Глупо, очень глупо: рвётся там, где не ждёшь. – Он судорожно вздохнул, надел очки. Даже стёкла очков не могли скрыть его затуманенных страданием глаз.
Алёшка опустил голову, сказал:
– Прости меня, папа. Щенка я отдам…
Иван Петрович испуганно взглянул на сына, достал из кармана платок, подержал в руке, снова сунул в карман.
– Не в щенке дело. Собачка пусть живёт… – сказал он и беспокойно огляделся. – Ты вот что: иди домой. Мама тебя ждёт. Иди!..
Дрожащие руки отца коснулись его рук, и Алёша почувствовал, как в его груди вдруг всё заледенело. Он понял: дома что-то произошло, что-то гораздо более важное, чем всё, что было до сих пор.
У крыльца отец остановился.
– У меня тут дела. Пойду проверю, – сказал он, ещё раз взглянул на Алёшку и пошёл, почти побежал мимо заборчика, не оглядываясь. Алёшке казалось, что он вот-вот споткнётся – ноги плохо слушались отца.
В доме всё было на своих местах. Мать сидела в большой комнате за столом, писала письмо.
– Я ждала тебя, Алёша. Сядь, – сказала она. Мама всегда встречала его улыбкой, всегда, когда бы он ни переступал порог дома, откуда бы ни возвращался – из школы или с охоты. Первый раз он не увидел маминой приветливой улыбки, она даже не перестала писать.
– Сядь, Алёшенька, – повторила она, и Алёшка, впервые оробев перед матерью, послушно сел.
Маму он не узнавал: лицо её как будто заострилось, было решительным и непреклонным, рука твёрдо лежала на столе. Как будто невероятной силы пружина, обычно закрученная лишь на слабый виток, теперь сжалась в ней до предела. В каждом движении её руки, повороте головы, взгляде звенела эта напружиненная сила.
Мама дописала письмо, аккуратно перегнула, вложила в конверт.
– Алёшенька! – Она смотрела на него решительно. – Я ничего не буду тебе объяснять. Всё мы решим потом. Сейчас я прошу об одном: ты должен поехать со мной в Ленинград…
«Вот оно! – Алёшка замер. – Вот оно, то смутное, тревожное, что передалось ему от отца. Мама хочет уехать! И он, Алёшка, должен…» Он с трудом понимал, что он должен. Как из плывущего над рекой осеннего тумана постепенно проступают очертания прибрежных кустов, песчаных кос, застрявших на отмелях коряг, так в его сознании проступило то, что случилось в доме той, теперь, казалось, далёкой, ночи, когда разгневанный отец выбросил на двор щенка. Теперь он мог понять растерянность отца, знал, почему он не поднялся в дом, а придумал себе дело в посёлке. Он понимал теперь, почему мама в то утро молча ВЕЛЕЛА ему уйти из дома. Туман уплывал. Всё открылось и виделось ясно, с такой пронзительной обнажённостью, что Алёшка закрыл глаза.
Мать положила ему на голову руку.
– Алёшенька! Родной мой! Не время говорить о моей, о твоей жизни. Ты всё поймёшь потом. Сейчас ты должен поехать со мной! Должен. Алёшенька, должен…
Глаза её, полные слёз и отчаяния, молили. Алёшка понял, что мама давно задумала уехать из Семигорья, но у неё не хватало сил начать другую жизнь без него. Маленькая собачка подстегнула время, она подстегнула и мамину решимость.
– Поедем, Алёшенька… Мне надо успокоиться, повидать родных. Папа тоже подумает… Может, ещё всё уладится… Нам надо поехать, Алёшенька… – Она не отпускала, гладила его руку своей горячей, огрубевшей в домашних делах ладонью.
Алёшка не мог выстоять перед её слезами.
– Хорошо, мамочка, поедем, – покорно сказал он, – только не плачь. Пожалуйста, не плачь, мама!
На кухне тихо открылась дверь. Елена Васильевна поспешно вытерла платком глаза, выпрямилась, подобрала локти. Снова она была непримирима, её прищуренные глаза смотрели сухо и решительно.
Алёшка слушал, что делает отец: отец постоял у порога, подошёл к дверям комнаты, заглянул, поспешно ушёл обратно. Остановился, затих. Алёшка напрягает слух, слышит, как отец пальцами постукивает по столу.
Мать неподвижно сидит, охватив щёки ладонями.
В доме так тихо, что хочется кричать.
У РОДНЫХ
1
Алёшка с тёмной лестничной площадки последним протиснулся в узкую дверь и встал у порога. Длинный, стеснительный, с тяжёлым чемоданом в руке, он стоял у большой, окутанной паром, радостно шипевшей плиты и терпеливо ждал, когда притихнут ахи, охи, поцелуи, суматошный говор семейной встречи. Елену Васильевну окружили, обнимали и целовали все разом, потом заново, по очереди: сестра Мария – Мура – Мусенька, самая старшая сестра Марина, или Мома, как звали её по-семейному, муж самой старшей сестры, дядя Саша, хитро подмигнувший Алёшке через поблёскивающие стёкла пенсне, и дедушка Василий, не потерявший достоинства даже в этой всеобщей суете. Бабушка Катя, такая толстая. Что руками не обнять, но с удивительно молодым гладким и добрым лицом властным жестом отстранила всех, передником вытерла рот и расцеловала любимую дочку в глаза и губы.
Елена Васильевна стояла пунцовая, счастливая. Шляпка её съехала и закрыла ухо, волосы выбились на лоб, глаза повлажнели и блестели от радости. Она, не переставая, смеялась и отвечала сразу всем. Никто ничего не мог понять и не хотел понимать – то, что было самым важным, видели все: их Ленушка снова в кругу родных.
Из общей суматохи, словно мячик из воды, вынырнула Олька, дочка Муры – Мусеньки. Чмокнув Елену Васильевну в щёку, она, словно кошечка, прыгнула к Алёшке и, повиснув у него на шее, жарко поцеловала в губы. Алёшка стоял, с трудом удерживая в руке чемодан, он заметил прищуренный лукавый взгляд Ольки и не знал, что делать. Не отнимая тёплых оголённых рук от Алёшкиной шеи, Олька ещё раз жарко поцеловала Алёшку в губы и опять испытующе заглянула ему в глаза из-под длинных редких ресниц. Она как будто разом хотела почувствовать, каким Алёшка стал за шесть лет разлуки, но так и не почувствовала брата, скинула руки с его шеи и, энергично подталкивая в спину, выставила Алёшку на всеобщее обозрение. Вконец растерянный, Алёшка, вслед за Еленой Васильевной, покорно принял суматошные приветствия и удивлённые возгласы, новые охи и ахи.
После обеда, долгого и сытного до тяжести, за которым все оживлённо разговаривали и с удовольствием напробовались бабушкиных пирогов, Олька увела Алёшку на «свою» половину, в гостиную, и, усадив на мягкую низкую кушетку, потребовала:
– Ну, рассказывай о себе!..
Алёшка пожал плечами, смущённо потрогал волосы. Он не умел «вести разговор», он любил слушать и молчать. К тому же Олька смущала его своей бойкостью и вызывающей независимостью, он чувствовал, что она намного «взрослее» его. Да о чём он мог рассказать? О лесах, в которых можно быть дни, ночи и всю жизнь и никогда не чувствовать себя одиноким? О весенних разливах на Волге, когда лес стоит в воде, как на зеркалах, терпеливо ожидая тепла и земли? О том, как на болотах шваркают селезни и, слушая и понимая их, он поднимает и стреляет глупых красавцев? А на заре слушает летящих над макушками деревьев и поскрипывающих, как кожа седла, вальдшнепов? Или о том, как ночует на земле, под соснами, и смотрит в небо, шевелящееся от звёзд?.. Может быть, о школе, о том, что каждый день проходит пять километров туда и пять километров обратно в метели и дожди и в волны и ветер переправляется через две реки? Или рассказать о Семигорье, о леснике Красношеине, о Васёнке, о смешной, до удивления преданной ему девчонке Зойке? Или о конюхе Василии? Или о Юрочке?
Алёшка чувствует: расскажи он обо всём этом Ольке – она сдержанно выслушает и разочарованно вздохнёт. Ему кажется, она слишком городская и слишком суетна, чтобы засмотреться на звёзды или молчаливо разделить с лесом тишину. Олька живёт чем-то своим, волнующим, быстрым и ярким, и он, Алёшка, наверное, интересен для неё, как ёжик, случайно привезённый из лесов. Он чувствовал это и потому сказал:
– Не знаю, Олька, мне нечего рассказать. Вокруг меня – леса и одиночество, у тебя за окнами – Ленинград! Рассказывай ты! – Алёшка застеснялся своих красивых фраз, покраснел и от смущения кулаками похлопал себя по торчащим коленям.
Олька звонко расхохоталась и крикнула:
– Ты самая настоящая деревенщина, Алёшка! – Она как будто была рада открытию и с хитрой улыбкой добавила: – Подожди, я возьмусь за тебя!.. А как твои сердечные дела? – невинно спросила она и, как тогда, на кухне, испытующе вгляделась в Алёшку.
В гостиную, будто по пути, впорхнула Мура-Муся. Она с какой-то комичной подозрительностью посмотрела на Ольку, на Алёшку и, тут же собрав на лбу недовольные складочки, сказала:
– Олька! Ты лучше бы показала Алёше свои новые работы!.. Ты знаешь, Лешкин, – Мура-Муся любила коверкать имена, – как она рисует! Ведь талантлива до умопомрачения! И при таком таланте до ужаса ленива! Я ей говорю: «Олька, ты пойми…»
Олька вспыхнула, широкие крылья её вздёрнутого носа угрожающе раздулись. Но ответила она неожиданно для Алёшки сдержанно:
– Во-первых, я не намерена хвастаться своей мазнёй. Это, во-первых. А во-вторых, мамочка, сколько раз я просила тебя не вмешиваться в мои дела и в мои разговоры. Мы уже достаточно взрослые, чтобы самим разобраться в своих делах. Думаю, всё ясно, мамочка?
У Ольки был уничтожающе спокойный вид, чуть склонив голову, она с лёгкой иронией смотрела на мать. Алёшке стало неловко. Он подобрал руки к коленям и виновато притих.
Мура-Муся, заламывая пальцы, нервно побежала по гостиной. От чёрного, поблёскивающего лаком пианино она перебежала к круглому столу, где на тяжёлой плюшевой скатерти в низкой вазе, похожей на самовар, стояли бумажные розы. В сторону отставив мизинец, она привычным движением рук поправила цветы и тут же побежала обратно к пианино, на ходу выкрикивая:
– Как тебе не стыдно так разговаривать с матерью! Вот, Алёшенька, какие пошли неблагодарные дети! Стыд! Кошмар!.. Постыдилась бы Алексея!..
Олька выпрямилась и молча сидела вполоборота к матери, пухлые губы её сложены были в полупрезрительную, полуироническую улыбку. Видом своим она как будто давала понять, что весь этот крик и шум выдерживает только потому, что кричит и шумит её мать. Расстроенная Мура-Муся не выдержала, остановилась у пианино, всхлипнула, приложила платок к глазам.
– Вот, всегда так! – выкрикнула она сквозь слёзы и, ещё раз окинув гостиную скорбным взглядом, вышла.
– Вот, всегда так! – раздражённо повторила Олька. – Ей надо обязательно кому-нибудь испортить настроение! Без этого она не может.
Олька с минуту сидела неподвижно, прислушиваясь к разговору за дверью, потом хмыкнула в нос.
– Не обращай внимания, сказала она. – Моя независимость – мамочкин пунктик!.. Давай говорить о своих делах.
Олька скинула туфли, подсунула под себя ноги и, удобно привалившись к мягкой спинке дивана, потребовала:
– Ну, говори, ты влюблялся?..
Ох, и Олька! Она менялась вмиг. Всё скатывалось с неё, как с крыши вода! Алёшка, подавленный неожиданными слезами Муры-Муси, смотрел на сестру с упрёком, Олька тут же уловила его настроение.
– Ты думаешь, мама переживает? – сказала она. – Ничуть. Это всё не больше чем… – она пошевелила тонкими пальцами, – не больше, чем пена. Я уже привыкла. Для тебя это странно, ты отвык от нашей жизни. Ничего, поживёшь с ними. – Олька кивнула на дверь, – будешь, как я…
– Олька, – спросил Алёшка, – а Николай Андреевич когда приходит?
– Отец?! Обычно перед праздниками, – и, удивляясь, спросила: – Разве ты не знаешь? Он уже третий год не живёт с нами. Но в гости приходит. И я бываю у него. Странно, правда?
Алёшка растерянно, даже с каким-то страхом, смотрел на Ольку. Ушёл отец! А Олька об этом говорит, и так спокойно, как будто не об отце, а о какой-то забавной, не имеющей к ней отношения истории!..
Алёшке было горько, как будто его обманули. В неожиданной этой поездке в Ленинград, на которой так некстати настояла мама, его согревало только одно радостное ожидание – встреча с Олькиным отцом, Николаем Андреевичем. Среди всех хлопотливых тётушек, бабушек, дядюшек, среди всей ленинградской родни, один Николай Андреевич, дядя Ника, светил ему тёплым спокойным костерком в здешней, не очень-то интересной, домашней жизни и всегдашней неразберихе.
В ту пору, когда Алёшка жил в этой квартире, он терпеливо дожидался вечерних часов, когда дядя Ника приходил с работы и за своим верстачком, в тёмном коридоре, над которым в эти часы ярко светила лампочка, начинал мастерить. На верстачке он строгал, пилил, шлифовал, подкрашивал, и каждая вещь – будь то рамка для картины, полочка, шкатулка или бочонок под бабушкины засолы – выходила из-под его рук до загляденья ладная да ещё расписная, как игрушка! В квартире он всё делал сам – белил потолки, красил рамы и подоконники, натирал полы: он всегда был в деле, как будто та работа на заводе, на которую он ходил каждый день, только разжигала его азарт. С дядей Никой Алёшка ходил в Таврический сад, терпеливо наблюдал, как рисует он пруды и мосточки над каналами, задумчивые от высоких лип аллеи. Он хорошо рисовал, дядя Ника, и то, что Олька тоже рисовала, наверное, было от него.
Алёшка знал что родня с холодком, а порой со сдержанным раздражением относилась к Николаю Андреевичу, так же как и к Ивану Петровичу, Алёшкиному отцу. Но дядя Ника и не требовал любви, он вообще никогда ничего не требовал. При любых гостях, за столом, в разговоре, он всегда оставался самим собой – невозмутимым, простым, никогда не привлекал к себе внимания, и когда ему становилось неинтересно, спокойно вставал и уходил к своему верстачку, какие бы важные гости не сидели в гостиной.
Таков был он, Олькин отец, и горько и обидно было Алёшке, что дядя Ника с Баскова переулка ушёл…
Алёшка подавленно молчал. Олька тоже притихла и глядела на брата с какой-то вызывающей настороженностью.
– Олька! – спросил Алёшка глухо. – А почему Николай Андреевич ушёл?
Круглое личико Ольки оживилось. Она прикрыла ресницами глаза, пальцами перебирала и разглаживала низ платья.
– Видишь ли, – осторожно сказала она, – семейные отношения сложнее, чем можешь знать ты…
Олька нарочно тянула слова, стараясь ленивой будничностью тона подчеркнуть значительность того, что знает она и ещё не знает Алёшка.
– Дело в том, что в семейной жизни важна не только квартира и зарплата, важен ещё и темперамент. Да, темперамент, – спокойно повторила она, заметив удивлённое движение Алёшки. – Ты это понимаешь? Или пока ещё… – Олька приставила ладонь к уху и, вопросительно взглянув на Алёшку, помахала у виска пальцами. – Не удивляйся, об этом рассказала мне мама. Она позаботилась, чтобы я знала всё. С её стороны это мило, не правда ли?.. Поэтому к отцу я отношусь спокойно. Мы даже дружны с ним. Тебя это удивляет?..
Олька говорила спокойно, слишком спокойно, даже, пожалуй, чуточку небрежно. Именно её спокойная небрежность заставляла смущённого Алёшку слушать. То, на что целомудрие накладывает определённый запрет, для Ольки уже не было запретом. Ей интересно было наставить брата в той жизни, которая для неё уже приоткрылась своей манящей стороной, и сказать о том брату ей ужасно хотелось. Но Олька чувствовала, что Алёшка «другой», не такой, как она, и, боясь уколоть себя, она словами, будто мягкими лапками, прощупывала неуклюжую и неясную для неё Алёшкину душу. Пока она благоразумно остановилась там, где ощутила сопротивление.
– Ладно, скажи лучше, чем ты сейчас живёшь? – спросила Олька.
– Как чем?
– Ну, что тебя волнует больше всего другого?
Алёшка пожал плечами. Он не поспевал за скачками и поворотами в Олькиных мыслях, но постарался ответить как можно честнее:
– Пожалуй, больше всех других волнует вопрос: как человек должен жить.
– Ха! – Олька откинулась на спинку дивана и, скрестив на груди руки, с неподдельным изумлением уставилась на Алёшку. – Ты это всерьёз?!
– Конечно, всерьёз!
– Потрясающе! – сказала Олька. – Ну, и как ты решил этот вопрос?
– Ещё не решил, решаю. Кручусь где-то вокруг теории разумного эгоизма…
– Кирсановского или рахметовского?
– Рахметовского.
– Потрясающе! – повторила Олька. – К какой же революции ты себя готовишь? Октябрьская совершилась. Индустриальная, колхозная – тоже совершилась… О какой революции думаешь ты?
– О духовной, – уже злясь сказал Алёшка. Он чувствовал, что Олька в душе смеётся над его откровением.
– Подожди, не сердись. Всё это очень интересно, – успокоила его Олька. – Ты всё-таки скажи, как ты решаешь для себя эти духовные проблемы?
– Так вот и решаю.
– А всё-таки?
– Пока решил одну: понял, что нельзя жить за чужой спиной. Даже за отцовской спиной. Понял, что в жизни не должно быть посредников. Что есть только один посредник между мной и жизнью – работа…
– Это интересно, – почти искренне сказала Олька.
– Ещё одним вопросом мучаюсь: не могу помирить «хочу» и «надо».
Олька теперь как будто уменьшилась и тихо сидела среди диванных подушек, только смешливые её глаза блестели сильнее обычного.
– Да-а, – сказала она, комично наморщив лоб, и мизинцем почесала кончик носа. – К этому разговору мы с тобой ещё вернёмся. Ну, вот что, Алёшка! Мне, в общем, ясно, что ты собой представляешь. И я берусь за тебя всерьёз. Ты, конечно, знаешь…
В гостиную снова вбежала Мура-Муся.
Алёшка теперь смотрел на Олькину мать с любопытством и сочувствием. К его удивлению, Мура-Муся была настроена мирно. Она вошла с согнутыми и по локоть оголёнными руками, как будто только что оторвалась от дела и теперь искала другой достойной работы. Но работы в гостиной она не нашла, только ещё раз поправила бумажные розы в вазе и застыла над столом. Вдруг она встрепенулась и воскликнула:
– Дети мои! А вы знаете, что сегодня мы едем в кино-о-о…
Растягивая, почти напевая заключительное «о-о-о», она вскинула руки и громко хлопнула в ладоши и тут же, быстро-быстро потирая ладонями одна о другую, ласково и хитро улыбнулась Ольке и Алёшке:
– Как, дети, вы согласны?
– Разумеется, – спокойно сказала Олька, и Алёшка заметил, как углы её пухлых, будто сонных губ дрогнули в снисходительной улыбке.
2
Гости отобедали и теперь разбрелись по комнатам.
Каждый старался найти занятие, хоть в какой-то мере близкое к своему неясному послеобеденному настроению.
В гостиной за круглым столом разместился пожилой малоподвижный народ «посражаться в картишки», по правую руку каждого легли, отсвечивая медью и серебром, горстки мелочи.
Внимание женщин Мария Васильевна привлекла к распухшему от фотографий семейному альбому. Надо сказать, этой всем знакомой семейной реликвии, обтянутой потёртым синим плюшем, на этот раз оказано было особое внимание. Дружный восторг женщин обратился к фотографиям Елены Васильевны, каждую фотографию обсуждали, на каждой Елену Васильевну хвалили, хвалили даже на снимке, на котором она была существом ещё довольно неопределённым с голенькими задранными ногами и круглыми испуганными глазами.
Альбом шествовал из рук в руки вокруг смущённой Елены Васильевны, и, запечатлённое чудом XX века, её мечтательное и наивное, её милое девичество проходило перед ней.
В низких креслах и на старинных тяжёлых стульях, принесённых из столовой, разместились любители пофилософствовать. Говорили про коварных японцев и бои на Халхин-Голе, о немцах, о Гитлере, о назревающей в Европе войне, говорили с таким ленивым спокойствием, как говорят о далёких марсианах, которые могут быть, а могут и не быть. По крайней мере, если и могут быть, то уж никак не появятся в этой гостиной, в этом старинном большом доме на Басковом – тихом ленинградском переулке.
Олька не отпускала Алёшку, таскала за собой по гостиной и с удовольствием представляла гостям.
– Это – Алёшка, мой брат, Ленушин сын! – говорила Олька и улыбалась во всё лицо.
Мужчины, мало знакомые Алёшке или совсем незнакомые, пожимали ему руку и все одинаково говорили:
– Вымахал-то как! Молодец! – и дружески похлопывали по плечу.
Женщины не похлопывали его и не пожимали рук. Они с видимой досадой прекращали разговоры, лица их вытягивались в вежливых улыбках. Узнав, что перед ними сын их милой Ленушки, они оживлялись и начинали внимательнее разглядывать Алёшку.
– Нос вылитый Ленушкин! Видите – даже горбиночка её!
– И губы. У Ленушки прекрасный рот!
– Похож! Только верхняя губа подкачала – припухла. Но это пройдёт с возрастом!.. Ну-ка, улыбнись, Алёша. Ну, улыбнись же! Покажи свои губы… – Тётка, родные, двоюродные и троюродные, досаждали Алёшке много больше мужчин.
Олька представила Алёшку всем, кто был в гостиной. И теперь явно не знала, куда деть молчаливого и стеснительного брата. Она усадила Алёшку на стул, рядом с мирно беседующими старичками, и куда-то исчезла.
Алёшка послушал говор старичков, но их послеобеденная философия его не увлекла. Он встал и прошёл через столовую и длинный коридор к бабушке. Бабушка мыла посуду. Среди грязных тарелок, стаканов с мутными остатками чая и продавленными кружками лимонов, среди захватанных рюмок, ножей и вилок – всех этих тяжких следов домашнего веселья – она была как одинокий воин на покинутом бранном поле. Алёшка молча снял с бабушкиного плеча полотенце и стал вытирать мытые тарелки.
Бабушку Катю тронуло внимание внука, она мокрой рукой привлекла Алёшку к себе, поцеловала в лоб. За последние годы бабушка раздалась вширь, отяжелела. Располневшая грудь почти подпирала её провисший подбородок, и ноги долго не выдерживали – всё чаще она садилась на табурет и работу доделывала сидя.
Никогда никому не призналась бы Екатерина Ивановна, что судьба её не задалась. Не ей гневить всевышнего. Что отпущено, то прожито; что надо, то нажито. Другого не будет, как не будет другого мужа и другой жизни. На восемнадцатом году, единожды и навсегда, она доверилась Василию, своему же деревенскому парню. С ним и ушла, безропотно собралась и ушла из села, когда Василий пораскинул своим рассудительным умом и сказал ей, что здесь, в Знаменке, им в люди не выбиться и должны они перебраться в Питер. С того дня и стала она как пуговица, пришитая к его пиджаку.
Судьба как будто, в самом деле, ждала Василия в Питере. Он и в городе не уронил своего грамотейства и к третьему году службы в пароходстве заделался приказчиком, а когда генералу Радзинскому, владельцу большого каменного дома в Басковом переулке, потребовался управляющий, хозяин пароходства порекомендовал генералу Василия. Генерал любил порядок и деньги. Василий порядок навёл и деньги от доходного дома взял. За исполнительную службу генерал пожаловал ему квартиру на втором этаже своего дома и теперь ждал ещё большего усердия, и Василий, верно бы, постарался. Но оказалась революция, и генерал сбежал. Дом остался. Василий рассудил, что хороший дом понадобится и новой власти, и в исправности передал дом Петроградскому Совету рабочих и солдатских депутатов. Его попросили временно исполнять прежние свои обязанности. Он исполнял, сначала временно, потом постоянно. Исполняет и до сих пор. Так закрепились они на Басковом и никакого другого места в Питере не искали. Что касается Екатерины Ивановны, то она и не приметила особой разницы между городской и деревенской жизнью. В крестьянских заботах росла, в таких же заботах пребывала и здесь, разве что за скотиной в городе не ходила. А так, как в деревне – в хозяйской суматохе от света до темна. И всё по дому. Семья, по деревенским понятиям, вроде бы невелика: четыре дочки, самих двое. Так это по деревенским!
Екатерина Ивановна и не заметила, как переменилось её понимание жизни. Вслед за Василием она словно бы приподнялась над своим прошлым и смотрела теперь на деревню и на своих сродственников, потихоньку через них тянувшихся в Питер, свысока. Отказывать никому не отказывала, но принимала без былого радушия. И, когда Василий каждого где-то пристраивал, она по-доброму, с напутствием, но и с облегчением выпроваживала одного за другим в прямо-таки бездонную городскую жизнь.
Потому и дочек она воспитывала не по-деревенски, а как требовал того город.
Городское воспитание оказалось куда как хлопотней и расточительней. И хотя удалось всех дочек выучить, и приодеть, и замуж повыдать, не пришло с этой их житейской удачей ни счастья, ни успокоения. Семья теперь что лес повырубленный. Дочки с корня легко сошли, своим умом зажили. Не так своим, как мужниным. У старших ещё так-сяк: может, не сладко, а по-людски. У младших, у обеих мужья не задались. От Марии, правда, Никола ушёл. И бог с ним, не тот человек, который в семье приживается. Хоть и мастеровитый, а голове собрания да завод… другое горше, что Ленушке, кровиночке ненаглядной, не повезло. Иван-то её замудренный оказался. Нет, чтобы как все! Ведь в Питере, и в Москве у больших дел стоял, на виду был, жили не в бедности. Нет, всё побросал. Как последний голодранец в леса сбежал! Люди из лесов в города едут, а этот из столицы в леса… И терпит, всё терпит доченька, святое терпение у пташки горемычной!..
Екатерина Ивановна мочалкой обмывала в тазу тарелки, с тревогой приглядывалась к внучку, думала: «Мальчонок-то у доченьки вроде добрый, а вот с малолетства непонятный! От отца, видать, замудрился. Не говорун. И плохо, что не говорун, – всё в уме держит…»
С внуком она хотела поговорить, знала, что Алёшка не очень-то расположен к питерской жизни, и вот, бог помог, внук оказался рядом.
– Ты скажи-ка мне, Алёша, – спросила она, – у вас там, в лесах, поди, волки да медведи у домов ходят?
Алёшка засмеялся бабушкиной наивности. Улыбнулась в ответ и Екатерина Ивановна, довольная тем, что внук поверил её наивности.
– Ну, не медведи, так люди, чай, на волков похожи, житья не дают?
– Да нет, люди как люди. Такие же, как здесь, – ответил Алёшка. Он хотел добавить «даже лучше», но смолчал, не хотел обижать бабушку.
– Ну, а отец-то твой, как он там – не одичал? – Екатерина Ивановна не могла больше хитрить, голос её задрожал. Упираясь обеими руками в дно таза, она повернула к Алёшке оплывшее, смятое морщинами лицо и, глядя жалкими, беспомощными глазами, запричитала:
– Как же там Ленушка, моя сердечная, с ним уживается! Утащил, ворог, в леса. Из красавицы девку деревенскую сделал! Ей ли печи топить, чугуны таскать… Поослепли вы, не видите: тяжко ей там одной-одинёшенькой. Сгубится, цветик! Алёшенька, внучек мой родной! Пожалей ты свою мать! Брось ты леса чужие! Будешь здесь с Оленькой. Смотри, сколько подружек у неё, – весело, улыбчиво будет! Комнатку тебе отдельную дадим – дедушкину… Алёшенька, пожалей меня, старуху. Ведь Ленушка кровиночка моя, любимица!
Алёшка с трудом поставил тарелку в тарелку. Он не смотрел на бабушку. Тарелку он всё-таки поставил, взял другую, стал вытирать скомканным в кулаке полотенцем.
Бабушка передником отёрла глаза, шумно сморкнулась, загремела в тазу посудой. Но руки её, как живые рыбины, вывалились из таза.
– Алёша, – попросила она, задыхаясь, – подай-ка табурет…
Алёшка подвинул табурет, бабушка грузно села. Отдышавшись, снова запустила побелевшие руки в таз.
Алёшка быстро и молча вытирал тарелки. Ему хотелось закончить работу и уйти.
Мягкие шаги прошелестели по коридору, в кухню вбежала Олька. Увидела Алёшку с полотенцем в руках, остановилась в изумлении.
– Боже! Какая идиллия! – крикнула она. – Шестнадцатилетний мужчина овладевает основами домашнего хозяйства! Прелестно!.. Бабушка, – сказала она с укором, – и тебе не стыдно отрывать человека от гостей?!
Подсунув своё оживлённое личико к Алёшкиному уху, она азартно шепнула:
– Наденька пришла. Идём…
Стащив с его плеча полотенце, подвела Алёшу к умывальнику, заставила вымыть руки душистым мылом, тщательно вытереться и причесаться. Подхватив Алёшку под руку, Олька потащила его через кухню в коридор, крикнула на ходу:
– Алёшку, бабуся, надо воспитывать, пока он здесь! Верно ведь?! – и, подмигнув Алёшке, засмеялась.
Олька приложила палец к губам, тихонько подтолкнула Алёшку в гостиную.
В гостиной всё изменилось: гости разместились полукругом на диване, креслах и стульях. И в центре этого полукруга и молчаливого внимания гостей была Елена Васильевна. Она сидела за пианино, на круглом винтовом стуле, выпрямив спину и чуть отставив локти, и бережно играла.
Олька оставила Алёшку у двери, сама пригнулась мягко, по-кошачьи, пробралась в дальний угол к Наде.
Надя сидела, как будто отдыхая и слушая вместе со всеми музыку, но лицо её вспыхнуло, когда он вошёл, и Алёшка догадался, что Наденька ждала его.
Алёшка смотрел на Надю и не чувствовал радости от того, что она пришла. Наденька, та быстрая тоненькая девочка с коротко стриженными волосами, с которой он играл в мяч и казаков-разбойников, вместе пробирался по захламлённым страшным подвалам и чердакам, открывая тайны большого старинного дома, которой он покупал мороженое и на которую неотрывно, часами, смотрел в полутёмных парадных, куда зимой набивалась ребятня погреться и послушать страшные рассказы, – та девочка Наденька ушла из его жизни и, наверное, навсегда. Это он понял вчера, когда Олька, помня об отроческом его увлечении, затащила его в гости.







