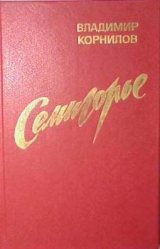
Текст книги "Семигорье"
Автор книги: Владимир Корнилов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 30 страниц)
Теперь, на пустынной набережной, он мысленно вглядывался в скопище чёрных флажков на карте, и казалось ему в тревожном его видении, что не карта – сама Европа вспухает чёрными, грозными флагами войны.
Алёшка отвёл глаза от реки, в беспокойстве пошёл вдоль набережной, как будто ему надо было незамедлительно что-то делать. Он шёл и думал, стараясь успокоить себя: «Но почему – тревога? – думал он. – Сразу и тревога?! Так ли всё это страшно? Ведь это в Европе – там чёрные флаги! Враги – там, они торгуются и дерутся. А мы – у себя, мы в силе, мы в спокойствии! Кто посмеет полезть на поставленный от моря до моря красный заслон? Ну-ка?! Случись что – винтовку в руки и пойду! Как все, пойду туда, где будут драться. Если разговор обо мне – я готов!.. Но что за нужда мне или дяде Нике думать о том, что может случиться? Об этом думают другие. Думают наркомы. Думает Сталин! А когда думает Сталин, мне, и дяде Нике, и всем можно не тревожиться и спокойно жить…»
Как всегда в затруднительных случаях жизни, мысль о том, что есть Сталин и все большие заботы лежат на нём, успокоила Алёшку. Он шёл теперь пустой улицей, освещённой висящими на проводах фонарями, с тускло отсвечивающими на брусчатке, остывающими в ночи трамвайными рельсами и, успокоясь за Европу и вообще за всё на свете, возвратился к мыслям, которые его занимали и казались ему действительно важными. И самой важной среди других была мысль о том, что он, наконец, открыл в себе главную свою силу и теперь, шаг за шагом, день за днём, будет выковывать из себя умного, мужественного, сильного и доброго человека, достойного того, кого он мысленно любил и кому с трепетом души поклонялся…
На углу Баскова, в свете уличного фонаря, он увидел Олькину худенькую фигурку. Олька устремилась к нему, как ястребок к добыче, и, встав перед ним, вдруг ледяным голосом спросила:
– Что это значит?.. Если ты не уважаешь нас, постыдился, хотя бы Надьки! Она, как дура, торчала тут два часа! А он, видите ли, пошёл прогуляться, решил освежить свою многодумную голову! Ты не объяснишь, что всё это значит?.. – Олька стояла в непримиримой позе, уперев в бок кулачок.
Алёшка, ещё не остывший от радости своего открытия, рукой охватил протестующую тоненькую Олькину шею и прижал её горевший возмущением лоб к своей щеке:
– Олька! Ты не знаешь… Теперь чёрт знает что я могу!.. А перед Наденькой я готов извиниться. Хоть сейчас!..
– Это уже глупо, – спокойно сказала Олька. – Извиняться будешь завтра… И вообще у меня правило: никого ничего не заставлять.
– Ну, я же сказал, извинюсь!.. – Алёшка для убедительности приложил руку к груди. – Но ты знаешь, до чего я додумался! Я открыл, с чего начинается человек.
– По-моему, он начинается с поцелуя. – Олька невинными глазами смотрела на него из-под низкой чёлочки.
Алёшка засмеялся.
– Ты, Олька, не философ!.. Тревогу слышала? – спросил он.
– Ай! Нас это уже не трогает! – Она с досадой отмахнулась. – Лучше скажи: ты у отца был?
– Был.
– Очень мило! Не вздумай об этом кому-нибудь сказать! Ты и так бросил вызов родичам!.. Ты понял меня? – Олька снизу вверх заглянула ему в глаза, потом взяла за руку и, примиряя с собой, повела к дому.
4
Непривычно молча завтракали в то утро за широким семейным столом. Казалось, одна Мура-Муся не замечала ни тяжёлой задумчивости деда Василия, ни дрожащих рук бабы Кати. Баба Катя уже положила тушёную капусту мимо тарелки, прямо на скатерть, теперь опрокинула солонку. А Мура-Муся, примурлыкивая, приготовила себе еду из молодой картошки, облитой сметаной, свежих разрезанных помидорчиков, огурчиков и колечков лука и теперь с наслаждением ела. Нимало не задевало её то, что старшая Марина разохалась над рассыпанной солью и Ленуша почти не ест и смотрит в свою тарелку, рукой подперев щёку.
Волосы Мура-Муся закрутила на папильотки и повязала попавшей под руку салфеткой, жиденькие брови не успела подчернить, и подслюнявленные их волосики прилипли и почти не выделялись на её безмятежно-гладком лице. Вообще сейчас, в тугих папильотках, укрытых под салфеткой, с заострённым подбородком и выпуклыми глазами, она напоминала милую беломордую тёлочку, с удовольствием жующую сочную траву.
Она положила в пустую тарелку уже ненужную вилку, пальцем аккуратно сняла сметану с губ и только тут с удивлением заметила, что Алёша исчез из-за стола, а домашние молчат и понуры, как будто всех вот так, рядком, опустили в воду.
– Что это вы? Как на похоронах! – воскликнула Мура-Муся и перевела изумлённо-смешливый взгляд красивых глаз со старшей сестры Марины на бабу Катю. Никто не удивился тому, что сказала Мура-Муся. И Олька не удивилась – она, как и все, знала, что её мама сначала говорит, потом думает. Только баба Катя в сердцах сдвинула тарелку, сердито выговорила:
– Замолола, мельница!
– А что такое? – удивилась Мура-Муся. – А, понятно! – Она, наконец, вспомнила, что Ленуша получила от Ивана Петровича какое-то письмо и теперь должна была незамедлительно и определённо ответить. Пухлыми пальчиками теребя плечико лёгкого халата, распахнутого до глубокой ложбинки на пышной груди, она сказала:
– Ну и что? Я не понимаю, до какого времени можно тянуть с решением?! Ленуше пора устраиваться с работой и так далее… Тут ещё прописка и всё такое. И вообще!.. На носу сентябрь, кому-то надо сходить с Алёшкиным в школу. Я не знаю, как там с девятым классом? Оля! Да Олька же! Ты узнавала?..
– Разумеется! – подчёркнуто спокойно ответила Олька. – С завучем я договорилась.
Она сидела на своём почётном месте, на середине стола, и смотрела на всех, сидящих в столовой, взглядом смешливым, как у матери, и лукавым.
Бабушка Катя спиной грузно опёрлась на буфет, упрятала руки под фартук и с тревогой неотрывно глядела на свою кровиночку Лену, сейчас молчаливую, сосредоточенную и замкнутую.
– Нут-ко, Мария! – баба Катя говорила, придыхая на каждом слове, и всё глядела на Елену Васильевну, стараясь разгадать её настроение. – И чего баламутишь. Ленуше, может, главное – поуспокоиться. Господи! К родному и то ей сызнова привыкать!.. Ишь заторопыжничала. Не блох на загривке ловишь!..
– Ах так? – сказала Мура-Муся. – В таком случае я молчу… – Она оскорблено поджала подбородок, и щёлочка между её губами стала не толще нитки.
– И помолчи! – вконец осердилась баба Катя.
– Мама, Мария говорит дело! Не надо тянуть то, что уже оборвано, – голос Марины Васильевны прозвучал резко, как автомобильный гудок, и все повернули к ней головы.
Старшая сестра не знала проблем. Жизнь, по её понятиям, была определённа и проста, и всё, что нужно для жизни, она имела. Она счастливо жила со своим Александриком в маленькой квартирке этажом выше, где мягкая мебель создавала непроходимый уют. Надо было раз и ещё три раза что-то передвинуть, чтобы пройти от буфета с рюмочками, вазочками и чашечками до огромного платяного шкафа и от платяного шкафа к полированному картёжному столику на двоих. Гостей они с Александриком никогда у себя не принимали, – для этого доставало места внизу, у мамы, – окна в их квартире всегда были полу зашторены, широкая, как деревенская печь, кровать никогда не убиралась и не застилалась покрывалом.
Даже днём кровать манила взбитыми подушками и мягким светом оранжевого ночника.
Единственная проблема, которая волновала старшую сестру Марину, – это «катастрофически», как выражалась она, падающие волосы. Но и эту проблему она сумела почти решить: она старательно подвивала рыжеватые волосы и весьма искусно укладывала их на голове. Если к этому добавить её усердие, с которым она следила за своей, пусть заметно пополневшей, но всё же не потерявшей привлекательности фигурой, и её умение прямо держать спину и короткую шею, то вполне можно было бы согласиться с её мужем Александриком, исполняющим где-то незаметную, но доходную должность по бытработам, что «его Моменция из тех, кто – во!..» – в переводе на житейское просторечие это означало: «На большой палец!»
Итак, своё отношение к возникшему на семейном совете вопросу о судьбе Елены Васильевны высказывала старшая из сестёр – Марина.
– С тем, с чем внутренне кончено, – говорила она, сидя прямо, как на троне, – надо кончать официально. Метаться нечего. Пора смотреть на жизнь трезво и принимать её, как есть. Ясно, захолустье Елену портит. Слава богу, ещё не испортило. Питер и наша постоянная помощь – это единственное, что оживит её вконец истерзанную душу. Принесёт успокоение всем нам. Разумеется, в первую очередь самой Елене. Мы все понимаем, что камень преткновения не в Ленушке. Мы должны убедить Алексея, должны заставить его понять страдания матери. Если он будет упрямиться, нечего перед ним лебезить. Коленкой под зад – и пусть едет к кострам, болотам и прочей отцовской дикости!..
Все увидели: в напряжённо-задумчивом лице Елены Васильевны проступило страдание. Как от холода, она повела плечами, и первой это заметила Олька.
– Мариночка! Так нельзя! – крикнула она, торопясь загладить решительную, как удар плетью, прямоту старшей из тётушек; такая фамильярность Ольке позволялась. – Алёшку обязательно надо уговорить! Деревенщины, дай боже, он уже нахватался. Медведь медведем! И пора делать из него человека. Верно ведь, Ленушка?..
Елена Васильевна вздохнула и слабо кивнула головой. Олька отлично знала слабые места всех своих тётушек и, при случае, точно пользовалась своим преимуществом. Иногда в общих интересах.
– Ты что думаешь об этом, Нюкочка? – спросила она вторую из старших сестёр.
Сестра Анна сидела на низкой скамеечке у окна молча и, не переставая, курила. Время от времени она пальцем стряхивала пепел с папиросы в приоткрытый спичечный коробок. Она была полной противоположностью Марине – сутулые плечи, худое лицо, вислый, заугрюмевший в семейной жизни нос. Печать трагического была в её лице, в глубоких, добрых, печальных глазах. Муж её, Михаил Львович, полный, жизнерадостный еврей, администратор одного из ленинградских театров, был всегда в бегах, и на семейную жизнь у него как-то не хватало времени. В квартиру он обычно влетал как весёлый гость – шутил, смеялся, угощал всех дорогими конфетами и исчезал. И чем подвижнее и жизнерадостнее был Михаил Львович, тем молчаливее и угрюмее становилась Нюка. Горы выкуренных папирос громоздила она в пепельницах, всё больше сутулилась и как будто немела.
Нюка курила, задумчиво смотрела на пепел, собранный в спичечном коробке. Вздохнув, закрыла коробок, голосом сухим и бесстрастным сказала:
– Ленуша во всём разберётся сама. Ваше кудахтанье вряд ли ей поможет. Яйцо-то не ваше!.. – Не поднимая головы, она поднесла папиросу к губам, затянулась и больше не сказала ни слова.
Старшая Марина возмутилась. Округлив и без того круглые глаза, она говорила теперь быстро, как будто никому не хотела позволить себя перебить.
– Что за нравоучения?.. Что за тон?.. Если тебе безразлична судьба Ленуши, молчи! Возьми чистую тряпочку и заткнись! Ленуша в землю зарывает свой талант. Мучается! Не знает покоя, счастья! И ради кого она должна приносить такие жертвы?!
– Действительно! Как будто нам всё равно! – запоздало возмутилась Мура-Муся. – И это говорит сестра! Боже!..
На Нюку, бесстрастно курившую, накинулась бабушка Катя, и все говорили и кричали враз, и в столовой начался такой тарарам, что Елена Васильевна ниже опустила голову и зажала уши.
Дед Василий стоял у стены, скрестив на груди руки, склонив голову, и молча внимал голосам. Он стоял, как само Терпение, как сама Мудрость, и не проронил ни слова, не сделал ни движения, пока говорили все.
Но когда в столовой поднялся шум, пустой, как удары барабана, и дед Василий увидел, что Елена страдальчески сморщилась и закрыла уши руками, он отвалился от стены и голосом тихим и властным, каким когда-то разговаривал с ним генерал, произнёс:
– Все – марш! – Он стоял неподвижно, не убирал с груди скрещенных рук и ждал. Сёстры и баба Катя друг за другом послушно вышли, Олька по-прежнему с независимым видом сидела за столом. Дед ласково, но твёрдо сказал:
– И ты, Оленька, поди…
Олька надула губы, но встала и тихо вышла в гостиную.
Дед Василий подошёл к Елене Васильевне, рукой лёгкой и дрожащей погладил её волосы.
– Привычное, доченька, ломать тяжко. Я это знаю. А всё же бытьё убеждает – разрыв лучше трещины. – Он подвинул себе стул, сел, раскинув колени, рядом с Еленой Васильевной, уже другим тоном, чётким и властным, сказал:
– Вот что, Елена: мыкаться хватит. Жить станешь в Питере. Квартиру, как Марине, схлопочу. Улажу с пропиской. Изыщу работу рублей на пятьсот – шестьсот. Ну, а мы рядом. Что надо из вещей, возьмёшь у нас. И музыку забирай – нечего Марии попусту горло драть! Муж потребуется – мужа подышу. Такого, что за счастье сочтёт на коленях быть перед тобой. Лёшка школу закончит, ему дело найдём. Либо в институт. Пока я жив, душенька твоя будет покойна и ты обеспечена. Это я обещаю. Как, доченька, договорились?..
Елена Васильевна с трудом разомкнула ссохшиеся в молчании губы.
– Не знаю, папа. С Алёшей надо говорить.
– Надо – так говори! – Дед Василий встал, в раздражении покачал стул, коленкой вдвинул под стол. – Говори да помни, что не ты при нём, он при тебе… Олька! – окликнул дед Василий, как будто был уверен, что внучка не отошла от двери гостиной. Дверь приоткрылась, выплыло, будто полная луна из разрыва туч, улыбающееся Олькино лицо. Невинными блестящими глазами она смотрела на деда.
– Алёшку! – приказал дед Василий. И по квартире, как эхо по морозному лесу, понеслось-покатилось на разные голоса:
– Алёша-а… Алёшкин!.. Алёшку в столову-ую!..
5
– Вот, Алёшенька, пришло время нам с тобой поговорит. Сядь, пожалуйста…
Алёшка, сдерживая дыхание, стараясь унять вдруг заколотившееся сердце, сел и вдруг ощутил, что жизнь повторяется. Всё было, как тогда в Семигорье, когда он вернулся от Феди-Носа, в лугах встретил отца и, войдя в дом, увидел за столом мать. Она сидела в той же сосредоточенности, та же упрямая решимость проступала в её сжатых губах.
Ногтями, утром отманикюренными Мурой-Мусей, она старательно линовала скатерть. Да, всё было, как тогда, и всё было страшнее, чем тогда, перед сложностью того, что могло быть, они отступили. Теперь отступать было некуда. Разговор, который по взаимному согласию они отложили «на потом», должен был состояться сейчас, здесь, за широким, ещё не убранным после завтрака столом. Алёшка не хотел этого разговора. Но на Басковом с первого дня всё шло помимо его желаний. И боль под ложечкой, похожую на сосущую голодную боль, которую сейчас он испытывал в ожидании новых душевных страданий, он переносил с трудом.
– Алёшенька! – мамины пальцы нащупали вилку и прижали к столу. – Ты почти уже взрослый, ты многое видишь. Я никогда не говорила с тобой о себе. Терпела, ждала, когда ты вырастешь и сумеешь сам разобраться в жизни нашей семьи. Больше я не могу. И терпению, и молчанию – всему есть конец. Ты знаешь, я люблю Ленинград. Всё лучшее в моей жизни связано с этим городом. Здесь родился ты… В глушь, в лесную дикость, я поехала, чтобы не лишить тебя отца. Я надеялась, что Иван Петрович одумается. Но теперь вижу: ждать бесполезно. Несносный характер гонит отца всё дальше от города. Я тупею у печи, горшков. Я растеряла даже то немногое, что урывками приобретала в эти тяжкие для меня годы. Я хотела житейского постоянства, хотела дела, которое приносило бы мне не только хлеб, но и радость. Много я отдала твоему отцу, ты даже не знаешь, как много! Если бы всё это я отдала тебе! Я мечтала дать тебе другое воспитание. Старалась, чтобы ты знал, любил музыку. Ты забыл, а в этой вот комнате я повыше вывёртывала стул, сажала тебя, крохотулю, за пианино. Разве позволила бы я тебе бросить музыкальную школу, если бы отец не сорвался с места и не увёз нас?.. В Москве я изучила французский язык, чтобы учить тебя. Но ты заразился отцовской дикостью. А мне так хотелось, чтобы ты был воспитан и заметен в любом обществе! Ты от природы одарён, Алёша, это я знаю так же твёрдо, как то, что ты мой сын. Ты и сейчас талантлив умом. Тебе просто необходимо подумать о своём будущем. Даже Ломоносов покинул свои Холмогоры. Великим он стал в Петербурге! А мы? Сидим в Семигорье и слушаем по ночам волчий вой… Моя жизнь, в общем-то, прожита, Алёшенька. Но что не смогла я, должен сделать ты. В этом последнее моё утешение, в этом моё ещё возможное счастье…
Елена Васильевна замолчала, вилка в её руке, которой она чертила скатерть, вдруг задрожала. Алёшка видел, как, останавливая дрожь руки, она медленно и упрямо вдавливает в скатерть остриё вилки, и почувствовал, что сейчас мама скажет то, к чему так долго готовилась. Он отстранился от стола и, напрягаясь, сжал пальцами свои колени.
– Алёша! – голос мамы прозвучал сразу глухо и гулко, вилка под напором её руки вспорола скатерть. Но мама уже ничего не замечала. – Алёша! – сказала она. – Я решила остаться в Ленинграде. И прошу тебя – умоляю остаться со мной…
Алёшка ждал этих слов, но никогда не думал, что слова могут быть так тяжелы. Он смотрел на чёрное пятно на месте разорванной скатерти и с ужасом видел, как чернеет весь ослепительно белый стол. Над чернотой стола белым пятном просвечивало неживое лицо матери.
Медленно отхлынула чернота. Алёшка увидел отца, таким, каким он был в день, когда провожал их в Ленинград: посиневшее от холода лицо с небритым в тот день подбородком, надвинутая на лоб мокрая фуражка, забрызганные дождём очки и – прощание в вагоне, неловкое, поспешное.
Отец сказал в одну из прогулок по вечернему посёлку: «Не надейся на уговоры, Алёша, если близкий тебе человек уходит. Правоту доказывает время. Время и ещё, пожалуй, тот духовный след, который от человека остаётся. Люди – ты это помни – связаны друг с другом не крышей над головой, а своей духовностью…»
Отец знал, что говорил, он предугадывал эту роковую для их семьи минуту. До щемящей боли Алёшка чувствовал сейчас, как неотрывно от него то, что там, за спиной отца – посёлок, Волга, лес, Семигорье и сам отец, неуклюже-ласковый, всегда какой-то неустроенный, одержимый идеями и работой, больше усталый и замкнутый, чем внимательный, и всё-таки – отец… Алёшка, не поднимая глаз, тихо спросил:
– А папа? – и опять почувствовал, как жизнь точно повторила то, что было там, в Семигорье, в канун этой трудной и ненужной поездки в Ленинград. «Сейчас мама заплачет…» – подумал Алёшка.
Но мама не заплакала. Она горько усмехнулась, как будто ожидала и готова была услышать именно эти его слова.
– Он может приехать в Ленинград, – сказала она до удивления спокойно. – Если ты останешься со мной, он приедет. Если он отец, он приедет, – повторила она упрямо и в первый раз за время разговора посмотрела на Алёшку; в её глазах было печальное торжество.
«Нет, папа не приедет, – думал Алёшка. – Даже если мы останемся в Ленинграде, папа не приедет. Он не бросит работу. Он может выть по ночам от тоски и одиночества, но работу он не оставит, потому что долг для него выше всего другого. Он такой, отец. Мама сейчас не добра и ставит отца перед жестоким выбором…»
И почему обязательно Ленинград? Семигорье чем хуже?.. Дядя Ника прав: они будут жить на Басковом, и очень может быть, что его закрутит Олька со своими подругами – при Олькиной настойчивости он вполне может оказаться в той весёлой лодке, которая с такой беззаботностью проплыла перед ним. Всего вероятнее, случится другое: он не выдержит жизни на Басковом и уйдёт за дядей Никой. В том и другом случае он всё равно не осуществит маминого желания…
– Прости меня, мама, – тихо сказал Алёшка. – Но я не понимаю, почему нельзя стать человеком в Семигорье?
В глазах Елены Васильевны потухло печальное торжество.
– Ты хочешь остаться там?.. – упавшим голосом спросила она.
– Да, мама. Мне трудно объяснить. Но я хочу в Семигорье.
Голова Елены Васильевны склонилась, напрягся и побелел тонкий, с лёгкой горбинкой нос, задрожал подбородок.
– Ты убиваешь меня, Алёша, – сказала она едва слышно. – Ты убиваешь меня… Пойми, мой мальчик, я не боюсь работы. Я свернула бы горы, чтобы устроить твою жизнь. Одна я не могу. Чтобы жить, мне нужен ты…
Алёшка не мог видеть страдания матери. Он поднялся, неловко шагнул к Елене Васильевне, охватил её голову, прижался к её мягким, таким родным сейчас волосам.
– Не надо… Не надо, мамочка… – бормотал он в горестном исступлении. – Ты не одна… Горя не надо. Никому… Мы вернёмся, ты будешь работать. Ты будешь счастлива, мамочка…
Он обнимал её, лицом прижимался к её волосам и чувствовал, как вздрагивают её плечи. Елена Васильевна долго и молча плакала, пряча лицо в Алёшкины руки, потом попросила платок, тщательно вытерла глаза, щёки, нос, сказала:
– Когда-то мне, молодой, гадала цыганка. Сказала: «Пяти минут тебе не хватит до счастья, красивая!» Наверное, права была та цыганка?.. Она смотрела на Алёшку покрасневшими влажными глазами…
Дверь приоткрылась. Алёшка увидел в щели испуганно-вопрошающие глаза Ольки и, радуясь тому, что мама успокоилась, кивнул ей ободряюще. Лицо Ольки вмиг расцвело, она распахнула дверь, и понёсся по многокомнатной басковской квартире её ликующий голос:
– Мама, Мома, Нюка, баба, деда! Я же говорила! Они остаются!..







