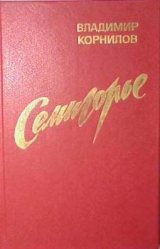
Текст книги "Семигорье"
Автор книги: Владимир Корнилов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 30 страниц)
ИВАН ПЕТРОВИЧ
1
Сковорода на керосинке нагрелась, масло поползло к краю, Иван Петрович быстро накрошил варёной картошки, бросил щепоть соли, ножом перемешал. Когда картошка запарила и чуть подрумянилась, он полотенцем прихватил горячую сковороду, перенёс на стол, почти уронил на газету. Помахал обожжёнными пальцами, пристроил на керосинку чайник, сел на табурет к столу, начал, торопясь, как всё делал, есть.
Ужин его теперь состоял из этого до предела упрощённого блюда, в завтрак он обходился чаем, обедать ходил в местную столовую, недавно открытую в старом леспромхозовском посёлке.
В посёлок он ходил по деревянному мосту через речку Чернушку, вдоль пруда, на берегу которого стояло белое здание электростанции с длинной чёрной железной трубой.
Вообще, с тех пор как уехали Елена Васильевна и Алёшка, Иван Петрович старался меньше бывать дома. Дни до сумерек он проводил на строительной площадке, где развёртывался запроектированный ещё там, в Москве, комплекс техникума на 400 мест. И хотя строительство учебного корпуса завершилось, в аудиториях уже мыли окна, расставляли столы и скамьи, и на двухэтажном корпусе первого общежития крыли крышу, а на втором общежитии ставили стропила, и уже заселили три жилых дома семьями прибывших преподавателей, – это было начало, только начало, потому что то, что предстояло довершить за оставшийся месяц по строительству, комплектованию, набору студентов, по тем коварным мелочам, которые – он знал это по опыту – обнаруживают себя почему-то именно в заключительный, предпусковой период, требовало его глаз, настойчивости, разумения, гибкости, душевной энергии не меньше, чем вся проделанная работа. И в этом наступившем рабочем пике Иван Петрович крутился с утра до ночи и рад был крутиться, как только мог быть рад чему-то в теперешнем своём душевном состоянии. Делам он отдавался до физического отупения, до того предела физических сил, когда только добраться до койки и лечь и уже ни о чём не думать.
Случившийся отъезд жены и сына был для Ивана Петровича чем-то вроде бомбы замедленного действия. Он знал, что бомба упала, что до какого-то времени ещё будет длиться тишина. Не та тишина, от которой идёт спокойствие и радость, а та обманчивая, тревожная тишина, вслед за которой вспыхивает убивающий огонь взрыва. Механизм может не сработать. Но может с бесчувственностью металла довершить то, что в нём было заложено до того, как бомба упала. Тогда – взрыв, и взрыв начисто разметёт то, что было семьёй, что казалось надёжным, согревало и по-своему радовало, давало ему сил работать без оглядки, с той одержимостью, с которой он всегда работал. То, что бомба может взорваться, он почувствовал по настроению Елены Васильевны. Её упорная замкнутость, которая появилась ещё в Москве с того самого часа, когда он сказал ей, что они едут в Семигорье, и сдержанность, с которой она попрощалась с ним в вагоне поезда, оставляли мало надежд на то, что она вернётся и позволит вернуться Алёшке.
Правда, они не взяли с собой многое из того, что должны были бы в таком случае взять, но что вещи! – вещи никогда не имели решающего значения в их жизни. У Елены Васильевны, при всей её молчаливой уступчивости, упрямый характер, она может быть каменно тверда, и если она решила, вряд ли остановит себя. Скорее всего, он получит письмо. Оно и будет тем взрывом, после которого их семья, которая ладно или неладно, но устраивалась шестнадцать лет и так, наверное, и не устроилась как следует быть, перестанет существовать.
Всё это Иван Петрович скорее чувствовал. Чем сознавал. Где-то в неясной глубине подсознания осело это пугающее его ожидание одиночества, но думать об этом, готовить себя к этому он себе не позволял. Было слишком трудно думать об этом и, может быть, – он надеялся на это – не так необходимо. Он всегда торопился, всегда опережал ход событий своим неудержимым воображением. Теперь, может быть, в первый раз за свою жизнь, он не позволял себе заглядывать в своё завтра, он всё предоставил времени и терпению. «Собрать силы и ждать, – так сказал он себе. – Работать и заставить себя забыть, что где-то рядом лежит бомба. Пока так…»
Иван Петрович отнёс пустую сковороду на холодную плиту, прибавил огня в керосинке. «Горячий крепкий чаёк – это хорошо, – подумал он, ополаскивая давно не мытую чашку. – Это целых десять, а если растянуть пятнадцать минут наслаждения!..»
В этот поздний час он не ожидал, что кто-то может к нему зайти. И удивился, и растерялся, когда через порог в кухню перешагнул несколько смущённый завхоз Маликов и следом, выше головы Маликова, показалось худое, с высокими скулами и побритыми с боков усами лицо Ивана Митрофановича Обухова, головы семигорской сельской власти. Впалые щёки, выпирающие скулы, усмешливая нижняя губа под жёсткими встопорщенными усами и пронзительный взгляд глубоко запавших глаз придавали ему вид настороженный и к себе не располагающий. Но Иван Петрович успел узнать Обухова, его разумную внимательность ко всему, что было на семигорской земле и вокруг, и в деловых отношениях с ним переступал через его крестьянскую настороженность и обращался непосредственно к его спокойному и рассудительному уму.
Со своей стороны, Обухов тоже понял природу видимой колючести в характере нового соседа, и с директором, осевшим со своим поселением почти на самом краю Семигорья, говорил как с человеком дела, и только дела. По неторопливому наблюдению Ивана Митрофановича дело ставилось директором Поляниным выше собственного благополучия и выше всех прочих интересов, в том числе и семейных, и это вызывало у него не только сочувствие, но и бережное уважение к приезжему человеку.
И сейчас, когда Иван Петрович усадил их за стол, налил им по кружке крепкого чая и неловким извиняющимся жестом придвинул нарезанный неровными ломтями хлеб и наколотый в блюдце сахар, и, заметно смущаясь своего холостяцкого положения, которое нетрудно было видеть по запущенности домашнего хозяйства, тоже сел с ними и стал, обжигаясь, первым пить чай из блюдечка, Иван Митрофанович подумал, что говорить с директором даже за чашкой чая надо прямо, и только о деле.
Завхоз техникума Маликов, бывший семигорский мужик, какими-то обходными путями ушедший с земли и осевший в старом леспромхозовском посёлке и теперь всем представляющий себя так: «Считай, мы с директором полные тёзки», опередил намерение Ивана Митрофановича самому начать разговор. Стрельнув подвижными глазками в своего директора и наклонившись, будто собираясь привстать с табурета, он поспешным говорком сказал:
– Вы давеча сказывали обговорить с Иваном Митрофановичем насчёт подмоги плотниками и лошадьми. Так я, в общем и целом, сговорил бригаду. А вот они сами захотели с вами свидеться. Час, правда что, не совсем удобный. Но вот Иван Митрофанович настояли…
Иван Петрович ощутил разлившееся внутри блаженство от выпитого горячего чая, и ему уже не было не по душе вторжение нежданных гостей. Он налил себе ещё чаю и вопросительно поглядел на Ивана Митрофановича.
Иван Митрофанович усмехнулся заискивающему тону Маликова, отвечая на вопросительный взгляд Ивана Петровича, сказал:
– Плотников ещё одну артель соберём. И с десяток лошадей дадим на вывозку. Народ понимает. Что не чужих детей учить будете, и к вашему строительству расположен. Не в обмен на помощь, Иван Петрович, а пришёл к вам с докукой. Ежели откликнитесь, семигорцы рады будут и благодарны. Ежели не найдёте возможным, не нам осуждать. Я про электрическую вашу станцию…
Из-под торчащих, будто осока на кочках, полужёлтых-полуседых бровей Иван Митрофанович посмотрел на Ивана Петровича, стараясь угадать настроение директора, но, кроме внимательного и вопросительного выражения в его глазах, пока ничего не увидел.
– Темно живём, Иван Петрович! Света в избы хотим! Вот и просим вас поделиться тем, что в свои дома не унесёте.
Теперь уже брови Ивана Петровича, высоко поднятые над тонкой металлической оправой очков, выражали удивление.
– Не загадку говорю! Достойно всё могло бы получиться. Объясню?
Иван Петрович кивнул. Обухов достал из кармана бумажку, аккуратно заполненную цифрами, развернул, но говорил, в неё не заглядывая:
– Суть такова. Старый локомобиль, что стоит у вас на станции, в пятьдесят сил. Динамка, что он крутит, выдаёт тридцать пять киловатт электричества. Старый леспромхозовский посёлок вместе с лесопилкой потребляет двадцать пять. Десять у вас и сейчас в захоронке, и десяти на ваше новое техникумовское поселение недостаёт. Вам, как мне высчитали городские электрики, для всех ваших нужд надобно двадцать киловатт. И вы уже устанавливаете на станции второй локомобиль, по мощности такой же, как прежний. Значит, всего вырабатывать будете семьдесят, потреблять сорок пять.
Двадцать пять киловатт положите на полочку, и лежать они будут, как в масленой тряпочке негожий для нынешнего сезона инструмент. Нам же, чтобы светом оживить дома и фермы, надобно всего двадцать – двадцать один киловатт. Вот оно как выходит, Иван Петрович. Рукавица сама просится на руку!
Иван Петрович поправил на носу очки, достал платок, сдержанно покашлял, что не было добрым признаком, – так вёл себя Иван Петрович, когда чувствовал необходимость отказать человеку в его просьбе. Иван Митрофанович это понял и ладонью крепко потёр свой лоб, как будто прогонял возникшую неловкость.
– Знаю, Иван Петрович, на чём сосредоточились ваши думы, – сказал он. – Я тоже, прежде чем к вам пойти, не одну ночь проворочался. С разумными людьми советовался, где только они есть. В мыслях не держу вас подвести, наперёд себя под удар подставлю. И вы, и я, и вот товарищ Маликов – все мы знаем, что подсоединять сёла к государственным электростанциям запрещено. Есть такое постановление, и горькую его необходимость мы тоже понимаем. Электричеством пока что не разбогатели, а заводам без электричества хода нет, городам жизни нет. Мы это понимаем, как понимаем и то, что деревня пока что на керосине да на поте своём проживёт и страну прокормит. Но, Иван Петрович, дорогой наш человек, вверху вы работали, не можете не знать, что ни законом, ни постановлением не прозришь, не ухватишь того, что есть в живой жизни! Основу, на которой стоит наше государство, сам не преступлю и другому не позволю. Но живое дело надобно решать по-живому! Случай, о котором толкуем, не содержит ущерба ни индустрии нашей, ни государству. Лишек, что захоронится где-то во внутренностях вашей электростанции, мы хотим обратить на благо семигорских жителей. Такое решение не могу считать нарушением закона. Не могу, Иван Петрович, хоть я представляю на селе Советскую власть.
Иван Петрович уже понял суть и возможные последствия того, что замыслил семигорский голова. Он смотрел на впалую грудь Ивана Митрофановича, худоба которого угадывалась даже под свободной, застёгнутой на все пуговицы рубашкой, и, охваченный первыми непосредственными, недобрыми чувствами, думал: «Жук, ну и жук! А умён. Умён, семигорский мужичок! Тянет, как занузданную лошадь: поди-ка вот сюда, да постой-ка тут на виду, да покусай удила! Не хочу я быть лошадью, дорогой Иван Митрофанович, ни взнузданной, ни дикой! Надо мной и над тобой один закон, и на мне ты закон не объедешь. Жук. Ну, жук!..
– А почему, собственно, жук? – дал обратный ход своим мыслям Иван Петрович. – У него своя забота. Он её не скрывает. В этой заботе – его жизнь. Нащупал благо, старается это благо использовать. Не для себя – для села, для колхоза. А что село само по себе? Такая же частица России, как наш посёлок. Благо, которое Обухов разыскал, – общее благо!..
А шею мне намылят! Если соглашусь, намылят… Как он сказал? «Живое дело надо решать по-живому…» Как будто есть мёртвое дело! Мёртвого нет, а вот буквоедство, от которого живое дело гибнет, есть. Надо думать, этот Иван Митрофанович – тёртый калач и на себе не то ещё испытал! Испытал, мне говорили, что испытал. А голову и руки не спрятал под панцирь, как черепаха. Опять пробивает… Мёртвое – живое… А что значит решать по-живому? В обход закона?.. Нет, не о том. Он идёт от реального, от того, что есть, и от того, что надо. То и другое, он видит, сошлось. Всё остальное для него существенного значения не имеет. А для меня?»
В наркомате дела решались отвлечённее. В миллионах кубов – лес. Лошади – в тысячах. Тракторы – в сотнях. Цифры соотносились с цифрами. И хотя за каждой цифрой стояло реальное, нужное государству и народу дело, всё же знак на бумаге легко было перечеркнуть, на место перечёркнутого поставить новый. А здесь? Здесь у каждой цифры – лицо, судьба, знакомый тебе живой человек. Ты изменяешь цифру и знаешь, как, переставленная тобой, она завтра отразится на судьбе конюха Василия, шофёра Перескокова, преподавателя Скаруцкого. Здесь каждая цифра имеет живое лицо!..
Иван Митрофанович не выдержал затянувшегося молчания, вместе с табуретом придвинулся ближе к столу, с доверительностью близкого человека заговорил:
– Хочу вот что сказать, Иван Петрович. Я понимаю трудность вашего раздумья. Только вчера говорил в райкоме с товарищем Симанковым. Дело он понимает, одобряет. Слово его, понятно, много весит, и плечи у него, как говорится, широкие. Но… ответственность за такое дело он на себя не берёт. Он прямо предупредил и велел вам сказать про то. Вы хозяин запасных киловатт. Вашим решением должно всё состояться. Шаг, прямо скажу, рискованный, но человечный – за короткий срок мы продвинемся вперёд в условиях нашей жизни. Восемьдесят дворов и четыре фермы получат свет, свет Ильича. А что это значит – вы, как большевик, понимаете.
– Мы всей артелью будем вас защищать, но наперёд сами подумайте. Вам худого не хочу, но добра своему селу желаю. И это для меня сильнее, чем всё другое. Ежели б я мог взять ответственность на себя, я бы взял. Но отвечать вам. Вам и решать…
Иван Петрович потянулся за чайником, налил себе чаю, хлебнул, чай был слишком крут, он поставил чашку на стол. Он понимал, на какую горячую точку поставил его Обухов.
Если бы Иван Митрофанович избрал другой ход разговора, обошёл бы острые углы задуманного им дела и освещение села электричеством представил как некую сокрытую от прочих сделку, обоюдовыгодную для колхоза и техникума, Иван Петрович спокойно и твёрдо отказал бы голове семигорской власти. Его не остановило бы то, что, не уважив просьбы семигорцев, он создал бы себе и строительству много новых, едва ли одолимых хозяйственных трудностей. Наверное, не только хозяйственных.
Но Иван Митрофанович разговаривал с ним на пределе откровенности. И то, что оба они понимали возможность этого действительно нужного для многих людей дела, понимали и щекотливость его, и возможные для Ивана Петровича последствия – весьма неприятные, если кто-то задумает дать его действиям строго принципиальную оценку без вхождения в суть содеянного, – всё это вместе взятое задержало обычно стремительный ход мыслей Ивана Петровича. Он не высказал того, что уже готов был высказать, что в таких случаях высказывал всегда, и теперь обдумывал честную просьбу Ивана Митрофановича.
В том, что предлагал Иван Митрофанович, государственные интересы не затрагивались. Суть была в другом: достанет ли у Ивана Петровича силы взять на себя ответственность и решить дело не по форме, а по существу. Именно на эту горячую точку поставил его Иван Митрофанович, и в этом был виден корень вопроса.
«Решать мне, – думал он. – Мне отвечать. Это ясно как день. Но, в конце концов, общая польза и радость многих людей, наверное, стоят моего беспокойства!..»
Иван Петрович взял чашку, глотнул уже остывшего чая, сказал, хмурясь на свою доброту:
– Я попрошу инженера проверить ваши расчёты. Если резерв действительно есть, мы его отдадим. Но заметьте: нам предстоит ещё строить!
– Иван Петрович! Убедиться, понятно, надо. Но мы, как муравьи, всё облазили. И с инженером вашим толковали. У вас останется в запасе сверх всего ещё четыре киловатта. С лихвой на будущее, по крайности, на ближайшее будущее!
Глубоко запавшие глаза Ивана Митрофановича излучали тепло и свет. Иван Петрович, чувствуя это, подобревший, думал: «А всё-таки жук ты, Иван Митрофанович. Жук! Уж коли облюбуешь, дереву не устоять!..»
Всем троим было ясно, что дело завершилось согласием.
Завхоз Маликов, всё долгое время разговора сидевший молча и с опущенной головой, оживился.
– Может, по такому случаю за бутылочкой сбегать? – спросил он. Маликов старательно удерживал взгляд на подбородке Ивана Петровича и почёсывал щёку. – У меня есть припасённая…
– Оставьте свои замашки, Маликов! – рассердился Иван Петрович и в раздражении передвинул кружку.
Вислый нос завхоза уныло понюхал верхнюю губу. Маликов вздохнул, сказал, несогласно качая головой:
– Говорили мне, что вы не потребляете. А зря! Дела вам трудно будет улаживать, Иван Петрович! За бутылочкой-то оно душевнее. Добреют люди. Всё самоходом ладится!..
– Нет уж, увольте от такого самохода… И делу, и горю ясная голова нужна!
– А что, горе какое у вас, Иван Петрович? – с осторожным участием спросил Обухов.
– Горе? У меня?.. Нет, – сказал Иван Петрович и подумал: «Чёрт, как чувствуют люди!..»
Сквозь очки он настороженно смотрел на Ивана Митрофановича и по внимательному, нарочито спокойному взгляду его умных глаз понял, что семигорский голова ведает про его душевную встревоженность. Ведает, и – только сейчас это дошло до Ивана Петровича – поздний его приход к нему в дом вызван не только тем делом, о котором сейчас они говорили. Обухов, видно, знал, что идти к Ивану Петровичу без дела, с простым желанием проведать его в тоскливом одиночестве, бесполезно.
Он всё ещё смотрел на Ивана Петровича внимательно, но без той жалости, которую Иван Петрович не переносил, и, как будто примиряя всё, что было между ними, рассудительно сказал:
– Уладится и без вина.
Иван Петрович понял, что это «уладится» относится не только к делу, которое сейчас у них было, но и к тому деликатному душевному делу, о котором все трое знали, но не говорили.
– Алёшка – парень разумный, – сказал Обухов, – знаю, наши места ему полюбились. Говорил, ни на какие столицы не поменяю…
Иван Петрович понял, что Обухов старается его ободрить, но слова об Алёшке его расстроили. Он неловко и шумно поднялся, прекращая трудный для себя разговор, спросил грубовато:
– От чая почему отказались?
– За делом не до чаю, улыбнулся Иван Митрофанович. – Засиделись, гляжу. Я думаю, всё уладится, – повторил он, как будто вложил в Ивана Петровича свою спокойную веру. – Не посетуете, ежели загляну ещё разок?..
– Милости прошу! – Иван Петрович хотел сказать эти слова с привычной суховатой иронией, а сказал неожиданно тепло. – Заходите!..
Он проводил гостей, задул керосинку. На столе увидел три кружки. Кружки стояли вокруг хлеба и блюдечка с сахаром, как в былые времена, и оттого, что две из них были наполнены чаем и нетронуты, защемило сердце.
Иван Петрович хотел прибрать на столе, но раздумал. Умылся, растёр лицо полотенцем, запер дверь и пошёл в комнату, чувствуя, что сегодня предстоит ему бессонная ночь.
2
Иван Петрович – в который раз! – скинув простыню, поднимался с кровати, шлёпая босыми ногами по полу, шёл в кухню, медленными глотками пил прямо из чайника воду, бродил по дому, прислонялся лбом к стеклу, пытаясь в ночи разглядеть успокоительные звёзды, ложился, и всё начиналось сначала: наваливались неотвязные думы, он ворочался, вздыхал, чёртом поминал Ивана Митрофановича, разбередившего своим неосторожным участием больные места души. Поняв окончательно, что в эту ночь ему не заснуть, он повернулся на спину, лёг повыше на подушку и с покорностью пленного отдал себя на милость бессонницы.
Говорят, в реку невозможно войти дважды. В прожитую жизнь человек возвращается. В бессонные ночи память возвращает нас к прошлому, и всё, что было, повторяется, и с такой пронзительной отчётливостью, что мы заново проживаем дни и годы, заново мечемся, и волнуемся, и лихорадочно обдумываем свои поступки, забывая, что прошлое нам неподвластно.
Раскрытая память возвратила Ивана Петровича назад, в тот августовский день, когда поезд отошёл от высокого людного перрона и годы столичной жизни и трудный последний месяц невероятного нервного напряжения и суеты, связанной с отъездом, остались там, за каменными плечами и острыми башнями Северного вокзала.
В молчаливой темноте опустевшего дома Иван Петрович отчётливо слышал всё убыстряющийся стук колёс, и всё, что было пережито и передумано в дороге, с отчётливостью настоящего развёртывалось перед ним.
… Второй час Иван Петрович Полянин стоял в тамбуре, спиной и затылком ощущая неприятную дрожь вагона.
Поезд всё дальше уходил от Москвы. Паровоз время от времени торопливо свистел, расстилая дым над августовской, не по времени мокрой землёй. За грязным стеклом одна за другой проплывали высокие пригородные платформы, с одинаково зелёными навесами дождя, пустыми в этот ранний час скамейками и редкими неподвижными пассажирами. Иван Петрович отсчитывал знакомые названия: «Мытищи… Тарасовка… Пушкино…» – и напряжённо вспоминал, какая из пригородных платформ на этой дороге последняя. Каждую появляющуюся за стеклом платформу он встречал горькой и настороженной усмешкой. Он ждал, что кто-то, имеющий большую власть, чем расписанное до минут движение железнодорожных составов, остановит вот у такой высокой платформы несущийся поезд, кто-то, имеющий большую власть, чем каждый из людей, едущих в вагоне, подойдёт к нему и все его обиды и усилия, предпринятые наркомом – теперь уже не наркомом, – окажутся напрасными…
Москва давно уже скрылась из глаз, но Иван Петрович всё равно видел её сквозь лес и паровозный дым. Город как будто двигался за ним, громадами домов закрывая небо.
Поезд шёл, не замедляя и не прибавляя хода. Вот он миновал последнюю знакомую платформу с уже редкими, как будто нежилыми дачами. Иван Петрович увидел сплошной, подступающий почти к самой дороге лес, не похожий на пригородный, сдержанно вздохнул. Всё ещё оглушённый известием, которое только что, на вокзале, услышал от старого сослуживца по наркомату, он оторвал спину от подрагивающей стены вагона, прошёлся по тамбуру.
Расстегнув на рубашке две верхних пуговицы и поправив на носу очки, он вошёл в вагон.
Алёшка, боком навалившись на столик, не отрываясь, смотрел в окно, на лес. «Этот рад неожиданной дороге…» – подумал Иван Петрович. Юношески красивая голова сына с копной мягких волос вызвала в нём непривычное желание протянуть руку, погладить сына по упрямой голове. Впервые он подумал, что с Алёшкой он слишком суров: за четырнадцать лет его жизни он, в сущности, ни разу не приласкал его по-отцовски.
Елена Васильевна сидела напротив, в дорожном костюме и чёрной соломенной шляпке без полей, сдавив побелевшими кончиками тонких пальцев лежащую на коленях сумочку. Она как вошла в вагон, опустилась на своё место, так и застыла, устремив в окно отрешённый взгляд. Она как будто не верила, что ехать им день и ночь и ещё почти день, она как будто вошла в трамвай и только на минуту присела на свободную скамью, чтобы на первой же остановке подняться и сойти.
Иван Петрович наблюдал жену, стараясь не потревожить её взглядом. Отчуждённый вид жены добавлял ему горечи. С той ночи, когда он сказал ей, что его переводят из наркомата, что они оставят Москву и уедут на родину деда и отца, в глухой городок России, даже не городок, а село, – с той далёкой ночи не оставляло его странное, пугающее ощущение, что жену он потерял. Собственно, жена и сын рядом, он может коснуться их, сказать им что-то. Сын ответит, наверное, стеснительно улыбнётся. Но жена… Она, конечно, тоже что-то ответит, если он спросит, но улыбки её он не увидит. Она знает, не может не знать, что её улыбка, хотя бы с самым мизерным сочувствием, нужна ему сейчас как никогда, и всё-таки сидит закаменело, без малейшего движения чувств!
Всё началось с той неприятной ночи. Весь вечер он молчал, делал вид, что читает газету или слушает радио. Долго стоял на балконе, тупо глядел на огни медленно успокаивающейся столицы, ждал. Когда Алёшка уйдёт спать. Он готовился объясниться с Еленой Васильевной. Он достаточно откладывал этот разговор, наперёд зная те неприятности и боль, в которых в таком разговоре не избежать. Он с радостью ещё отодвинул бы эти неприятные минуты, вообще ушёл бы от разговоров и объяснений, но откладывать было нельзя, всё уже было решено.
В репродукторе, включенном на едва слышный звук, отзвучал «Интернационал». Иван Петрович подошёл к календарю, хотел сорвать листок и не сорвал: день 5 августа для него ещё не был закончен. Почти всю ночь он убеждал и успокаивал Елену Васильевну. Он знал, что переживает она, и чувствовал себя виноватым. Он пытался говорить о Волге, что-то о родной земле и могиле отца на той земле, о лесах, которые лучше всех городских стадионов укрепят и закалят Алёшку, но видел, что Елена Васильевна его не слышит. Неестественно прямо она сидела за столом, сдавив виски пальцами, и в отчаянье спрашивала:
– Но почему, почему мы должны уехать из Москвы?..
Он сам ещё не вполне понимал необходимость своего нового назначения, неожиданного и равносильного разжалованию в рядовые, и не мог найти нужных слов: он ходил по комнате, чтобы Елена Васильевна не видела его глаз.
– Ты же знаешь: назначение – тот же приказ. Нарком настаивает, – говорил он, стараясь настроить жену на спокойный, рассудительный лад. Но Елена Васильевна как будто разучилась рассуждать: застыв в своей неестественной позе, она повторяла:
– Но сам же нарком пригласил тебя в столицу!.. Ты можешь остаться в Москве!.. Ну, почему не ты, а кто-то распоряжается твоей судьбой?..
Не в первый раз он слышал от неё эти неприятные ему слова и привык гасить их в себе. Он знал: как бы долго ни продолжался их разговор, он, как другие подобные разговоры в прошлом, закончится примирением: Елена Васильевна вздохнёт, потом начнёт собирать вещи, и они уедут туда, где Ивана Петровича ждёт новая работа. Так было всегда. И всегда он относился к её отчаянью как к естественному недомоганию, которое надо превозмочь.
На этот раз он сам был едва ли не в худшем душевном состоянии, чем Елена Васильевна, и выдержки ему хватило ненадолго: он взорвался. Он нервно ходил по комнате и, боясь разбудить Алёшку в соседней комнате, шёпотом кричал, что надо быть абсолютно аполитичным человеком, чтобы не понимать, что такое государственная необходимость.
– Не кто-то, а нарком посылает меня. Значит, так надо, – шептал он, уже не сдерживая себя. – Значит, там моё место. И, в конце концов, важно не где жить, а как жить! Пора, матушка, понять, – в минуты раздражения он почему-то звал её «матушка», – пора понять, в какое время мы живём! Жизнь надо переделывать не только в столице!.. – И, уже обращаясь больше к себе, чем к Елене Васильевне, крикнул: – Пойми, только там, где я строю посёлки и выдаю кубометры леса, я чувствую себя человеком!..
Тогда-то и отяжелел её красивый рот, углы губ опустились и в них, и в полуоткрытых усталых глазах появилось что-то, чего до сих пор Иван Петрович не мог понять. Наверное, только он видел это «что-то» в её тонко и выразительно очерченных губах. Но это «что-то» было – он видел холод глаз и тяжесть вокруг её рта.
– Я же говорила: ты всегда думаешь только о себе… – сказала она с каким-то усталым удовлетворением и рукой прикрыла печальное, отрешённое лицо.
Тягостное ощущение потери Иван Петрович носил в себе до самого отъезда. Он не пытался объясниться с женой: семейное несогласие казалось ему в те дни мелочью сравнительно с теми потрясениями, которые испытывал его оскорблённый ум.
Теперь они в дороге, он вместе с семьёй, но что-то было во всём этом от пирровой победы!..
Иван Петрович сжал свои нетвёрдые губы, спиной и затылком прислонился к равномерно подрагивающей перегородке вагона.
«Ну и духота!» – подумал он. Достал из кармана платок, не отрывая затылка от стены, отёр влажный лоб, шею. Воздух в вагоне был густ и горяч, несмотря на почти осеннюю мокреть за окном. Плацкартный вагон по третьи полки был набит людьми, неприятными запахами потных ног, сохнущей одежды, закисших продуктов, говором, смехом, грохотом колёс. Уже третий час поезд бежал от Москвы, и всё это время Иван Петрович не замечал ни людей, ни тесноты. Теперь вагонное многоголосье навалилось на него, как забытый гвалт московского базара. Он различал голоса, услышал, как на верхней полке кто-то надсадно кашляет, пристанывая и шепча.
В том же отделении, где ехал Иван Петрович с семьёй, на боковом месте расположилась с узлом, корзиной и ребёнком молодая женщина. Потное её лицо измучено. Она успокаивает ребёнка, качает его на руках, качается сама, но ребёнок плачет тягуче, однотонно, и кажется, нет надежды, что он вообще когда-нибудь перестанет плакать. Наверное, он плачет от самой Москвы. Женщина, безнадёжно вздохнув, усталым движением расстегнула кофту и подсунула ребёнку грудь. Она не отвернулась, не закрылась, полная грудь её бесстыдно белела, и каждый, кто в своей бесцельной вагонной ходьбе пролезал узким проходом, задевал колени женщины и смотрел на грудь. Иван Петрович видел лазающих взад-вперёд парней и мужиков и чувствовал неловкость перед женщиной с ребёнком.
Он понимал, что должен уступить женщине своё, более удобное место. Просто по-человечески встать и помочь ей перебраться в уголок. «Но как это сделать?.. Голая грудь. Любопытство Алёшки… Вот уж пошлине деревенская простота! – вдруг раздражился Иван Петрович. – Догадалась бы хоть пелёнкой прикрыть!..»
Он снял очки, нервно протёр стёкла платком. Повертел очки в руках, снова надел. Женщина, приоткрыв широкие, как будто воспалённые губы, исподлобья глядела на него сквозь прядки упавших на глаза волос. Она, видимо, заметила, что Иван Петрович нервничает, и, желая оправдать себя и осудить его, Ивана Петровича, тихо сказала:
– Дитё есть хочет, а они сердются…
Иван Петрович горестно покачал головой: он видел, что женщина не поняла его добрых намерений. «Вот так всегда, – думал он. – Стремишься к добру, а получается…» Он уже опёрся ладонями о скамью, чтобы встать и уступить своё место, но посмотрел на жену, по-прежнему отчуждённо сидевшую напротив и всё так же тонкими пальцами сжимавшую свою чёрную сумочку, и, трезвея, подумал, что Елена Васильевна не одобрит подобную жертву. Он сел глубже на скамью, снова прислонился к вагонной перегородке, закрыл глаза. Стараясь не дать разрастись появившемуся раздражению, подумал: «Елене достаточно того, что она едет в этом, по существу, общем вагоне, с его духотой, гвалтом и назойливостью не в меру любознательных пассажиров!»







