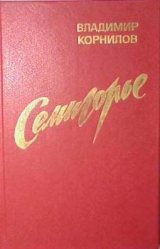
Текст книги "Семигорье"
Автор книги: Владимир Корнилов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 30 страниц)
Бате не понравилась тишина. Он тяжело распрямился, оглядел углы, – смотреть на детей не осиливал, – сказал негромко, будто просил поселения:
– Или места в избе не хватает?..
Голос его дрогнул. Дрогнуло и Васёнкино сердце. Но Витька, от печи глядя на чистые сапожки Капитолины, глухо сказал:
– Чужие нам ни к чему…
Отец не донёс пальцев до бороды. Повернул вбок лицо, смотрел на Васёнку. Васёнка обеспокоенно сдвинула с колен на лавку шитьё. Пошла к Витьке, обняла за неподатливые плечи, тихонько позвала:
– Выйдем-ка…
Витька было заупрямился, Васёнка ласково и настойчиво повела его к двери. У порога оглянулась, и сердце сжалось от дурного чувства: из тени кружевного белого платка смотрели им вслед полуприкрытые пухлыми веками глаза, и в каждом холодно мерцал красный отсвет подвешенной под потолком лампы.
Васёнка уговорила Витьку пожалеть отца. Но Витька домой не вернулся.
На третий день Васёнка разыскала его в доме Маруси Петраковой, что жила в маленькой избе, в Семигорье, а ходила через день за реку, в леспромхозовский посёлок, топить баню. Витька был дружок её старшего сына Ивана.
Петраковы сидели за столом, вокруг большого чугуна с картошкой: Иван, сестра его Нюрка, тощий мокроносый Мишка, плотная, как бочоночек, Валька. Нюрка держала на руках ещё младшенькую – Верку. Здесь был и Витька. Маруся, худая, остроносая, с растрёпанными волосами, каждому налила по полкружки молока. Унося за печь опорожнённую кринку, Маруся не сдержалась, быстрыми пальцами вытерла измученные глаза. Витька понурый вышел вслед за Васёнкой на крыльцо.
– Братик! Неужто сам не видишь, в какую тягость им лишний рот!.. – сказала Васёнка и заплакала.
Витька молчал. Потом сказал угрюмо:
– Ладно, поди домой…
На другой день он вернулся. Батя, увидев на пороге Витьку, отложил Зойкины ещё не подшитые валенки, рукавом рубахи смахнул со стола сор, позвал:
– Садись, место твоё не занято. – Строго посмотрел на Капитолину: – Собери поесть!..
Пока Витька ел, батя шил. Шил молча, но по тому, как торопилось шило в его руках и ходила игла с чёрным хвостом дратвы, Васёнка видела: бате полегчало. Витька ел, с усмешкой поглядывал на прибавку в избе: Машенька, Капкина дочь, худенькая и смурая, сидела в углу, на лавке, одевала безрукую тряпичную куклу. Из-под копны волос глянула на Витьку строго, но улыбнулась. Витька ел, выглядывал перемены в доме. А Васёнка чуяла, как от печи, где стояла Капитолина, сложив под грудью руки, наносило холодом, как от незакрытого погреба.
4
В жизнь гужавинского дома Капка входила тихо, как зима в безветренный день. Снежок редок, поля широки, думается: «Это ещё не снег!» А снежок падает на траву, на кусты, на комья сухой земли. Наутро глянешь – бело! Холодные зимы начинаются тихо.
Капки в дому не было слышно. В первый год она больше сидела по углам, оттуда поглядывала туманным взглядом на хлопотавшую Васёнку.
За столом держалась гостьей. Ложкой в общую миску, поставленную на стол Васёнкой, не торопилась, приноравливалась во всём к бате. Ссосав с ложки горячие щи, она кусочком хлеба промакивала тугие губы по-детски маленького рта, пальцем стеснительно отирала нос. Ложку на стол клала раньше, чем откладывал свою ложку батя. Батя ещё только правил усы, черенком выдавливал из бороды крошки, а Капка уже складывала на коленях короткие руки.
Васёнка понимала, что Капка ест не по аппетиту, и, переживая за батину подругу, ободряла:
– Да поешьте ещё, Капа!
– Спасибочки. Вот так наелась! – отвечала Капитолина и кротко взглядывала на батю.
До того как бригадир звякнет в железку у сельсоветского крыльца, Васёнка успевала подоить корову, насыпать в корытце курам, вытопить печь, сварить и нажарить и за большим столом всех накормить. Приготовить и задать корм поросёнку – борова каждый год держали до рождества. Чугун со щами и горшки с кашей составить в печь, чтоб затомились к обеду, замесить тесто и даже наскоро примыть пол. После смерти матушки весь дом приник к Васёнкиным рукам, и Васёнка старалась везде успеть, чтобы каждый был накормлен, одет, обут да ещё словом обласкан. Зойку она заставляла делать самую малость: сбегать по воду, ополоснуть посуду, корове задать сена. Васёнке всё казалось, что дом крадёт у Зойки её девчоночьи радости.
Батя не вмешивался в её заботы. С утра отправлялся в кузню, приходил к вечеру по-молодому нетерпеливый, отмывался под рукомойником, торопил с обедом. А ел не спеша. И, отобедав, не тянулся, как бывало при матушке, взять в руки свой плотницкий или столярный инструмент. Ставил на колено гармонь и, поглядывая на Капку особенным, веселящим её взглядом, наигрывал почти забытые Васёнкой простенькие песни.
Капка к ночи оживлялась, вытаскивала из печурки карты, подсаживалась к бате, стеснительно похохатывая, играла с ним в дурака. Батя, радуясь Капкиному оживлению и совестясь Васёнки, звал:
– Полно тебе суматошиться, повеселись иди…
– Вы играйте, играйте, батя! – успокаивала его Васёнка. – Я уж пошью да вот Витеньке носки поштопаю. На вас-то и глядеть лягко!..
Васёнка догадывалась, что батя и Капка томятся, ожидаючи, когда все лягут и в избе погаснет свет. Сидела недолго, откладывала шитьё, стелила себе и Машеньке одну постель, провожала на печь Витьку и Зойку, гасила висящую под потолком лампу. Тихо ложась рядом с Машенькой, мысленно велела Витьке и Зойке поскорее заснуть.
Неуступчивый братик вообще был её заботой. Сызмала не терпел, когда его принуждали. Что надобно – делал сам: латал крышу, готовил дрова, новил изгородь. Васёнка знала норов братика и направляла его, не задевая обидчивого сердца. Выбрав минуту, она, лукавя, говорила Зойке:
– Ты, гляди, не очень-то торопись на дворине. Вчерась чуть ногу не повывернула – ступеньки совсем гнилые…
Васёнка учила Зойку, а сама наблюдала Витьку: он поднимал глаза над книгой. Васёнка прятала улыбку, а через день-два легко и быстро сбегала в дворину по крепкой новой лесенке.
В натопленной тёмной избе Васёнка тихо лежала, прижимая к себе худенькое тельце Машеньки, старалась не слышать, как батя милуется с Капкой, перебирала в уме завтрашние заботы, про себя говорила с Витенькой: «Не мирный ты у нас, братик!.. Так прошу тебя – будь, братик, добрее! Вижу я, как не по душе тебе Капа. А что поделаешь? Ты батю жалей. Кто сердцем-то одинок, ой, худо тому! Отошёл бы ты сердцем братик. И мне бы полегчало… Пошто вот не спите, перешёптываетесь?! Это вот худо! Угрелись на печи – и спите!..»
Васёнка засыпала последней, когда позатихшая изба наполнялась посапыванием, посвистом, сытым батиным храпом. А в заплывшие льдом окна ломил ранний в этом году мороз, и рамы потрескивали, как крыльцо под тяжёлыми шагами.
Капка незаметно перестала ходить на птичник – с кем-то договорилась, подыскала себе замену – и теперь помогала по дому: то приберётся, то сходит по воду, то устроит постируху. Однажды утром, расчёсывая гребнем волосы, недовольно поглядывая в зеркало на своё помятое сном лицо, попросила:
– Ты бы, Васёнка, лук с печи убрала. Не больно глядеть-то с постели…
Васёнка подивилась Капкиной душевной тонкости, но лук перевесила.
Однажды в вечер Капка перехватила из её рук валёк и на глазах у бати начала катать по столу чистое бельё. Вальком она работала не в силу, зато плечами да крутыми боками поигрывала, как на танцах. Васёнка, качая головой, смотрела из-за печи на Капкину забаву: не думала, что и в таком простом деле может быть свой расчёт.
А батя играл свои песенки, поглядывал на Капку затуманенными глазами. Вдруг убрал с колен гармонь, раскинув руки, пошёл к Капке, хватко трепанул её бок. Капка будто ждала: бросила валёк, повернулась в батиных руках, опустила глаза.
– Гляди сам, Гаврила Федотович, – молвила Капка. – В дому нас шестеро. А дом об одну комнату. Горенку отгородить бы!..
Батя на лоб взметнул косматые брови, правой рукой ухватил левое ухо, скосил глаза на Васёнку.
– И то, сделайте, батя! – даже обрадовалась Васёнка. – Покойнее вам будет!
Батя отгородил горенку, не пожалел досок, что припасал и сушил для столярных работ. Сделал всё, как надо, плотно, крепко, даже собрал и навесил дверь. Только лежанку, где спали Витька и Зойка, почему-то досками не зашил.
А Васёнке покоя не давал этот открытый простенок. По утрам она с тревогой заглядывала Витеньке в глаза, старалась по взгляду отгадать, не слушают ли они с Зойкой по ночам чего нехорошего. Истомившись однажды, сказала весело, чтоб, не дай бог, не подумал плохого:
– Давайте-ка, братик, сами довершим бате горенку!
Витька понял её, притащил струганных досок, возился долго, но отгородил лежанку от Капкиной комнаты. И по тому, с какой готовностью он это сделал, с какой силой всадил последний гвоздь в отгородку, Васёнка поняла, что братик ведает больше, чем она думала.
5
Из города Капка привезла голубую железную кровать с сеткой. В горенку втаскивали её частями и там собирали. Кровать блестящими шарами, которые Капка тут же надраила мелом и шерстяным носком, упёрлась с одной стороны в стену, с другой в печь. Довольная Капка положила на кровать два пуховика, четыре подушки, застелила синим, как январский снег, покрывалом.
Васёнка возвратилась домой, разгорячённая морозом и работой, когда Капка тащила на поветь старый лежак.
– Ну-ка помоги! – озабоченно сказала Капка. – Тоже мне ложа – тяжелыпе морёного бревна!
– Пошто убираете, Капа! – удивилась Васёнка. – Спать где будете?!
– Кровать купила. Новую. – Капка нетерпеливо мотнула головой, призывая помочь. Васёнка с готовностью ухватила край лежака и только потом, когда они втащили его на поветь и втиснули в бок, где была всякая рухлядь, и Капка, торопясь, ушла в дом, Васёнка поняла, что бросили они на поветь матушкин лежак.
Память о матушке нет-нет да и прихватывала болью Васёнку. Знала она, что батя не ходил к матушке на могилку даже в поминальный день, светлую и печальную радуницу. Переживала, а корить батю не смела: Капитолине не по сердцу были разговоры о матушке. И Васёнка в себе терпела боль, чтобы ненароком не порушить улаженную в доме жизнь.
А тут одна, на холодной повети, с собой не совладала. Сорвала с головы платок, опустилась на край лежака. Увидела тут же, среди старых половиков и рассохшихся кадушек, матушкин сундук с раскрытым замком, ухват с колечком на черенке, самый ловкий, обласканный её руками, теперь поломанный и брошенный, лапти-сироты, на мочале свисающие с гвоздя, плетённые матушкой и матушкой не доношенные, и слёзы ожгли глаза.
Закрыла лицо ладонями, клонилась к лежаку, шептала:
– Господи, да что это такое! Будто не было матушки. Будто не матушкой дом ухожен, будто не она была хозяйкой! Из дома уносим – саму память гоним. Да что же это такое, господи! У бати глаза и сердце застлало. А я-то что матушку гневаю?! Да что же это, неужто в своём доме распорядиться не могу? Вот-ка возьму лежак да и внесу в дом! – Васёнка, удивляясь собственной решимости, заторопилась. – Вот сейчас возьму и снесу и накажу всем, чтоб не трогали!
Васёнка вытерла глаза, поднялась, даже ухватилась за гладкие, словно восковые, доски лежака. И тут поняла, что матушкин лежак ей не под силу. Нет, она могла бы позвать Витьку, Зойку, вместе снесли бы в дом и поставили лежак, и она спала бы на нём, успокоенная памятью о матушке.
Другое чувствовала Васёнка – не под силу ей через себя переступить, не под силу поперечить Капке, не под силу самой порушить в дому хоть и не весёлый, а всё же лад. «Простите меня, матушка, – руки Васёнки ослабли. – Не можу я так. Я потом. Я по-доброму! Я улажу с Капой. Вы сами, матушка, говаривали: доброе сердце добром осиливает…»
Васёнка платком утёрла глаза, спустилась в дом, открыла дверь и ахнула: в доме – война! Братик Витька прижимал к себе этажерку для книжек, а распалившаяся Капка вырывала этажерку из его рук.
– Капа! Витенька! – в отчаянье закричала Васёнка. – Что делаете?!
Капка отпустила самоделку, широко расставила локти, пошла к Васёнке.
– Скажи ему, скажи! – кричала она, кулаком тыкая в сторону Витьки. – Хозяин объявился! Что ни возьму – его! Полку хотела в горенку перенесть, так он меня чуть не прибил… – Капка всхлипнула и заслонила передником глаза.
– Братик! – Васёнка смотрела с укоризной. – Неужто пожалел!
– Не пожалел! А в каждом доме свой порядок! – Витька, бледный от пережитого волнения, поставил этажерку в угол, настороженно щурясь и раздувая ноздри, собирал сброшенные на постель книги.
– Успокойтесь, Капа, – попросила Васёнка. – Всё уладится!
Она подула на замёрзшие пальцы, стала расстёгивать шубейку. Капка тяжело дышала. На её возбуждённое лицо наплывали красные пятна. Она наклонила голову, морщила низкий лоб, заросший на висках жёсткими волосами.
– Всё уладится, Капа, – сказала Васёнка, улыбкой стараясь смягчить Капитолину.
Капка вдруг притихла, оправила на себе платье, тяжёлыми шагами ушла в горенку.
Вечером Васёнка словила на дворе Витьку. Оставила на земле фонарь, ухватила за борт старенькой, уже тесной ему стёганки, из рукавов которой почти до локтей торчали его худые руки, и, тревожась предчувствием идущей в дом беды, заговорила:
– Витенька, братик мой милый, прошу тебя – уступай! Не копи, братик, зла, от зла люди портятся… Ты ведь добрый, заботливый. Ты верь: добром всё сладится, а к непокорным одни беды ладятся! Уступай, так прошу тебя, братик!
Витька грустно смотрел в добрые глаза сестры, усмехнулся толстыми губами. Как взрослый, прижал к себе голову Васёнки, погладил по платку, пошёл в дом.
В канун того памятного чёрного дня Капка молчала. Вечером, когда все были дома, отужинали и Васёнка, стоя за печью, домывала посуду, Капка зашла в узкую кухоньку, молча заглянула в печь, на уложенные Васёнкой поленья, потрогала нащепанную лучину. Прицеливающимся взглядом проверила чистую посуду в горке, увидела неполные вёдра, послала Зойку за водой. Потом пролезла в красный угол, за стол, подпёрла щёки тугими кулаками и, так сидя, не поворачивая головы, молча следила, как Васёнка, легко приседая на молодых ногах, подтирала на кухне пол, стелила постель и укладывала Машеньку, перед окном расчёсывала волосы.
Васёнка, откинув голову, заправила расчёсанные волосы за спину, вынула из губ шпильки, потянулась положить на подоконник и разронила. Руки её не слушались. Она чуяла, как неотрывно смотрит на неё Капка, и сердце замирало от страха. Подобрав с полу шпильки, Васёнка распрямилась и вдруг повернулась к Капке. Стояла, открытая, беззащитная, и смотрела прямо Капке в глаза, будто спрашивая: «Ну, скажите, что вам надобно, Капа? Скажите – я сделаю…» С минуту они смотрели друг на друга. Васёнка, чувствуя, что долго нельзя вот так смотреть и не говорить, тихо попросила:
– Ложились бы, Капа. Поутру и думы светлее…
Капитолина отняла от щёк кулаки, засмеялась:
– И то, – сказала она. – Ложись, Васёнушка, пора, пора!
Она вылезла из-за стола, покачиваясь, будто затекли у неё ноги, пошла в горенку.
Васёнка привернула в лампе свет, легла неслышно, как это умела делать только матушка.
Машенька во сне вздохнула, чмокнула губами, повернулась на бок и вдруг прошептала: «Плохая кошка… Ух, плохая…» Васёнка лицом уткнулась в копну её пахнущих полем и летом волос.
К утру Васёнка заснула, не слышала, как из своей горенки прошла в кухню Капитолина, затопила печь. Услыхала уж, как потрескивают горящие поленья, вскочила, с распущенной косой встала у рукомойника.
– Заспала, – сказала виновато. – Разбудили бы, Капа!
Капитолина не ответила. Нагнувшись, она шевелила в печи сковородником.
Ничего не понимая, Васёнка потолкалась вокруг невозмутимой Капки, взяла ведро, пошла доить корову.
Капитолина сама подала на стол. Семейную сковороду с томлёной в молоке и залитой яйцом картошкой поставила ближе к батиному краю, сама нарезала хлеба, не как резала Васёнка, в кучу, на всех, а каждому из своих рук дала по куску. Растерянная Васёнка первый раз гостьей сидела за столом. Она замечала, как переглядывается с Витькой и пожимает плечами Зойка, заливалась стыдом, слушая, как похваливает готовку батя, казнила себя за то, что проспала утро. После еды схватилась мыть посуду, Капитолина остановила её.
– Зойка помоет! – сказала она властно. – Ступай в контору. Там баб собирают картошку перебирать…
Васёнка едва устояла на ногах. Плечом нащупала печь, прислонилась, стояла, будто застёгивая кофту, спиной к бате, к Витьке, чтоб не показать лица. Дождалась, пока из глаз ушла темь, накинула на голову платок, вышла на холодное крыльцо.
Поняла Васёнка: отныне в доме она не хозяйка.
6
Бабы идут с поля. В руках пустые жбанчики, узелки. На плечах тяпки, как у солдат ружья. Босыми ногами ступают в осевшую в колеях, нагретую полдневным жаром пыль дороги.
Пыль выстреливает из-под ступней, белёсым облачком переваливает обочину, ложится на траву.
Идут бабы, переговариваются, перекликаются, звонкие голоса стелются над чутким в вечереющем воздухе полями.
Открылось село. И усталые, напечённые солнцем, озабоченные лица ожили, каждая взглядом ухватила свой дом.
Умолкли бабы, скинули на плечи запылённые платки, торопят и без того спорый шаг. За день соскучились по ребятёнкам, по мужикам, по домашним заботам.
Приноравливается к бабам и Васёнка. Ускоряет лёгкий шаг, уже не ловит, не оглаживает приклонённые к дроге колоски, глазами ищет левее тёмной церковной колокольни с погнутым, будто сгорающим на солнце крестом знакомые берёзы, под которыми по матушкиной воле и на Васёнкиной памяти был поставлен их дом. Высмотрела берёзы и как будто споткнулась на ровной тропке. Жалобно улыбнулась, остановилась с прижатой к груди рукой.
А бабы спешат, уходят. Спустились в лог перед селом, ни кофт, ни платков не видать.
Васёнка покинуто стояла, не зная, куда идти. Вздохнула, себя укорила: «Ведь не хозяйка! А всё к дому тороплюсь!» Поправила на плече обёрнутую тряпицей тяпку, перешла дорогу и знакомой межой ржаного поля, прямо по белому раздолью ромашек, сошла в луг к лесной речке Туношне, задумчивой и тихой, как ночь в сенокос. В траву положила тяпку, села на свой бугор, поджала под себя и юбкой накрыла босые, с мозольными пятками ноги, чтобы не очень-то жигали злые допокосные комары, упрятала руки к животу и затихла, радостными глазами оглядывая всё, что полюбилось ей в это горестное в её жизни лето.
На лесное левобережное крутогорье светило низкое солнце. Лес ещё только набирал летнюю важную полноту и на тихом ветру шевелился. Васёнка, затаившись, с лукавством в карих глазах, смотрела, как берёзы и осины, довольные теплом и светом, как будто щекочут себя зелёными ладонями листьев.
«Угрелись, лесовушки! – думала, взглядом лаская берёзы. – А сосенкам что свет застили! Экие вы, право!..» У сосен, росших по верху горы, едва виднелись над зеленью берёз и осин тёмные мохнатые маковки. Пятна их стволов, как подсвеченные огнём лица, проглядывали сквозь сплошную завесь листьев. «Экие вы, право!.. – укоряла Васёнка. – Полгоры вам мало. Солнышко-то одно на всех!»
Из-под яра вылетел и прокатился над речкой, будто перевёртываясь в воздухе, звонкий голос иволги. «Вот она, певунья! Медвяночка моя, укрытная… – Васёнка радостно насторожилась, ожидая песни, – иволга молчала. – Ну, что же ты? Водицы склюнула, пугнул ли кто? Что смолкла? И соловей не голосит. Соловью-то рань. Вот чуток потемнеет, тогда только слушай! Такое диво – мураши по спине бягут!»
Васёнка плотнее окутала ноги юбкой, перевязала на голове платок. Глядя меж черёмух на светлые переливы Туношны, едва слышно, будто стыдясь, запела:
Мой костёр в тумане светит,
Искры гаснут на ляту-у…
Она и в песне мягчила слова. Голос Васёнки похож на тихое журчание Туношны на перекатах. И, может быть, оттого, что, кроме речки, ей не с кем горевать, печаль её так открыта. Песня допета до последнего грустного словечка. Васёнка упрятывает подбородок в колени и, опечаленная песней, глядит, как, припадая, пьют воду из Туношны белоголовые облака.
Васёнка даже себе не признавалась, что у речки она кого-то ждёт. Не дай бог, приметили бы её здесь бабы – тут же покатились бы по селу озорные байки! Пылать бы Васёнке, как маковому цвету. Кто поверит, что девка на бугре время просиживает, а не милого ждёт? А у Васёнки и милого-то нет, одношенька, как эта вот речка!
Таилась от себя Васёнка, а кукушке всё же загадывала, сколько ещё денёчков ждать судьбы. И хоть пять и десять раз прошли откукованные сроки, Васёнка всё одно каждый вечер ходила на бугор. Ждала. Ждала терпеливо. И случилось: будто в сказочном зеркале, объявился в Туношне парень!
Парень стоял в распахнутой куртке, в сапогах, головой подпирал белое облако, смятую кепку держал в руке. И волосы, как у цыгана, путались на лбу.
Васёнка ладонь прижала к тонкой шее, качнулась ближе к воде, чтобы рассмотреть, и дух у неё перехватило, закрыла глаза. А когда снова глянула, в речке, как прежде – синь да облачко одинокое, как заплутавшая ярочка. Васёнка взглядом заметалась по лугу, встала на бугре, неспокойная, как лозина на ветру. А парень – вот он! По-за кустами обошёл, к ней путь держит. Подошёл, цыганские свои волосы ладонью со лба набок пригладил, послушались волосы, легли. Потный лоб открылся, чумазый, будто нарочно подкоптили. И руки копчёные, кузнечные, как у бати, и на широкой скуле, видать, от копчёного пальца, мазок. Парень куртку пошире распахнул, переступил стоптанными сапогами, порыжелые голенища в гармошку сошлись – ладно не заиграли! Смотрит вроде бы не робко, но и не дерзко. А Васёнка стоит, рукой шею придерживает, истомилась, краснеючи: молчун, что ли, перед ней – слов не говорит!
Парень улыбнулся широким ртом.
– Откуда такая добрая? – спросил.
– Пошто добрая-то? – потупилась Васёнка.
– По носу. Нос у тебя добрый! – сказал парень. А Васёнка обиделась: смеётся парнище! Из-под своих цыганских волос на неё смотрит, так смотрит, будто вот сейчас охватит да поцелует!
Васёнка онемела. Увидела – глаза у парня раскосые, узнала – тот военный, что на «пятачке» к ней шёл! К ней шёл, да Зинка-одногодка перехватила, в круг увела. Тот самый! Глаза до того широко на лице стоят, будто и впрямь косят! И смотрит открыто, взгляда в сторону не ведёт. Тот парень!
Васёнка голову опустила, замерла, судьбы ожидаючи.
– Ладно, добрая, – сказал парень, будто её успокаивая, – свет не велик – свидимся! – Услышала Васёнка, как шаркнули по траве сапоги, гуднула земля от тяжёлых шагов. Пришла в себя, схватилась крикнуть вслед: «Гужавина я! Кузнеца Гаврилы дочь!» – а голоса как не было.
Домой шла Васёнка, будто поцелованная. Сказать бы кому! А кому такую важность поверишь? И радость не в радость, когда про себя. Увела Зойку на крыльцо, обняла.
Сготовилась шепнуть словечко и затомилась. Сказала, будто чужую новость:
– Парень тут ходит, такой чумазый. На цыгана похож. Не знаешь чей?
Зойка поскребла коленку, деловито осведомилась:
– Такой вот, раскосый?..
– Он, он, – радостно вскрикнула Васёнка и в страхе почувствовала, как в полымя обратилось сердце. Ладно ещё тёмки на дворе. Хоть и летние, а всё же тёмки…
Зойка смирненько подождала, когда Васёнка успокоится, раздумчиво сказала:
– Знаю. Тётки Анны Разуваевой парень. Летось вернулся с отъезда. А работает в новом эмтээсе. А зовут его… – Зойка помедлила и, растягивая сверкающее и оглушающее Васёнку слово, пропела: – Зовут его Макар…
Зойка повертела головой, сказала, как будто обижаясь:
– Что это ты мне плечи жгёшь? Волдыри вот вскочут!
Васёнка, не узнавая себя в радости, сдавила Зойку и зацеловала её хитрое лицо. Зойка вылезла из Васёнкиных объятий, приглаживая за ушами волосы, со вздохом спросила:
– Записочку шесть, что ли?
– Ой, что это? – спохватилась Васёнка. – Ишь чего надумала! И не говори! И не думай!
– А я не думаю. Я знаю… И ты не бойся. Снесу и – как копеечку в колодец, никто не достанет!
Записки Васёнка не послала. А на Туношну с того дня бегала каждый вечер. И глядела на луг, на речку, на ту сторону, откуда объявился чумазый парень. Чумазый не шёл. И летние зори угасали в пустой непотревоженной воде.
Как-то к вечеру Васёнка села на свой бугор и вдруг замерла. На берегу пригнулись кусты, закачались ивы, листья посыпались в воду, как в осеннюю ветреную пору. В светлой Туношне вычернился человек.
Васёнка встрепенулась, как птица на взлёте, и не взлетела. В кустах, радостно сияя загорелым лицом, стоял лесник Леонид Иванович.
– Здорово, соседушка! – крикнул оттуда, с того берега, да прямо по воде тяжело пошагал к Васёнке. Сбуровил воду, будто сохатый на водопое! Вышел на берег, сел рядом на бугор, стащил с ног мокрые сапоги. Вылил воду из голенищ. Играя желваками крепких скул, натуго выжал портянки, навернул на широкую, в синих жилах ногу. Поглядывая на Васёнку, натянул, скрипя мокрой кожей, один сапог, потом другой. Чёрную фуражку с медными жёлудями над козырьком снял, пристроил в траве, на фуражку положил свою командирскую планшетку, как будто задумал сидеть тут до ночи.
– Вот так, соседушка! Ради ягодки чего не сделаешь?! Не только сапоги, репутацию подмочишь!.. – Лесник захохотал, округлив рот, придвинулся близко к Васёнке. Рукой потирая затылок, метнул воровской взгляд по лугу. Настороженная Васёнка вскочила, негодуя и пугаясь, замахала руками, как будто лесник уже её обнимал.
– Что ещё придумали? – задыхаясь, говорила Васёнка. – Ступайте себе… Ступайте, Леонид Иванович!
Лесник пригнулся, играя – раскинул руки. Как раскрытые клещи, они сошлись у ног помертвевшей от страха Васёнки.
В лесу зашумело, звякнули ботала, щёлкнул кнут, стадо, треща валежником и разламывая кусты, вывалилось на луг.
– Эх, с девкой поиграться не дадут! – сокрушаясь, сказал Красношеин и встал. Надел фуражку, поднял с травы планшет.
– Моё почтение, дед Аким! – крикнул он пастуху и пошёл навстречу. – Лес-то ломаешь, будто свой!
Пастух, придерживая на плече короткое кнутовище, шёл к леснику, мягко перебирая обутыми в лапти ногами. Поздоровался за руку, внимательно поглядел на Васёнку, беззащитно стоявшую на бугре, поднял неморгающие глаза на лесника и молчал, будто ждал, что лесник объяснит ему про Васёнку.
Красношеин накрутил на руку узкий ремешок, тряхнул перед пастухом командирской планшеткой.
– Что, говорю, лес ломаешь? – крикнул он деду, как глухому.
– Да ведь скот! – рассудительно сказал Аким. – Животное, оно запрету не понимает…
– Пасёшь-то ты! Смотри, акт составлю! Ну, ладно, ладно, пошли, старый! – лесник обнял пастуха за плечи, как бы торопя его от Васёнки, повёл через луга вслед за стадом, к селу.
Васёнка проводила их невидящим взглядом, упала на бугор, зажала руками горящее стыдом лицо.
– Матушка, родная! – шептала она. – За што так-то? За што?!







