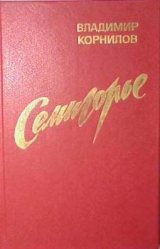
Текст книги "Семигорье"
Автор книги: Владимир Корнилов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 30 страниц)
Арсений Георгиевич, опираясь на колени, грузно опустился на диван. Не снимая рук с колен, сказал:
– Твоя убеждённость мне по душе. Рад, что веришь и отстаиваешь свою веру. Что вообще определяется в тебе характер. Но, дорогой Ким, на этот раз тебе придётся поверить не своему доктору, а мне. То, чем сейчас увлечён твой ум, не может стать смыслом твоей жизни. Не время, Ким. Не те задачи решают сейчас люди. Не в удовольствиях суть нашей жизни. Нам нужен хлеб, нужна одежда, сталь, энергия, нужны станки, самолёты – без этого мы не будем живы. На первом месте у нас сейчас дело. И ценность человека определяется по его уменью не в будущем, а вот сейчас принести обществу пользу.
Когда ты выбирал институт, я дал тебе самому сделать выбор. Теперь вижу: самостоятельность молодых людей, даже умных молодых людей, относительна. Стремясь к самостоятельности, они всё равно не обходятся без опоры на чей-то зрелый ум. Будь по-другому, заканчивай ты институт инженером, я бы уже сейчас предложил тебе интересную работу. Ты мог бы стать одним из создателей сверхпрочной броневой стали. Ты выбрал медицину. Что же, без врачей люди тоже не могут. Но врачи нам нужны те, которые рядом с людьми.
Дорогой Ким, если тебя выпускают хирургом, ты должен стать хорошим хирургом. Я буду спокоен, если буду знать: твои руки, твой ум, твои знания врачуют людей. Допускаю, где-то в будущем ты сможешь вернуться к своим проблемам, если они не перестанут тебя волновать. Но сейчас, Ким, не шестидесятый год, сейчас год сорок первый. Ты должен чувствовать время.
– Но, отец…
Арсений Георгиевич поднял руку, останавливая вопрос.
– Не надо горячиться, Ким. Важные решения принимаются не в спорах, а после споров, когда остывают головы. У тебя есть время подумать над моими словами. Я верю, ты поступишь разумно. А сейчас будем ужинать. Мама Валя, как там у тебя дела? – крикнул Арсений Георгиевич, не вставая.
Валентина приоткрыла застеклённую матовым стеклом дверь, высунулась из двери наполовину, как из вагона поезда. Лицо её раскраснелось от жара плиты, светлые, зачёсанные назад волосы по вискам распушились, падали на густые тёмные брови. Поправляя на плече лямку фартука, она оживлённо сказала:
– Всё готово! Помогайте накрывать… – И тут же удивлённо округлила свои большие, добрые глаза. – Ким, ты курил?!
Ким смущённо вмял папиросу в коробок, резко встал.
– Прости, мама Валентина! Я совсем забыл о правилах нашего дома. Прости, отец, я действительно забыл, что ты не терпишь всё это…
– Ладно, ладно… – Степанов поднялся. – Пойдём помогать маме Вале. Хорошо, что ты всё-таки помнишь о доме!..
… За столом они сидели до полуночи. Степанов добродушно посмеивался над стараниями мамы Вали: за Кимом она ухаживала, как за наркомом. Он видел её обласкивающий Кима влюблённый материнский взгляд, видел, как тревожно вглядывалась она в его сухое, острое, действительно изменившееся за последний год лицо.
Она не столько слушала то, о чём рассказывал Ким, сколько угощала его пирогами, пирожками, сладкими трубочками, которые он так любил в отрочестве, грибками и вареньем, привезёнными от бабы Дуни из Семигорья. Ким уже трижды поднимал руки, прося пощады, но напор материнской щедрости не ослабевал, ему приходилось снова и снова брать в руки вилку и нож. Но когда Валентина выбегала на кухню, Ким опускал голову. Степанов видел, как хмурился его прямой высокий лоб, упрямо сдвигались к тонкому переносью брови.
Степанов видел это, но сдерживал себя и молчал. Он был уверен, что сегодняшний их разговор и время повернут жизнь его Кима на верный путь.
Ни Ким, ни мама Валя, даже он, Степанов, не знали в этот спокойный пополуночный час, что война, разрешившая их спор, уже поднялась в воздух на крыльях немецких бомбовозов.
ПЕРЕД ЛИЦОМ ВОЙНЫ
1
С полудня от райцентра по всем направлениям поскакали нарочные, без жалости нахлёстывая коней. Пыль, поднятая всадниками, долго висела над полями – гонцы, казалось, обозначили свои дороги в самом неподвижном воздухе жаркого июньского дня.
Иван Митрофанович отбивал косу в подворине, когда всхрапнула и встала у плетня лошадь. Неспокойный голос покричал его.
– Беда, Митрофанович, война! – сказал посыльный. Торопясь, подал запечатанный сургучом пакет, отёр рукавом рубахи потное лицо, рванул узду, сапогами ударил коня под взмыленные бока – топот пошёл по звонкой, как камень, земле.
Иван Митрофанович, не сумев унять дрожь пальцев, отломил сургучные пятаки.
Когда скорыми шагами он подошёл к сельсовету, громкоговоритель на столбе, похожий на раскрытую чёрную пасть и почему-то с утра молчавший, ожил. Сквозь треск прорвался встревоженный голос, и хотя Иван Митрофанович уже знал, какую весть донесёт сейчас радио, он так и не поднялся на широкое крыльцо, а здесь же, внизу, у захватанных руками перил остановился в затомившем сердце ожидании.
По селу и далеко в поля разносился напряжённый, будто на одной ноте звучащий, голос диктора: «…правительственное сообщение… Сейчас будет передано правительственное сообщение…»
И выскакивали из домов люди, ходом шли к сельсовету мужики, бежала ребятня, торопились бабы, многие держали на руках напуганных суетой детишек. Пёстрая толпа, как, бывало, в праздник, заполонила сельсоветскую луговину. Но праздничного в этом скопище знакомых Ивану Митрофановичу лиц не было: резкие движения, беспокойные взгляды, приглушённые отрывистые разговоры; даже яркие платья девчат, надетые по случаю воскресного дня, не красили, а словно бы полохали и без того тревожный вид толпы.
Молотова слушали в молчании, никто не пошевелился, будто каждый прирос к своему месту. Опоздавшие подбирались к толпе бочком, на полусогнутых ногах, боясь спугнуть общее затишье. И когда Молотов закончил говорить и чёрная труба, потрескивая, замолчала, люди как будто прижались друг к другу. Ивану Митрофановичу даже показалось, что луговина потемнела, как это бывает в поле, когда облаком закроет солнце. Люди молча стояли и ждали, будто не в силах были унести только что узнанную весть.
Иван Митрофанович тяжело поднялся на помост знакомой трибуны как был: в старой косоворотке, без пояса, с непокрытой головой, его с заметной сединой волосы с двух сторон свесились на виски. Сжав руками перекладину и виноватясь взглядом перед людьми, как будто это по его, Обухова, воле мужики завтра отбудут на войну и семигорские дома осиротеют в одночасье, он сказал в молчаливую толпу:
– Селяне! Граждане мои дорогие! Враг напал. Топчет и сквернит нашу святую землю. Война не радость. Война – горе, народное горе. На смертную брань с врагом пойдут наши мужики, сыны наши. Добрые у нас сердца, но рады мы только добрым гостям. К врагу нет у нас пощады! Не бывало такого, чтобы русский человек в ратном деле Россию посрамил. И не будет!
Пока Красная Армия и мужики наши, которых завтра мы проводим на подмогу, защищать страну будут и жизнь нашу, вам, бабоньки, и всем, кто останется здесь, на себя придётся принять заботу о земле, о хлебе – без хлеба солдату врага не одолеть! Теперь здесь, в сёлах и деревнях, вам, жёны наши дорогие, быть главной силой, продовольственной опорой армии и городов, где рабочий класс куёт и подымает оружие победы.
Вы теперь и духовная наша опора, бабоньки мои и девчата. Потому как сердца ваши верные, слова ласки и привета, которые вы будете слать за тыщи вёрст, на край России, для солдата стоят не меньше каравая хлеба и винтовки. Крепитесь, люди мои добрые! Лихую годину насылает на землю нашу враг. Но не остановить ему жизни, не погасить фашистам нашей радости, не склонить высокого нашего красного флага!..
Толпа теперь беспокойно двигалась, но не растекалась по луговине, жаркой от солнца, а стала ещё плотней. Иван Митрофанович поискал глазами среди пёстрых бабьих платков и непокрытых мужичьих голов Макара Разуваева.
Ему одному из первых предстояло в двадцать четыре часа явиться в военкомат для отправки в часть, и хотелось Ивану Митрофановичу, чтобы Макар сказал народу солдатское слово. Но разуваевского лица среди других он не выглядел. Зато близко от трибуны увидел кумачовую косынку и возбуждённое лицо Жени Киселёвой и, перегнувшись через перила, крикнул:
– Женя, милая! Скажи людям своё горячее трудовое слово…
Женя замотала головой, но руки дружно подтолкнули её к ступеням и проводили на трибуну. Неловко она стояла в своих сатиновых, лоснящихся на солнце шароварах, боком к толпе и как-то даже сердито смотрела на сапоги Ивана Митрофановича. Вдруг сорвала с головы косынку, повернулась к людям и закричала хрипло:
– Вы, мужики, со спокойствием и верой идите и ломайте хребтину фашисту-гаду! Землю мы, бабы, не оставим без заботы. И хлеб дадим! Идите, мужики, воюйте. А коли вас не хватит, вслед за вами пойдём!.. – Женя подняла руку с зажатой в ней косынкой, махнула, как флагом, и спрыгнула с трибуны. Толпа отзывно загудела.
Не скоро разошлись семигорцы. Иван Митрофанович уже был в сельсовете и крутил ручку телефона, стараясь связаться с городом и уточнить порядок мобилизации, а по всей длине широкой улицы всё ходили обеспокоенные бабы и мужики, собирались у домов, у колодцев, у сельпо, тревожно говорили, ещё тревожнее слушали друг друга. И ни одна гармошка в этот будто споткнувшийся воскресный день не позвала молодёжь на гулянье.
Когда июньская заря пригасла и легла на лес, ожидая утра, Иван Митрофанович пришёл в дом Разуваевых, уверенный, что в доме не спят. Опытом лет своих он знал, что и митинг, и речь, которую он сказал, были нужны людям в первый час недоброго известия. Главное началось теперь, после того как он вручил повестки о мобилизации и общее лихо разошлось по домам. В каждом доме, где с гулянкой, где со слезами, обвыкались люди с подступившей к ним переменой жизни. Спать в такой час никто не мог.
Макар сидел на лавке, пришивал лямки к мешку. На столе – припас на долгую дорогу: чистые портянки, обмылок в тряпице, бритва, жестяная кружка, ложка, полкаравая хлеба. На стене на плечиках – выгоревшая, но простиранная и отглаженная гимнастёрка с подшитым воротничком и значками, спортивными и оборонными. Не по времени топилась печь. Тётка Анна творила пироги – руки по локоть в муке. Потерянно глянула на Ивана Митрофановича, вздохнула, отвернулась.
Рядом с Макаром – Витька, по-домашнему босой, в выпущенной поверх штанов рубахе. Младшего Гужавина Макар всё же забрал из химлесхоза. Дал поработать сезон на подсочке и сборе живицы, так сказать, принюхаться к самостоятельной рабочей жизни, и забрал к себе в дом, под опёку тётки Анны. В школу Витька не вернулся. Макар устроил его в МТС, сам готовил сразу на тракториста и комбайнёра и поторапливал с ученичеством, будто знал, что скоро придётся приторачивать к плечам солдатский мешок.
С хмуро напряжённым лицом Витька наблюдал сборы на войну.
Иван Митрофанович без радости сел на отставленный к стене табурет, сцепил перед собой худые длинные пальцы, будто это он виновен в том, что Макар снаряжается в дорогу.
Макар пришил лямки, дотянулся до гимнастёрки, вдел в клапан кармана иглу с хвостом суровья, крест-накрест намотал нить на иголку, карман застегнул. Сложил со стола в мешок всё своё нехитрое солдатское снаряженье, петлёй из лямок прихватил верх мешка, накрепко затянул.
– А колобушки?.. А пироги?.. – крикнула от печи тётка Анна.
– Пироги вместе поедим, мама. Перед дорогой, – сказал Макар как-то даже весело, как будто не война дожидалась его за порогом. – Что примолк, Митрофаныч? Или сам распалился воевать?!
– Моя война, Макар, вся тут – с бабами да с детишками, – отшутился Иван Митрофанович. – Чудится мне, что и парни не засидятся. Всё ли собрал для службы? Может, наказ какой дашь?
– Наказ один: мать не в молодых годах. Пока Витя в доме – нужды нет. Но сам понимаешь…
– Мог бы не говорить о том.
Иван Митрофанович завозился на табурете. Всхлипнула у печи тётка Анна. Макар быстро подошёл, приобнял мать.
– Ну зачем, мама! Мы же договорились – не навек отлучаюсь. За хозяина пока Витя. Хлеба – с запасом. Дров до второй зимы. Картошку уберёте – тоже будет. А к весне вернусь…
Макар осторожно гладил пригнутую спину матери, лаской и словами возвращал её к привычным заботам. Похоже, сейчас он сам верил, что отлучается ненадолго: поставит на место то, что непредвиденно порушилось где-то там, на западных границах, и возвратится в Семигорье к делам.
Тётка Анна успокоилась ласковым спокойствием Макара. Не вынимая рук из желоба, в котором месила тесто, попросила:
– Оботри-ка мне глаза, Макарушка…
Макар концом фартука вытер у матери слёзы, убрал с её набрякшего морщинами лба волосы.
– Что же, мама, ставьте пироги. Мы пока самоваром займёмся. Ныне всё равно не до сна! – и, поворотившись к Ивану Митрофановичу, объяснил: – Поутру ещё в МТС: Виктору комбайн и дела передаю. Ему же инструмент да ещё кой-какой дефицит. Сейчас каждой железке – золото цена. А хлопотать по ремонту ему придётся, больше некому. Одобряешь?..
Иван Митрофанович пересел на лавку, приобнял Витьку.
– Таких бы пяток да с машинами – горя бы не знал. Ты бы, Витёк, наших хлопцев к машинам приохотил – Ивана Петракова, Ваську моего, Полянина Лёшку. Пока суд да дело, глядишь, урожай уберут.
Иван Митрофанович прощался с Макаром на воле. Оба стояли на выбитой их же ногами тропе, молча смотрели, как опаляется над лесом зоревое небо. В домах светились окна, но село к этому часу притихло. Даже петухи не подавали голос. Сквозь лес просочилось солнце, закраснели макушечные листья на уличном тополе.
Хлопнул, как выстрел, пастуший кнут.
Иван Митрофанович от неожиданности даже вздрогнул, повернул голову.
– Война не война, а стадо выгоняй! – сказал Макар; его обрадовало привычное щёлканье подпаска – всё шло своим чередом. Иван Митрофанович в задумчивости отозвался:
– Жизнь войной не задавишь!.. Ты, Макар, вот что, на лёгкую войну не надейся. Сила на нас попёрла потяжелее Деникина и Колчака, так что готовь себя с запасом!.. Хотел одну штуку тебе передать. Не суди старика с нынешней гордостью-то: мол, чувствительность и тому подобное. Я как был, так и живу. И прошу: возьми-ка вот это и спрячь, чтоб при тебе было. Не тяжело, а весит. Землица тут. С Урала, с того места, где Чапая постреляли. Хранил для памяти. В тяжёлую минуту на руку сыпанёшь, думаешь: «Тебе ещё ничего. Ему – хуже…» Возьми-ка вот, спрячь. Уральская, а по духу – своя… Дай-ка обниму тебя!..
Макар почувствовал под ладонями костлявые лопатки Ивана Митрофановича и неожиданно с горечью подумал, что Иван Митрофанович совсем старик!
Он проводил его до калитки, постоял, вслушиваясь в шум и голоса оживающего привычными заботами села.
Всё было, как всегда: с мычанием и блеянием собиралось в улице стадо, торопливо скрипел так никем и не смазанный колодезный журавль, бренчали вёдра, взлаивали собаки, и петухи горланили, но чего-то недоставало этим привычным, как дребезжание стекла в окне, звукам. Макар не сразу уловил чего, но потом понял: проснувшемуся селу не хватало громких бабьих голосов. Всё было, как обычно поутру, а бабьих голосов не было, и от того в наступающем дне чувствовалась затаённая тревога.
Высыпали из домов ребятишки, вслед за стадом, в прогон, поскакали к реке на палках-конях, размахивая прутьями-саблями. До Макара донеслись их тонкие голоса: «Ребя! Бей фашистов!»
Перекрывая утренний шум, рванула не по времени гармонь. Хмельной мужичий голос вдруг выкрикнул:
Тр-р-ри танкиста,
Трри весёлых друга…
И тут полоснул тишину бабий вой.
Макару стало не по себе – чужую боль он всегда чувствовал острее, чем свою.
Вот так он и запомнил это последнее в Семигорье утро: стадо, согнанное без бабьих голосов, мальчишек, радостно проскакавших к реке, гармонь и этот полоснувший по сердцу бабий вой. И запомнил ещё пух, летящий с высоких, красно освещённых солнцем тополей. Пух летел, цепляясь за ветви, плетни, траву, копился в ямах, на завалинках. Лето – а тропа вся запорошена, будто снегом…
2
Красношеин собирался на войну шумно. Опухший от хмельной без отдыха ночи, он с раннего утра вытащил на волю стол, водрузил ведро браги, принесённой от Капитолины, велел Васёнке выставить таз квашеной капусты, выкатил из погреба последний, ещё не початый бочонок с огурцами. Размахивая ковшом, шумел и звал к угощенью всех, кто оказывался поблизости.
Васёнка на крыльце, прижимаясь к тёсаному столбику, придерживала за руку Лариску, запавшими за ночь глазами смотрела на Леонида Ивановича, не чувствуя покусанных и опухших губ.
Как азартный торговец на базаре, которому уже всё нипочём, он кричал:
– Прощальный ковш! За матушку-Россию! За победных её солдат! Отхлёбывай от кругового!..
Мужики подходили, снаряжённые в дальнюю дорогу, в окружении ребятишек, баб, старух. Высвобождали руку из цепких и горестных бабьих объятий, принимали ковш, отглатывали, рукавом отирали рот, кланялись Васёнке, шли дальше. Путь у всех был один – к перевозу, в город, к военкомату.
Петраковы вышли всем своим дружным выводком. В окружении малых медленно шёл Василий, держа на руках младшенькую, – ручонкой она обнимала его за шею.
Василий был в старой, с заплатой на локте рубахе, холщовых штанах, снизу охваченных солдатскими обмотками, в новых лаптях. Всё на нём было стираное, глаженое, аккуратно подогнанное, даже в своей поношенной одёже он казался принаряженным. Позади шёл Иван, перекинув через плечо отцов дорожный мешок. Мешок был почти пуст, Васёнка это заметила сразу, как заметила на ногах Ивана и крепкие ботинки Василия, и его солдатскую гимнастёрку, широковатую для узких парнишечьих плеч, – гимнастёрка поверх пояса свисала пузырём.
Сама Маруся шла сбоку, обняв руку Василия, и снизу вверх неотрывно глядела на него. Её всегда худое остроносое лицо было таким потерянным, жалобно-просящим, что у Васёнки от чужого горя прихватило сердце.
Василий прошёл мимо, даже головы не поворотил на зазывный голос Красношеина. Шёл вслед за всеми молчаливый, сосредоточенный на какой-то своей заботе.
Васёнка поглядела на Леонида Ивановича, с хмельной шумливостью гуляющего вокруг стола в обнимку с коротковатым Батиным, и стало ей так горько, как никогда не было: до самой последней минутки своей вольной жизни Леонид Иванович тешил себя, чем мог! И не от жадности к тому, что оставлял. Какой-то смутой была затянута его нехрабрая душа.
Леонид Иванович, не в пример Василию, одет был заглядисто – в лучшие свои диагоналевые галифе, в форменную чёрную гимнастёрку и хромовые, до блеска начищенные Васёнкой сапоги.
На крыльце дожидался хозяина дорожный мешок, под завязку набитый не чем другим, как хлебными караваями да бутылями Капкиного самогона. Когда Леонид Иванович улаживал мешок, Васёнка простодушно подивилась:
– На что тебе в армии такой-то припас?!
Леонид Иванович озлился:
– Видать, что баба, – ума нет. Водка да хлеб – пропуск в райскую жизнь!..
Васёнка смолчала, напекла и от себя добавила в мешок ещё сладких колобушек да вложила своё полотенце, вышитое крестиками. Полотенце Леонид Иванович выбросил, кол обушки оставил. Васёнка и тому была рада: хоть короткая память её кол обушки, а всё память.
Теперь вот Василий со своими петрочатами прошёл мимо, и не хотела, а подумала она о себе горько: покорилась судьбе, а счастья не далось…
Свой мешок Леонид Иванович на плечи не надел – видать, застыдился такого горба за спиной. Перекинул через голову только командирскую планшетку, а мешок взял за лямки и понёс, как чемодан, припадая от тяжести на ногу.
Васёнка шла следом, обочь пыльной дороги, держа на руках Лариску, и всё ждала от него каких-то важных слов, с которыми она должна была прожить в одинокости долго, коротко ли – никто не знал. Но Леонид Иванович с ней не заговаривал – то ли от хмеля запамятовал, что уходит не в ближний лес, то ли отвлекало и веселило его общее движение людей к перевозу: шёл и возбуждённо перекрикивался с мужиками. И на пароме, когда все неподвижно и плотно стояли плечо в плечо, он не сказал ей ничего путного, даже не подержал на руках Лариску. И только у широких ворот военкомата, когда Васёнка попридержала его и сама спросила:
– Что же ничего не наказываешь?! – он будто очнулся от хмельной забывчивости и сказал, и опять не по-доброму, не по-хозяйски, а как-то шутейно:
– Одна остаёшься – гляди! Баба ты завидная. Невтерпёж будет, Лёшку вон директорского приголубь – всё не чужой! Хотя, скажу тебе, лопух он в этих делах!..
– Что ты такое говоришь, Леонид Иванович!
В глазах Васёнки стояли слёзы.
– Ладно, ладно. Знаю вас, баб! Ну, Лариска, воюй тут. Требуй своё. Мамку за подол держи, воли не давай!
Он ткнул пальцем дочке в бочок, да, видать, больно. Лариска покривила рот, захныкала, уткнулась в Васёнкину шею.
– Ну, так батьку на войну провожаешь! Ладно, некогда мне ваши носы утирать. Всего!..
Он приподнял с земли мешок, лениво, как бы нехотя, пошёл в ворота.
Васёнка гладила Лариску по спинке, успокаивала, а сама едва удерживала слёзы – таким обидным и каким-то пустым получилось прощание.
– Не надобно, доченька. Будет! – уговаривала она Лариску. – Смотри, сколько людей. Все провожают. Всем тяжко. Сердца у всех горем обливаются…
Васёнка говорила, пальцем украдкой снимала с глаз слезины. Никто не обращал на неё внимания – что её обида и слёзы в превеликом людском горе!
У ворот прощался с Петраковыми Василий. Васёнка покоила Лариску, а сама – вся слух! – внимала, что наказывал он своим.
– Не забудь, Маруся, возьми получку мою в техникуме. За девять дён, – говорил Василий. – Наперёд всех дел Валюшке к зиме валенки справь. Шерсть вместе с полынкой я в мешок прибрал, в сенях на крюк навесил. Катать отдай горбатому Митюхе – он совестливый, как надо сделает. Иван в ботинках проходит. Старые, подбитые, как-нибудь с Нюркой поделите… Ты, Нюра, уж потерпи. Возраст твой, понятно, требует вида – не поспели. Потерпи малость. Вернусь – справим всё для твоей взрослой жизни. Пока учись да младшеньких не забывай. Иван – за хозяина. Но как важное что, решайте сообща. Главный наказ всем – мать берегите. И ты, Маруся, себя пооберегай. Нужна ты нам, всем нужна…
Ну, пора мне. Дело народное, не ждёт…
Всех поочерёдно он привлёк к себе, каждого поцеловал в лоб. Марусю – трижды в губы. Взял из рук Ивана мешок, спокойно и неспешно ушёл в ворота.
Маруся пискнула тонко, как-то по-птичьи, и, закрыв лицо руками, села прямо в пыль улицы. Иван и Нюра бросились к ней, подняли, отвели к забору. Нюра села рядом на траву, обняла, тихонько что-то говорила.
Васёнка не могла больше смотреть на Петраковых – обида на Леонида Ивановича, на свою неладную судьбу вконец расстроила её. Не пряча молчаливых слёз, она прошла сквозь тяжёлую, уже не воспринимающую чьё-то отдельное горе толпу и по улице направилась к пристани, где, сказали ей, мобилизованных ждала баржа.
На штабеле выкатанных из воды брёвен умостилась, прикрыла собой от солнца и укачала Лариску. Так и сидела, одиноко и терпеливо, глядя на тихую, млеющую в жаре Волгу. От сухого корья пахло лесом, от воды – свежестью, от широкой баржи со смолистыми подтёками по пузатому борту доносило запахом дёгтя; было грустно.
У военкомата духовой оркестр ударил марш.
Бодрящие, тугие, точно прыгающие звуки марша приближались, как будто расчищая перед собой дорогу. На спуске показался плотный четырёхугольник оркестра, поблёскивающий трубами, за ним нестройно колыхалась вытянутая колонна мобилизованных в окружении толпы, пёстрой от бабьих кофт и платков.
Васёнка хотела было подняться и подойти к дороге, но раздумала и только повернулась к наплывающим на берег людям. Глазами поискала Леонида Ивановича и нашла среди сизовато отблёскивающих на солнце бритых голов по чёрной форменной фуражке. Он размашисто шёл впереди, перекинув через плечо тяжёлый мешок, красное его лицо было возбуждено. Васёнку он не видел и не искал глазами – весело говорил с соседом.
Васёнка огрустневшим взглядом проводила знакомую чёрную фуражку, губы сами собой сжались в горестную усмешку.
Колонна упёрлась в дебаркадер, остановилась, и сразу внутри её замелькали бабьи платки; колонна будто разбухла, поползла по сторонам. Но оркестр, выстроившийся у трапа, снова грянул марш. Подчиняясь чётким звукам и бухающим ударам барабана, колонна подобралась, уплотнилась, двинулась по трапу, протискиваясь через узкое чело дебаркадера, стала растекаться по открытому пустому пространству баржи. Пространство было большое, но люди всё текли и текли. На барже не стало видать пустого места, а ещё много мобилизованных не убралось. Медленно они надвигались на дебаркадер, осторожно рассекая надвое сгрудившуюся у трапа толпу ребятишек и баб.
Васёнка как-то сразу увидела всех, на барже и на берегу, и в хозяйской, привычной заботе ужаснулась: «Скольких мужиков с земли сняли! Осиротили землю!..»
Уже последние ряды колонны продвигались мимо неё. Васёнка приглядывалась к ним, последним. И вдруг откинула голову, как будто напахнуло ей в лицо огнём, – глаза, знакомые, чуть косящие, смотрели на неё из-под козырька серой приплюснутой кепки. «Господи, откуда у него такая? Никогда не носил!» – подумала, теряясь, Васёнка. Макар протиснулся к краю, направился к ней, с хрустом ломая сапогами сухую еловую кору – весь песок был усыпан корой. В кулаках сдавив лямки заплечного мешка, встал так близко, что она слышала его тяжёлое дыхание, сказал в упрямости:
– Ты вот что, Васёна: туго будет – к матушке моей, Анне Григорьевне, переходи. Вместе с ней да Витькой переживёте лихую годину. Ты, Васёна, судьбе не покорствуй – жить надо! И дочке… жить надо… – С осторожностью он протянул руку, неловко провёл по тёмным Ларискиным волосикам да, видать, и ожёг душу этим неловким касанием – глаза закосили пуще обычного, губы вспухли, как от боли.
Васёнка всё видела. Неизжитая обида на Леонида Ивановича да ещё эта вот неловкая Макарова жалость вконец надорвали её сердце. Она подняла на Макара зачужавший взгляд, недобрым голосом спросила:
– Забыл, видать, что я – мужняя жена?..
– Забыл, Васёна. Забыл!.. Васёнку – помню. Всё другое – забыл… – Косящие глаза Макара глядели неуступчиво, и Васёнка, смятая его словами, не могла выстоять перед Макаровой близостью – губы её задрожали, она опустила голову. – Прощай, ладушка. Где мне ни ходить – со мной будешь… – Макар повернулся, пошёл. Ломалась и трещала под его сапогами кора, оглушая Васёнку. И, как тогда, при первой встрече на Туношне, она, прижав к себе Лариску, выпрямилась, охватила рукой тонкую шею, хотела крикнуть доброе слово вслед уходящему Макару, но голоса не нашла.
Васёнка видела, как вошёл в колонну Макар, как среди других, плечом к плечу, поднялся по трапу и пропал с глаз в затенённом челе дебаркадера. На барже она уже ничего не могла разглядеть: там – будто муравейник! И все головы и плечи, сколько их было на барже, расплывались и сливались в одну большую голову, прикрытую какой-то невиданной серой кепкой с широким козырьком.
Дымил около носа баржи, зачаливаясь, буксир.
Васёнка застылыми глазами смотрела под козырёк этой привидевшейся ей большой кепки, стараясь разглядеть под ней Макара, и наконец увидела такого, какой был он в тот вечер на Туношне: волосы, спутанные, как у цыгана, лоб чумазый, будто нарочно подкопчённый, улыбчивый широкий рот. Вот только глаз не могла разглядеть. Знала, что у Макара добрые глаза, а видела другие: будто сразу огня и холода плеснули в них, да так рядом и остались…
Лариска проснулась на её коленях, таращила глазёнки на дымящий чёрным дымом пароход, на баржу, полную людей, на Волгу, горестной дорогой уходящую за дальний край горы. И когда, отчаливая, буксир закричал долгим, раздирающим душу криком, Лариска подняла ручонки и ладошками закрыла Васёнке глаза – она не хотела, чтобы мама плакала снова.
3
– … Отвлечённого, всеобщего, многомиллионного добра нет, Никтополеон Константинович. Наше большевистское добро – это не дело вообще. Это – конкретные дела в конкретные сроки, для реальных людей, имеющих имена и фамилии. Я просил бы вас помнить об этом…
Степанов медленными тяжёлыми шагами ходил по кабинету. Стулов сидел в кресле перед столом, подтянутый, сдержанно-сосредоточенный, терпеливо слушал. Последние слова Степанова не вызвали в нём согласия, он осторожно возразил:
– А революция? Гражданская война? Наконец, сейчас идущая война? В исторических событиях отдельная личность, я имею в виду – рядовая личность, теряется в силу простого соотношения больших и малых чисел. Разглядывать единицу, когда сталкиваются миллионы…
– Да, мы учитываем борьбу классов, борьба эта определяет человеческую историю. Война – тоже столкновение классов, в этом вы правы. И всё-таки мы не должны, не можем забывать, что класс – это социальная армия, состоящая из своих солдат. И у каждого солдата этой армии – своё лицо и своё имя.
Совершал революцию рабочий класс. Но в революции был и Ленин, и матрос «Авроры», повернувший орудие на Зимний. В гражданскую сражались не просто красные и белые. И Фрунзе, и Чапаев, и Блюхер командовали не номерами армий и дивизий…
Стулов резко повернул голову, но взгляд его матовых глаз не поднялся выше подбородка Степанова. Степанов смотрел на Стулова, выжидая.
– Если вас смутило одно из названных имён, – сказал он подчёркнуто спокойно, – могу сообщить: на Востоке я воевал под началом Василия Константиновича Блюхера. Но мы отвлеклись от сути разговора.
В начавшейся войне важны не только моторы и бомбы. Каждый мотор, каждое орудие приводит в действие человек. И вся совокупность общественных отношений концентрируется в человеке, в его разуме. Главная наша сила, Никтополеон Константинович, – человек, каким сумели мы воспитать его за двадцать три года Советской власти.
Видите ли, борьба – это действие при высшем напряжении всех нравственных сил. Чтобы действовать, имея даже отличное оружие, надо быть убеждённым в правоте своих действий. Я лично верю в нравственную силу нашего человека, в победный разум его, в его убеждённость.
Вам продолжать работу здесь. Какое бы дело ни пришлось вам по необходимости утверждать, оно так же, как река с родника, начнётся с конкретного человека и питаться будет его убеждённостью…
«Зачем я стараюсь внушить ему своё понимание истин? – думал Степанов, осознавая, как смешны его заботы о том, что будет с областью после того, как займёт его место Стулов. – Мои комиссарские наставления нужны ему, как поводырь зрячему! Возьмёт дела в руки и ни слова не вспомнит из того, о чём я стараюсь сейчас! Диктовать ему будет практика военного времени, и поступать он будет сообразно её требованиям…»
И всё-таки, озабоченный уже новыми тревогами, он не мог так просто покинуть кабинет – посадить Стулова на своё место и уйти. Он передавал Стулову не кабинет, вручал ему целую область, жизнь которой ни в первый, ни в последний день его работы здесь не была ему безразлична. Он знал её живой, постоянно развивающийся, сложный организм и по-своему, сдержанно, но верно, любил людей и землю этой малой частицы России. Вопрос был решён, в ЦК удовлетворили его просьбу, он получил высокое назначение в Действующую армию и завтра должен вылететь в Смоленск, но живые нити сходящихся на нём дел всё ещё, и крепко, держали его в кабинете. Он не мог так сразу оборвать их, эти живые нити. По звонкам телефонов, на которые отвечал то он, то Стулов, он чувствовал лихорадочно-напряжённый пульс перестраивающейся на военный лад жизни и, надо полагать, безосновательно тревожился за область и за Стулова.







