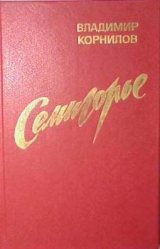
Текст книги "Семигорье"
Автор книги: Владимир Корнилов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 30 страниц)
«Наверное, то же чувствует мать, передавая подросшее своё детище на воспитание в другие руки», – думал Степанов, скрывая от Никтополеона Константиновича своё беспокойство. Будь его воля, он не поторопил бы это не очень приятное для него событие – с выдвижением Стулова разумнее было бы повременить. Но в сложившихся обстоятельствах другого решения он не видел. Он так и сказал расстроенной его отъездом Валентине: «Там – важнее сейчас. Главное – отбить, отстоять Россию. Остальное – потом. Всё, что начато, что не сделано, – всё потом. Пока здесь поработает Стулов…»
Это «пока» было слабым утешением для Валентины. Не успокаивало оно и самого Степанова.
Арсений Георгиевич видел, что Стулов лишь вежливо терпит его разговор и само его присутствие. По сути, они уже на равных, Стулов даже больше хозяин здесь. И только сохранённый им авторитет заставлял Никтополеона Константиновича выслушивать его и терпеливо ждать, когда он, Степанов, сочтёт нужным попрощаться и покинуть кабинет. В какой-то момент Степанов это понял и, умеряя своё бесполезное теперь беспокойство за дела, оставляемые Стулову, прошёл за стол.
Стоя, он просматривал и раскладывал в папки бумаги.
В репродукторе тихо звучали марши. Радио с первого дня войны стало как воздух в этом кабинете – не выключалось ни днём, ни ночью.
– Никтополеон Константинович, здесь у меня телеграмма Ивана Петровича Полянина. Он дал согласие принять «Северный». Это сейчас важно. Вы распорядитесь и проследите, чтобы дело довели до конца с его назначением и переездом.
Стулов молча кивнул.
Звучащий по радио марш оборвался. Настораживающая пауза затягивалась, и Степанов снова стал смотреть бумаги.
В репродукторе щёлкнуло. Медлительный голос диктора, напряжённый до дрожи, вошёл в кабинет: «Внимание, внимание! Работают все радиостанции Советского Союза. Сейчас будет передано важное правительственное сообщение… Внимание, внимание…»
Снова и снова диктор повторял уже сказанные слова, призывая людей к репродукторам. Степанов, ожидая, продолжал раскладывать бумаги. Мельком взглянул на календарь, с надеждой подумал: что важное сообщит сейчас радио об одиннадцатом дне войны?
События, складывающиеся на фронте, были для Степанова неожиданны. Красная Армия вынужденно и, видимо, тяжело отступала, знать об этом было горько. Степанов здесь, за тысячами километров, ощущал наступающую на страну силу, и с такой обнажённой отчётливостью, что казалось ему, навалившаяся на Украину, на Белоруссию и Прибалтику сила упёрлась в него и давила до хруста в костях, стараясь сломить его убеждённость и веру.
Степанов был из тех русских людей большевистской закалки, сломить которых извне идущей силой невозможно. Сломать физически – да: и большевики смертны. Но сломить духовно – нет! Такие люди – как невероятной прочности умело закалённые пружины: их можно жать до упора, пока виток не ляжет на виток. А там – или сокрушается металл, или сжатая внутренняя сила отбрасывает враждебную внешнюю силу.
В таком вот нравственном напряжении находился сейчас Степанов. Он не был подавлен тревожными известиями с фронтов войны. Не был растерян. Но недоумение и горечь он чувствовал, как чувствовали их все на огромном пространстве Страны Советов. Как все, он хотел знать правду случившегося отступления и со всё возрастающим чувством внутренней потребности жаждал услышать, что сила Красной Армии остановила и обратила вспять фашистскую силу.
Позывные радиостанции «Коминтерн» наконец замолкли. Разрушая томящую тишину, диктор объявил: «Перед микрофоном председатель Государственного Комитета Обороны товарищ Сталин».
Стулов резко сдвинул тяжёлое кресло, по-солдатски чётко встал, отошёл стол, до полной силы добавил репродуктору звучания.
Степанов задержал в руке бумагу, повернул голову, хотя теперь было отчётливо слышно всё: и сухое потрескивание радиоволн, и позвякивание графина о стакан, и короткое бульканье воды – Сталин не был спокоен.
Первые же слова, которые он сказал как будто с трудом и с особенно заметным грузинским акцентом, были для Степанова неожиданны своим доверительным, открыто тревожным тоном:
«Товарищи! Граждане! Братья и сёстры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!..»
Сталин говорит отрывисто, паузы в его речи и позвякивание стакана, взволнованность, которую он сдерживал, но не почувствовать которую было невозможно, заставляли забыть о всём прочем и слушать и ждать в напряжении каждое его слово.
Степанов без шелеста положил бумагу, медленными осторожными шагами вышел из-за стола, встал у окна, сцепив за спиной руки. На закаменевшего у репродуктора Стулова он не смотрел и не видел того, что было за окном, – он как будто один был со Сталиным и с пристальностью человека, переступившего порог обыденности и уже готового к самоотвержению, следил за словами, за интонацией, с которой слова произносились. Острым и сильным умом, привыкшим к самостоятельности, он взвешивал каждую сталинскую мысль.
Сталин овладел собой, говорил теперь, как всегда, спокойно и убеждённо. И Степанов, как бы собой, своими чувствами и мыслями поверяя каждое его слово, каждую его мысль, чувствовал, как Сталин подчиняет его разум своей уверенной логике.
Причины случившихся горьких событий, которые Сталин назвал, Степанов принял. Он было насторожился, когда Сталин сделал неоправданно сильный, как казалось ему, нажим на беспощадную борьбу с трусами и паникёрами – он не понимал и не принимал эту холодную жёсткость Сталина к партийным работникам и людям вообще. Он и теперь считал, что людям, народу, нужна не жёсткость предупреждений, а определённость и доверие и доброе напутствие на теперешний их ратный труд. Он даже поморщился в этой части сталинской речи. Но Сталин говорил, и Степанов всё яснее ощущал и скрываемую властным сталинским разумом глубину его собственной обеспокоенности, и действительные размеры нависшей над страной опасности. Он всё больше понимал Сталина и всё безоговорочнее соглашался с ним. Холодок тревоги, который и раньше ощущал он, вслушиваясь в сводки Совинформбюро, стал пронзительнее.
Опытом политического деятеля Сталин, видимо, понимал, что жестокой правдой своих слов до предела обострил тревогу за судьбу Родины в миллионах невидимых им, но внимавших ему людей. Как никто, он знал, что тревога – всегда сигнал к действию. И эту возбуждённую им внутреннюю тревожную готовность к действию он чётко направил на неотложные задачи войны.
Степанов слушал, как сжато, по главным направлениям Сталин излагал программу действий целого народа в защиту Отечества, и принимал, как своё, каждое его слово.
Ответственность за судьбу страны и любовь к своей России, которыми он всегда жил, его разум и чувства сейчас плавились и сливались, заполняя в нём всё до последней клетки. Почти физически он ощущал происходящую в нём сложную работу и чувствовал, как его прояснённые душевные силы выстраиваются для чётких действий.
Сцепив за спиной руки, он стоял в раздумье. Сталин сказал хорошую речь, политически мудрую. Если бы он, Степанов, искал слова напутствия народу, встающему на Великую Отечественную войну, он не нашёл бы лучших слов.
Глухой голос Сталина ещё продолжал звучать в нём. Степанов медленно, отчётливо, как бы стараясь врезать в память слова, повторял про себя: «Дело идёт о жизни и смерти Советского государства, о жизни и смерти народов СССР – о том, быть народам Советского Союза свободными или впасть в порабощение…»
«Вот она, правда, – думал он. – Жестокая, но правда. Не лёгкая победа – долгая и тяжёлая война. Новый смертный поединок, не армий – классов и вовлечённых в него народов. Снова друг против друга два разных мира, человек против человека, с полярной нравственностью этих разных миров. Вопрос: кто кого. Чему жить, чему умереть. Вот – правда. И сказал её Сталин. И пройдёт эта правда вместе с войной по разуму и сердцу каждого».
По радио звучала набатная, уже полюбившаяся Степанову песня:
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой…
Он прослушал до конца песню, подошёл, приглушил радио. Стулов всё ещё стоял прямо и неподвижно и глядел перед собой в пустоту кабинета. Степанов близко увидел его глаза, чуть сощуренные и напряжённые, и с удивлением заметил, что с глаз Стулова сошла матовость, даже показалось, что глаза Стулова влажно блестят.
«Да, – думал Степанов, возвращаясь к столу. – Всё упрощается перед лицом войны! Ещё вчера я огорчался неразумной самостоятельностью Кима, ещё сегодня заботился недовыясненными отношениями с Никтополеоном Константиновичем Стуловым, раздражался медлительностью одних, непониманием очевидных истин другими – всеми этими стычками характеров, самолюбий, воль и простого упрямства, которых пруд пруди в каждодневной работе! И всё казалось важным. И всё теперь слетело, как лист с дерева, идущего в зиму! Остались ствол, ветви – сама суть. Всё до предела просто! Всё сдвинулось на полюса, середины нет. Жизнь или смерть. Мы или фашизм. Россия или немецкий сапог на шее.
И нет тишины. Есть расплавленный войной край России. Истекающий кровью край страны. Там сейчас решается судьба всего нашего революционного дела. Судьба Кима, Валентины, всех, отправленных на войну. Моя судьба…»
Стулов снова сел в кресло, теперь он был сосредоточенно-задумчив, как будто тревожно прислушивался к чему-то.
«Может, не так он плох, как мне казалось? – неожиданно подумал Степанов, наблюдая Стулова и чувствуя перемену в нём. – Сейчас время действий, и Стулов может оказаться на месте…»
– Что же, Никтополеон Константинович, садитесь за стол и принимайте дела. Бумаги я разобрал. Эти решены, но пока под контролем. Здесь, в крайней папке, неотложные дела, решать которые придётся уже вам…
Степанов уступил место Стулову, прошёлся к двери, обратно.
Остановился у раскрытого окна, взглядом окинул привычный мир. Сейчас он видел и слышал всё. Видел долину Волги, будто распахнутую до широкого неба, – до самого горизонта Волга отсвечивала вытянутыми плёсами – и тёмные прочерки барж в солнечной ряби, и чёрные дымы неразличимых вдали буксиров – дымы, казалось, столбами поднимались из самой воды. Слышал попыхиванье и посвистыванье поворотных кранов, стрёкот лебёдок, тупые металлические удары, и буханье гулкого железа в грузовом порту, и ровный безостановочный шум мельзавода на берегу. Слышал цоканье подков, стук тележных колёс по мостовой, голоса проходящих внизу людей, смех и крики ребятишек на зелёном откосе, который метко кто-то прозвал «Муравьёвкой», – по воскресным вечерам здесь, по-над Волгой, гулял весь город, и людный откос со стороны реки действительно мог кому-то напомнить муравейник.
Вид за окном и звуки были обычными – он привык к ним за многие годы. Но под июльским небом тысяча девятьсот сорок первого года Волга с баржами, буксирами, лодками, колёсными пассажирскими пароходами казалась ему суетливее, звуки работ торопливее, голоса людей напряжённее. Чем прежде. И всё, что видел он сейчас, было роднее и необходимее, чем прежде, может быть оттого, что смотрел он на привычный мир за окном в последний раз…
Ну, что же! Всё, что надо, он сделал, дела передал. Стулов уже за столом. Пора. Надо ещё собраться в дальнюю дорогу!
Но уходить он медлил.
С неясным для себя чувством ожидания он наблюдал Стулова: крупная голова наклонена, сцепленные руки – на бумагах. Стулов сидел за столом в хмурой задумчивости. Степанову даже показалось – в растерянности. Может быть, только сейчас его властный и самолюбивый преемник почувствовал, какую ответственность он принял вместе с этим кабинетом!..
Степанову казалось, что сейчас Стулов готов услышать от него напутственное слово – война и Сталин стояли рядом, примиряя их.
– Никтополеон Константинович, под наше с вами прощанье ещё один совет или просьба – принимайте как хотите. – Степанов стоял посреди кабинета, широко расставив ноги, бугристый лоб его чисто выбритой головы был как будто нацелен на Стулова. – Берегите людей, Никтополеон Константинович! Сейчас миллионы уходят на войну. Большую работу, чем делали мы, вам придётся исполнять малыми силами. Людям здесь будет не легче, чем на фронте. Берегите их, Никтополеон Константинович, в труде и жизни людей смысл нашей работы! Вспышки настроений и неуравновешенность наших чувств тяжело отражаются на людях. Человек, особенно наш, русский человек, может перенести всё: невзгоды, холод, голод, раны. Однако ему не под силу грубость и несправедливость. Каждым вашим шагом, даже самым малым, должен руководить разум – ясный, справедливый разум. Говорит это вам опыт всей моей жизни!..
Степанов пристально смотрел в глаза Стулова и, пожалуй, впервые за время совместной работы с ним почувствовал удовлетворение от разговора.
Стулов поднялся, вышел из-за стола, умеряя басовую силу своего голоса, сказал:
– Воюйте спокойно, Арсений Георгиевич, не оглядываясь. Не подведём… Победного вам пути!
Он крепко стиснул Степанову руку.
4
Елена Васильевна нашивала вторую заплату на старые, теперь рабочие, замасленные Алёшкины штаны. Расправляя под иглой машинки материю и снова берясь за ручку и прищуриваясь от луча вечернего солнца, отблёскивающего на выпуклости колеса, она с состраданием поглядывала, как сын жадно и торопливо ел – ложкой сгребал со сковороды обжаренную картошку, запивал из кружки молоком. Он был по-домашнему в майке и трусах, на обожжённых солнцем красных плечах бугрились мускулы, голова прикрыта копной густых, лишь пятернёй расчёсанных волос, почему-то неровно выгоревших – на висках и по краям загорелого лба волосы были почти белыми.
Такими же были и брови, с остатками желтизны, колюче и как-то смешно встопорщенные. Алёша страшно похудел: на плечах и груди мускулы, а широкие запястья – одна кость, длинные тощие пальцы – как лапы у курицы, и сплошь в ссадинах. Это увлечение комбайнами вряд ли ему по силам…
– Алёшенька, ты совсем не бываешь дома! – упрекнула Елена Васильевна. – Смотри, на твоём лице остался один нос. Разве можно так истязать себя!
Алёшка возбуждённо смотрел на мать и улыбался белыми от молока губами.
– Не надо, мамочка, упрекать в том, что поправить не в наших силах, – говорил он, явно довольный той новой для себя жизнью, которой сейчас жил. – И моя лёгкая поджарость – всего лишь следствие. А причина… причину ты ведь понимаешь, мам?..
Да, она понимала причину этой Алёшкиной «поджарости» и весёлой возбуждённости. С восьми утра до четырёх дня он безотлучно в школе комбайнёров – собирает и разбирает и учится водить степные корабли. А прибежав домой, отмывшись и пообедав, несётся в город, через две реки, на обязательное свидание с Ниночкой! Любовь всё-таки пришла к нему, и в самое неподходящее время – второй месяц идёт война, сёла обезлюдели, везде суровые и молчаливые женщины, а он, будто иссушенный жаждой, всё видя и понимая, не может оторваться от своего первого чувства. Он знает, что скоро и ему туда, на край России, где война. Елена Васильевна боялась даже представить этот неотвратимый день и в то же время в душе гордилась Алёшей, теми мужественными его шагами, которые он сделал в первые дни, в первый же день войны!
Она ясно помнила всё, как будто день этот остановили в её памяти. Алёша, ещё не остывший от радостей выпускного школьного вечера и ночных гуляний в лугах, у Волги, где у костров он и его друзья, все эти милые мальчишки и девчонки, прощались с юностью, школой и друзьями, ещё счастливо смущённый отличным аттестатом и премией – огромным письменным прибором, который он с неуклюжей бережливостью выставил для обозрения на стол, и возбуждённый сознанием важности совершившегося в его жизни, ясный, устремлённый в будущее, как утро в погожий день, – Алёша ещё ничего не знал. Никто ещё ничего не знал. И вдруг – радио. И выступление Молотова. И сжались губы Алёши ещё пухлые, ещё детски радостно распахнутые глаза потемнели, и родное его лицо стало таким далёким, что она испугалась.
На следующий день вместе с Витей Гужавиным он пошёл в военкомат. Вернулся до неузнаваемости злой, сидел дома, смотрел газеты, ждал отца.
Разговор с Иваном Петровичем был в её присутствии, и, может быть, только тогда, слушая их разговор, она до конца поняла своего Алёшу. Он откинул газету отцовским жестом и обиженно заговорил:
– Папа, ты не мог бы убедить военкома? Человек получил право распоряжаться нашими судьбами и не хочет понять, что мы нужны на фронте…
– Вероятно, ты не один так думаешь, – ответил Иван Петрович, стараясь не показать, что у него тоже есть свои обиды. – Что тебе сказали?
– До осени гуляйте. Нужны будете – вызовем. Так сказали!
Иван Петрович сидел боком к столу с выражением какой-то грустной рассеянности на лице.
– Ты вот что учти, – сказал он, пальцами поправляя очки. – Тебя могут вообще не призвать в армию. У тебя сильная близорукость. Мне, например, отказали по этой самой причине…
Алёша тогда не разобрался в скромном достоинстве отца – слишком был переполнен своими оскорблёнными чувствами. Он почти кричал:
– Но у тебя ещё и сердце?! А я? Ворошиловский стрелок – раз, охотник – два, лыжи, бег, водный марафон… Нет, папа! Если меня не возьмут – умру от стыда. Убегу, уползу, с охотничьим ружьём уйду, а воевать буду!
Елена Васильевна почувствовала, как словно в пустоту упало сердце. Подумала. «И убежит. Она его не остановит. Даже Ниночка не остановит!..»
Иван Петрович, видимо, тоже понял, что сын не шутит. Примиряя его с необходимостью, сказал:
– Хорошо. Возьмут – поедешь… Что ты думаешь делать до осени?
– Об этом и хотел говорить!
Иван Петрович думал, пальцем отстукивая по столу.
– Занять тебя просто, – сказал он. – Надо другое: должна быть отдача, и – быстрая… Курсы открыли при МТС. Месяц учёбы, месяц работы – подойдёт?
Он вопросительно смотрел на Алёшу. Потом перевёл взгляд на Елену Васильевну.
– Как, Лен, одобряешь?
Она молча кивнула: всё-таки ещё два месяца Алёша будет рядом.
Так «на пока», до какого-то страшного, кем-то уже назначенного дня, определилась жизнь её Алёши.
А неожиданное признание Ивана Петровича её даже разволновало – от утаённого его порыва пахнуло боевой романтикой тех прежних, революционных лет!
Елена Васильевна с ровным нажимом крутила ручку машинки, сосредоточенно направляя под иглу материю.
Алёша отнёс сковороду в кухню и теперь пил чай. Низко клонясь к столу, он старательно закрывал чашкой рот и нос до самых глаз и нерешительно поглядывал из-под выцветших своих бровей. Он хотел и стеснялся говорить.
Нетрудно было догадаться, что томит её Алёшу.
Облегчая сыну шаг к откровению, она спросила:
– Как у тебя с Ниной?
Алёшка вспыхнул, закрыл лицо руками. Так сидел с минуту, не дыша, потом опустил руки, елозя чашкой по столу, сказал:
– Всё кончено. И виноват я сам… – Он сказал это мрачно и с такой безнадёжностью, что Елена Васильевна перестала шить.
– Что случилось? – спросила она встревожено.
– Не знаю, мама, не знаю… Я уступил своим низким чувствам, и вот… Скажи, мама, что делают девушки, когда их… ну, вдруг поцелуют?..
Елена Васильевна едва успела скрыть улыбку.
– Обычно убегают, – сказала она.
– Ну, а потом?
– А потом делают вид, что ничего не было.
– Правда? Это правда?! И это их не обижает?..
– Думаю, что нет. Это их смущает…
Алёшка вскочил, обежал стол, ткнулся горячим лбом в её шею.
– Ты у меня хорошая, мама! Я просто не знаю, что бы я без тебя делал!
Он скрылся в комнате и скоро появился в своём первом настоящем костюме – она сама, на свой вкус, выбрала костюм в областном центре и купила ему в подарок. К восемнадцатилетию. Три месяца назад.
Тёмно-серый костюм и белая рубашка-апаш очень шли ему, особенно к теперешнему его загорелому и похудевшему лицу, к его высокой, отлично сложенной фигуре. Похоже, он чувствовал это сам, – проходя мимо зеркала, взглянул на себя, засмеялся.
– Я, мамочка, пойду. Ладно?.. Боюсь, что у меня последний вечер: завтра практика, а послезавтра едем на уборку. Ты чувствуешь, кем становится твой сын? Я уже задумал, мама, – первый мешок заработанного зерна положу к твоим ногам. Сто раз спасибо тебе, мамочка! Я так переживал этот дурацкий поцелуй…
«Боже! – думала Елена Васильевна, провожая Алёшу взглядом. – Война и – поцелуи! И теперь эта работа на полях! Как всё сложно! И как всё просто. Как всё близко одно от другого!..»
5
К вечеру Женя Киселёва своим ХТЗ подтащила бывший разуваевский, теперь молодёжный «Коммунар» к краю поля.
Иван Митрофанович и два семигорских старика делали в поспевшей ржи прокос для трактора. Иван Митрофанович приподнял с головы белую полотняную фуражку, приветственно помахал, снова взялся за косу.
Витька спустился с мостика, пошёл прокосом, по-хозяйски осмотрел места разворота. Он был деловит, озабочен и кому-то явно подражал.
– Лёгкое поле, ровное. Для почина в самый раз, – сказал он, возвратившись. – С него начнёшь поутру, как обсохнет.
– Может, сейчас кружок махнём? – робко предложил Алёшка, ему не терпелось опробовать себя и комбайн в настоящей работе.
– На разворотах ещё не обкосили. Хлеба помнём. Завтра к семи, как из пушки! Ты извини, Лёха, но мне в мастерские – ещё два комбайна выводить… – Он перескочил канаву, трактом размашисто пошёл к селу.
Он изменился, Витька, с того мартовского метельного дня, когда, оскорблённый Капитолиной, ушёл из отцовского дома. Изменился не тем, что вырос, поокреп – по плечам и по росту он и Алёшка шли вровень, как два дерева из одного корня. По заботам обогнал – ушёл и от Волги, и от рыбалки, от вечерних разговоров про чувства и стихи. После работы в химлесхозе он как-то сразу перешагнул себя прежнего.
Возвратился и как будто прилип к Макару – весь ушёл в шестерни, поршни, шатуны, ремонтировал с ним трактора, машины, комбайны. И почти не вылезал из МТС: ходил измазанный, промасленный, с побитыми, неотмываемыми даже в солярке руками, довольный неизвестно чем. Витька нашёл какое-то новое измерение жизни и время отсчитывал теперь не часами – работой. Если ему удавалось втиснуть в день недельное дело, он шёл домой, под разуваевскую крышу, медленно переступая, будто в пудовых сапогах, с пьяной от радости улыбкой на толстых неуклюжих губах и нёс в пропахшей керосином руке обязательный пучок луговых ромашек – для тётки Анны.
Повзрослел Витька особенно за последний месяц, после того как Макар передал ему все ремонтные дела в обезлюдевшей МТС и ушёл на войну.
Алёшка сейчас завидовал Витьке – его рабочей хватке, озабоченности, с которой он жил. Кажется, он начал понимать, что взрослеют не годами – взрослеют ответственностью, когда принимают её на себя.
… Чистое утро быстро обсушивало травы. Когда Алёшка после короткой ночи, ещё сонный, подошёл к полю, трактор Жени Киселёвой работал на холостых, кидая в воздух тёмные дымки. Витька лазил по комбайну, оглядывал цепи. Он был в выцветшей майке-безрукавке, плечи и локти успел измазать.
– Глянь хлеба – не влажны? – крикнул он Алёшке, в озабоченности забыв его поприветствовать.
Алёшка шагнул в рожь. Рожь была высока – колосья клонились прямо к лицу – рукой нагнул, провёл по гладким шелестящим стеблям. Пропустил сквозь кулак тугие усатые колосья, слегка сдавливая, как показывал ему Витька, поглядел на ладонь – суха. Утопил руку в сорном травяном подросте – рука сразу овлажнилась.
– Рано ещё, Вить, – сказал Алёшка, показывая ладонь. – Рожь обсохла, а трава росная. И густая – забьёт!
Витька подумал.
– Время жалко! На первых кругах срез повыше поставишь… Заводи?..
Он и разрешал, и спрашивал, как бы давая Алёшке самому определить свою готовность к первой самостоятельной работе. И всё-таки, когда Алёшка поднялся на мостик и взялся за ручку мотора, обеспокоено скрестил на груди руки, стиснул плечи, наблюдая!
Мотор завёлся с третьей попытки, треском своим заглушил ровное урчанье трактора. Алёшка установил холостые обороты, положил на железное колесо штурвала будто чужие руки. Покрутил, опуская хедер и снова поднимая выше. Почувствовал, как от напряжения побежали струи пота из-под волос, по шее, на спину.
Женя оторвалась от трактора, с ключом в руке подошла к мостику, запрокинула голову, по брови повязанную косынкой, смеялась. Что-то крикнула, но Алёшка, оглохнув от треска мотора и волнения, не расслышал, в ответ только покрутил рукой около уха. Женя сказала что-то Витьке, теперь они смеялись оба, а Алёшка, словно прилипнув к штурвалу, всё пробовал, как опускается и поднимается хедер.
Витька влез на мостик, встал позади.
Впрыгнула на гусеницу трактора Женя, держась за кабину, ждала сигнала. Алёшка, замирая, будто падая с десятиметровой вышки в воду, включил рабочий ход. Комбайн загрохотал всем своим железным нутром, шевельнулось и как-то нехотя закрутилось над землёй мотовило. Алёшка установил газ, взялся руками за штурвал и, тяжко вздохнув и закрыв на минуту глаза, кивнул Жене.
До захода солнца попеременно с Витькой они управляли комбайном. Останавливались только выгрузить зерно из бункера да заправить баки – из МТС железные бочки с горючим подвёз им на подводе Иван Петраков.
Домой Алёшка добрался в сумерках. Чувствовал он себя так, как будто его самого пропустили вместе с рожью через утыканный железными зубьями барабан: не было места на теле, которое бы не ныло, рук не поднять, не выговорить слова.
Он как сел за стол, уронил голову на грудь, так и сидел, чему-то блаженно улыбаясь. Елена Васильевна чуть не с ложки кормила его и отпаивала чаем. Не пошёл даже на обещанное Ниночке свидание, не было сил пойти.
Ночью в неспокойном сне он как будто снова работал. Кинолента памяти крутилась то медленно, то быстро, то с конца, то с начала, и рожь плыла навстречу, и планки мотовила били по висячим колосьям и грубо клонили стебли к ножам. Рожь падала, текла в грохочущий позади барабан. Из открытой пасти шнека в бункер как будто горстями швыряли смуглое дождевое зерно. За комбайном тянулась по стерне полоса взбитой, желтеющей на солнце соломы.
– Здорово! Как машинкой по волосам! – возбуждённо кричал Алёшка, оглядывая убранное поле.
Витька сдержанно улыбался, чёрный от пыли, как плугарь на пахоте, Алёшка сам не узнавал своих рук, синей рубашки, чёрных штанов – всё в один густо-серый цвет. Стёкла очков тоже были серыми от пыли.
Женя, когда приходилось останавливаться, спрыгивала с трактора, подбегала такая же пепельно-серая, посверкивала глазами, хрипло кричала:
– Молодцы, соколики! Нашим бойцам этот хлеб – что от баб и детишков приветное слово: пуще всякого приказа на врага подымет! Снатужимся, соколы мои, с того поля ещё клин прихватим, а?..
Иван Митрофанович приходил из полей, что лежали в перелесках, – там луговой пестротой мелькали кофты и платки баб, вязавших снопы. Наклонялся над обмолоченной соломой, вытягивал сухие выбитые колосья, смотрел. Не тая удовольствия, хвалил: «Узнаю разуваевскую школу. Достойно трудитесь, ребятки!..»
Женя, как вчера, старательно таскала своим трактором Алёшкин комбайн, не ругалась, когда он отмахивал остановку, и, подшучивая, со старанием помогала ему отлаживать то ножи, то очистки. Только её заботой да неотступностью он выдержал до конца второй день работы.
Третий день Алёшка встретил без радости. Попробовал размять себя зарядкой – не вышло: руки вяло падали, ноги подгибались, тело протестовало против всяких, даже привычных, движений. Сел на кровать, с безнадёжностью смотрел в раскрытое окно на шелестящие берёзы. По шелесту он хорошо различал стоящий на воле август – к началу осени лист уплотнялся и берёзы шелестели жёстко, в шуме их, даже в ясные дни, слышалось тревожное ожидание беспросветных сентябрьских дождей, жестоких октябрьских ветров, ноябрьского холодного снега.
В это время он обычно брал ружьё и уходил на первые охоты, сначала в леса, потом – на озёра. Радость вольного беззаботного одиночества надолго селилась в нём.
«А почему… почему бы!..» – сам себе сказал он, и даже оторопь его взяла. Он повернулся, снял со стены ружьё, умостил на коленях, поглаживая холодные, отполированные его рукой до белизны стволы.
Елена Васильевна застала его в эту минуту душевной слабости. Увидела тоскливый Алёшкин взгляд, ружьё на коленях, всё поняла.
– Тебе хочется в лес? – спросила, сострадая сыну. Погладила его спутанные, жёсткие от пыли волосы.
– Может быть, не обязательно тебе так истязать себя? – сказала она. – Сходи в лес. Тебе ведь недолго осталось…
Алёшка, как в прошлой домашней бытности, привычно встрепенулся от доброго маминого разрешения – даже тяжесть накопленной усталости отхлынула под напором взбурливших приятных чувств. Азартно сорвавшись с места, он тут же остановил себя. Нет, он был уже не тот домашний Алёша, которому высший суд – мамино разрешение. Теперь в его душе был суд выше – суд собственного разумения. Погрустнев, он повесил ружьё на стену.
– Нет, мамочка, не могу. Нельзя, мам, – сказал он, убеждая не столько её, сколько себя. – Если я сдамся сейчас, что будет там? Там будет труднее. Там не будет «хочу». Там будет одно железное «надо»…
Он заставил себя дойти до поля, хмуро осмотрел комбайн, завёл. Женя поглядывала на него с беспокойством. Но Алёшка работал. Скулы его остро выпирали над стиснутым ртом.
Где-то пополудни Алёшка почувствовал, что руки его сползают с колеса. Рожь расплывалась и волнами плескалась перед глазами. От духоты, пыли и грохота всё настойчивее клонило его перегнуться через железные перильца и упасть в эти расплёсканные перед ним палящие волны.
Как-то зимой, на лыжном кроссе, где-то в начале десятикилометровки, он взял слишком нервный и поспешный темп и сбил дыхание – голова шла кругом, слабели ноги, всё было безразлично, даже победа. Одно желание владело им: соступить с лыжни, упасть в сугроб, хватить пересохшим ртом хоть горсть холодного снега. Он упал бы, если бы не вспомнил жёсткого напутствия Васи Обухова.
– Смотри, Полянин, собьёшь дыхание – не падай на колени. Зубами тащи себя вперёд. Найдёшь второе дыхание – можешь думать о победе…
В ту секунду отчаяния он устоял. Заставил себя сделать шаг, ещё шаг, ещё и вдруг почувствовал, как словно промыло его свежестью морозного дня: грудь распахнулась, чисто и легко вошёл в неё воздух.
Тогда он нашёл второе дыхание. Хотя и не победителем, но дошёл до конца.
И сейчас он не имел права сойти с лыжни.
Женя остановила трактор, влезла к нему на мостик, крикнула:
– Лёшка, лица на тебе нет! Айда в тени отлежись!.. Глуши мотор!
Алёшка, не отпуская штурвал, повернул серое с белым кругом губ лицо.
– Давай вперёд, Женя… Прошу тебя, вперёд. Не останавливай!.. – Он был слаб и очень силён в эту минуту!
Когда Женя, оглядываясь, двинула вперёд трактор и потянула комбайн на рожь, Алёшка почувствовал, как разом пробил его пот – душевная сила как будто вытолкнула одолевающую его физическую слабость.







