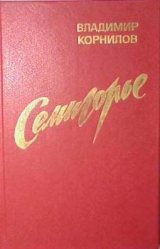
Текст книги "Семигорье"
Автор книги: Владимир Корнилов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 30 страниц)
Вдруг как будто раздался резкий звон будильника, сработал какой-то очень чуткий мозговой центр. Он как будто уловил идущую на него опасность, мысли замерли, чувства напряглись. Валентина уже второй раз с новыми и новыми, совсем уже незначительными подробностями настойчиво рассказывала о прожитых без него днях, о всех днях, от первого до сегодняшнего, кроме одного. И чем подробнее, чем настойчивее она говорила о всех других днях, тем всё ощутимее обозначался в её рассказе провал.
Он уже видел – чёрная пропасть зияла на месте того дня, о котором Валентина не хотела помнить…
Он и Валентина жили как две руки одного человека: появись на одной мозоль или ранка – другая в малейшем прикосновении почувствует то, чего не было прежде. В следующее мгновение они оба уже знали, что то, что старалось укрыть себя в одной душе, уже не было тайной для другой.
Он не видел своего лица, наверное, оно изменилось. Он видел другое. Он видел, как охватившее Валентину оживление, скорее возбуждение, которым она старалась затушевать провал, затушевать тот день, теперь медленно её покидало: побледнело лицо, опустились плечи, вытянулась и застыла на гладкой обтянутой чулком коленке её рука.
Валентина молчала.
У него была возможность не заметить то, что он уже заметил. Ох уж эти спасительные умолчания! Рождённые взаимной трусостью, животной изворотливостью, сколько лжи и грязи замуровали они в семьях плохих и даже приличных! Его семья жила без трусости. В их отношениях не было лжи. Он спросил прямо.
И Валентина сказала всё.
Он знал этого человека, блестящего, как новая портупея, с холодным взглядом крупных навыкате глаз. Адъютант командующего округом. Из молодых, напористый, явный честолюб. Кажется, протеже кого-то из высокопоставленных. Он видел знаки внимания, которые адъютант при случае оказывал Валентине. Видел. Мог вмешаться. И не вмешался. Он считал неприличным использовать своё высокое положение, да и времени не было вникать в суету жизни.
Думал, Валентина справится сама. Она не справилась. То, что казалось суетой, стало бедой.
Теперь он видел: он мог и должен был помочь Валентине. Всё равно он вмешался. Он ускорил события. Он решил сразу поставить все точки над «и».
Утром, в 9.00, он уже звонил командующему. Через два часа его блестящий адъютант отбыл в длительную командировку. Он мог бы это сделать раньше. Не пришлось бы придумывать и себе командировку в район поглуше, искать уединения. Хорошо и кстати объявился брат Борис: отъезд с представителем наркомата, по крайней мере, выглядел законно…
«О чём я думаю? – остановил свои рассуждения Степанов. – Неужто сейчас важно, что и как могут думать обо мне? Шатается собственная жизнь, а в голове – будто у барышни на выданье… Хитришь, Арсений! Боязно тронуть рану, щупаешь здоровые места. Где твоё мужество? Ну!
Что же, Валентина, надо решать. Для личных драм нам мало отпущено времени. – Степанов мысленно призвал к себе Валентину, посадил у костра. Он тяжело смотрел в то освещённое костром место, где могла сидеть его жена. – Ну, что скажешь? И ты, и я – оба знаем: поступок словом не сотрёшь. Спрашивать, как было – не смею. Хочу знать: почему было?»
Степанов не терпел половинчатых решений. Человек властного ума, он знал: после сегодняшней ночи он и Валентина должны умереть друг для друга, либо жить, как жили прежде, начисто забыв о беде.
«Почему беда всё-таки случилась? – думал Степанов. – Что повело тебя, Валентина? Порок? Любопытство? Слабость?.. Порок и Валентина? Смешно. Любопытство водит праздных. Валентина от своих школьных забот едва ли пару часов в неделю выкраивает на себя. Где тут быть любопытству!.. Слабость? Может быть. Если понимать слабость как уступку чувству. Но чтобы воспользоваться слабостью женщины, нужны обстоятельства. Обстоятельства, видимо, были, адъютант сумел их создать…»
Степанов представил адъютанта. Он наблюдал его однажды в театре, на майских торжествах. То, что адъютант был высок, подтянут, в ремнях и спортивных значках, то, что он поскрипывал и сверкал, как обзеркаленный бархатом сапог, ещё не выделяло его среди прочих военных. Его выделяла надменность и та настойчивость, с которой он искал внимания у женщин. Из президиума Степанов видел в боковой ложе Валентину. На противоположной стороне, тоже в боковой ложе, небрежно облокотясь, красовался адъютант. Его крупное, резких линий, восточное лицо, как прожектор к самолёту, было повёрнуто к Валентине.
Оно было так отчётливо освещено люстрой и настенными плафонами, так вызывающе нацелено, что Степанову – он помнил это и сейчас – казалось, что в пыльном воздухе, над солдатским строем заполнивших партер голов, он видит острый жёлто-синий луч, устремлённый от лица адъютанта в ложу, где была Валентина. Он видел этот луч, и ему казалось, что Валентина – хотя ни одним движением она не обнаружила себя – тоже чувствовала, что она освещена этим лучом, и знает, что, как освещённый в небе самолёт, может быть расстреляна.
Степанов тогда счёл недостойным себя и Валентины обратить внимание на эти гусарские забавы адъютанта. И когда в перерыве адъютант нарочито поклонился не ему, не областному руководству, которое было вокруг, а Валентине, Степанов только усмехнулся наивной дерзости молодого военного.
Теперь было впору усмехаться собственной наивности.
Кто-то сказал ему: «Женщины бредят кавказским темпераментом адъютанта…» Тогда он не придал значения и этим словам. Он отнёс их к тем женщинам, жизнь которых – модные шляпки, туфли, пикантные истории и анекдоты. Он отнёс их к тем, достойным сожаления, женщинам, которым незнакома высокая страсть полезных дел. Валентина по разуму была выше. Шляпки, туфли мало увлекали её; если ей приходилось слушать пикантные истории, она относилась к ним спокойно, с умной иронией, как к чему-то далёкому от её жизни.
«И всё-таки, – думал Степанов, – Валентина – женщина. Как у всякой женщины, у неё есть свои слабости…» Он горько усмехнулся: «Ищу причину, а причина ясна и стара, как мир, – Валентина могла просто полюбить этого блестящего молодца!..»
Чувства уязвлённого человека вырываются из-под власти разума, как злой джин из открытой бутылки. Степанов, так подумав о жене, уязвил себя оскорбительной мыслью. И тотчас вообразил виноградные глаза адъютанта, его короткие усики над красным насмешливым ртом, поставленные аккуратно, как знак минус, и, леденея от ярости, сблизил в своём воображении эти усики и красный рот с податливыми губами Валентины.
Толстый дубовый сук, бывший в руках Степанова, треснул, как выстрел. Костёр ухнул от влетевших в огонь обломков, искры брызнули в темноту.
Когда-то отец рассказывал Степанову про деда. Доверчивая бабка, не по своей воле, согрешила с проезжим торговцем. Дед не искал виновного. Отрубил кусок от смолёного каната, канатом, онемев от лютости, измолотил живое бабкино тело. Бабка отлежалась, изломанными руками снова приникла к крестьянским заботам. Но жизнь её на том и кончилась: с того часу и до самой смерти шагу не ступила без дедова огляда.
Степанов в минуту жгущей его чувственной боли близок был к тому, что век назад сделал дед. Он знал себя. Может быть, потому он и ушёл в глушь, чтобы, в одиночестве пережив то, что в подобной беде переживают все, не сделать того, что сделал дед.
Пальцами он придавил глаза, некоторое время сидел так, ожидая, когда физическая боль переборет боль нравственную. Наконец снова он мог рассуждать.
«Есть люди, – думал Степанов, ещё чувствуя тяжесть в голове и в сердце от только что перенесённого душевного и физического напряжения, – есть люди, которые беду переживают. Я должен беду рассудить. Если на втором тысячелетии человеческой истории самцы всё ещё рычат и дерутся из-за самок, услуживая своим животным инстинктам, то это только знак того, что страсти ещё одолевают разум. Но мы-то люди! Люди! И даже запутанную страстями жизнь должны судить разумом…
С Валентиной ясно. Как для всякой полюбившей женщины, для неё сейчас важно её чувство. Теперь ей не до меня. Не до сыновней привязанности уже взрослого Кима. Что ей до прожитой вместе жизни, если любовь всегда всё начинает сначала?!
Бери себя в руки, Арсений! Раз Валентина полюбила, есть только один разумный выход – в твоей власти не мешать, ей жить…»
Степанов невидящими глазами смотрел в то место, где слабым светом мерцал костёр. После того, что он передумал и пережил в себе, после той горькой, до отчаянности нелепой, как казалось ему, мысли, к которой он пришёл сейчас, он почувствовал себя опустошённым, как после долгого и бесплодного совещания.
Степанов медлили идти к стогу, хотя надо было немного отдохнуть рядом с Борисом и этим приятным пареньком Алексеем. Он знал: если он отойдёт от костра и ляжет, то горькая, противная его существу мысль, к которой он пришёл, станет решением. А решение, если Степанов принимал его, было для него бесповоротным.
Степанов поднялся, обошёл потухший костёр, от кучи наколотых Алёшкой дров отобрал охапку, полешки пристроил на угли аккуратным шалашиком. Влажные поленья грелись, выжимали на угли дымок, долго не вспыхивали. Степанов не чувствовал желания разворошить жар. Он пристроился у ствола ольховины и сидел в темноте, отрешённый от всего, что было вокруг.
Он ушёл в прошлое. Он вспомнил не тот день, когда на одном из диспутов его познакомили с молоденькой учительницей Валентиной, – в том, первом, знакомстве они были чужими и резкими, как подростки. Он вспоминал тот первый год, когда, как мужа и жену, их приютил в своей квартире его хороший товарищ.
Именно тогда что-то сломалось в его железной душе. До той поры для него, молодого горячего парня, женщин не существовало. Он уходил от личных чувств. Как от чуждых новой эпохе соблазнов. Он был Сыном и Воином Революции и считал недостойным себя и Истории мельчить свою жизнь.
Наверное, и молоденькая, насмешливая Валентина не заставила бы его изменить себе, если бы не тогдашнее безвременье, которое выбило его из твёрдого порядка жизни, – он только что сдал дивизию и с Востока был отозван в Москву для мирных дел. Позже, когда жизнь с Валентиной образовалась, он размышлял над загадкой огня, рождённого в их душах. Оба, он и Валентина, были как кремень и сталь, то и другое – твердь и холод. Положи их порознь – оба пребудут вечно и не обнаружат скрытого внутри огня. Но сдвинь сталь и кремень – и сделается чудо. Как? Почему? Какая сила делает живым огнём то, что, казалось, окаменело навек?..
Его прежнюю, твёрдую в своей разумности, жизнь заполонили чувства. Как в весенний разлив – только плеск волн и ни клочка земли! Ни стен, ни домов, ни людей – он и Валька. Даже солнца в ту весну не было в небе, солнце светило и грело из хмельных от любви Валькиных глаз!
Валентина первая отрезвела. Что подсказало ей, что безбрежная водополь пошла на убыль? Но, как уточка в пойменных лугах, она почувствовала беспокойство, увидя обнажающуюся твердь: конец брачным игрищам, время гнездовья, время забот. Он помнил, он и сейчас, из неуютной темноты осенней ночи, видел то отрезвившее их утро: Валентина, уже умытая и причёсанная, вошла в комнату – он ещё лежал на жёстком топчане – и остановилась у двери. Она как будто что-то вспоминала. Как будто спрашивая о чём-то, странно смотрела на него, и не подошла, и не села к нему, как обычно, ласково тормоша его грудь и призывая подниматься. Всё с тем же вопросом в глазах она прошла мимо его готовых подняться ей навстречу рук и осторожно тронула именную, висящую на стене шашку.
Она знала всю жизнь этой повитой серебром боевой шашки. И всё-таки спросила: «Когда тебе Блюхер подарил саблю? В двадцать первом?..» Он не сразу уловил в её мягком глуховатом голосе собранность трезвого человека и ответил весело: «Угадала, Валюшка. Ноябрь, седьмое число, год тысяча девятьсот двадцать первый…» – «А сейчас сентябрь и год уже двадцать пятый!»
Теперь он ясно различил в её тихом голосе упрёк. Он понял: их прошлое – на стене, их будущее – гора сдвинутых в угол, почти ни разу не раскрытых книг.
Он отрезвел её трезвостью.
Где-то на пятом году их семейной жизни была ночь, близкая к трагедии. В ту ночь они хоронили любовь. Лежали рядом, молча, как чужие, оба думали: «Что это, почему?» В ту ночь они не почувствовали того, что было всегда. Была близость, не было радости. То же было в другую ночь, в третью.
Было так, как будто кто-то из них умирал. По утрам Валентина плакала. Он знал, но утешить, не смел. Что бы он ни сказал, всё было бы ложь.
Он думал: любовь глушат изнуряющие ум дела, заботы, забирающие всё его время, – после промакадемии на его руках был первый в стране шинный завод.
Валентина думала иначе: она решила, что любовь умерла; быть женой по привычке она не хотела. Не ко времени обострилась болезнь Валентины, врачи не могли залечить коварные дырочки в её лёгких.
Больная, нелюбимая, бездетная, она собиралась уйти.
Тогда он впервые рассвирепел. Для него Валентина была одна, и на всю жизнь.
В тот хмурый год он привёз из Семигорья от Авдотьи Ильиничны, вдовы погибшего друга – комиссара, их общего приёмыша – десятилетнего Кима. Своевольный, диковатый, он доставил хлопот и огорчений. А Валентина ожила. Она удивила его: она оказалась умной и терпеливой матерью.
Ким, как вовремя подключенный проводник, соединил два до предела напряжённых полюса. Ток нашёл путь, напряжение упало, сокрушающая молния не сверкнула. Несколько позже, как откровение, явил им свой трезвый ум Сеченов. Валентина где-то раздобыла его труды. Книга легла на стол с аккуратно заложенными страницами. Он читал книгу и в досаде стучал кулаком по лбу: ведь не дурак, а не мог понять, что чувства, как всё на земле, тоже меняются во времени! Да, они были слишком честны, чтобы скрыть то, что их чувства изменились. Но он-то мог и тогда догадаться, что у любви есть своя юность, своя зрелость, своя старость!..
Спокойная близость теперь не пугала, не расстраивала их. Он помнил, как в один из вечеров Валентина сидела рядом, на диване, кутаясь в платок, и вдруг ткнулась ему в плечо и, сама, стесняясь своих чувств, призналась: «Я так счастлива, Сеня… У нас теперь какая-то человеческая радость… Прежде всё было не так: и наивно, и суматошно. Как будто торопились цветов нарвать, а что рвали – не смотрели…» Они сидели успокоенные, снова близкие, он благодарно гладил её горячую щеку.
Поленья пылали жарко. Степанов сдвинулся вбок от костра, спиной и затылком долго ладился к изогнутому стволу ольховины.
То, что случилось, то, что он пережил с начала ночи и рассудил с поспешностью человека, ещё болезненно чувствующего своё оскорблённое «я», теперь как бы осветилось и увиделось им с другой стороны, с той, которую всё это время, пока он находился во власти оскорблённых чувств, он не желал видеть. Он видел сейчас не ту Валентину, которая оскорбила его и себя. Он преодолел смутную стихию чувств и теперь снова видел ту Валентину, близкую, стеснительно-заботливую, мягкую и настойчивую, которая одна сумела разомкнуть его суровую, сознательно замкнутую жизнь.
«А не далеко ушёл я от своего деда, – с неожиданной враждебностью к себе вдруг подумал Степанов. – Только что кулаки придерживаю да канат не отрубаю. А внутри то же, та же слепота, тот же звериный позыв мстить. Мстить тоньше, хуже – холодом и одиночеством. Неужели всерьёз хватило думать, будто Валентина полюбила того пустого мерзавца? Валентина и – этот хлыщ с виноградными глазами! Кого поставил рядом! Для молодца – это спорт. Валентина – мишень. И выстрелил, подлец, расчётливо. Чёрт крутит меня «благородно» оставить Валентину в несчастье! За что? За обиду?.. Но в своей жизни сколько обид я знал. Неразумные людские слабости! Горечью, досадой наследили они в моём сердце вкривь и вкось. Я же не собрал на людей зла! Я же понимаю, прощаю им эти слабости!.. Почему же самого близкого мне человека я хочу казнить за подобную слабость?!
Всё ладно, когда судишь за себя, – думал Степанов. – Могу ли я судить за Валентину?.. А почему нет? Будто не хватит мне разума думать за другого, может быть, больше, чем я, оскорблённого человека! За себя думал дед, смолёным канатом ломая бабку. А подумать бы ему за другого?! Валентина сама убита тем, что случилось.
Почему я хочу помочь хлыщу-адъютанту разрушить то, что дорого вам с Валентиной?!
Валентина не была для меня чужой, даже в тот вечер, когда объявилась беда. Она не была для меня чужой, потому что сказала правду. – Степанов вспомнил её горячие пальцы, робко, как будто с виноватостью, касающиеся его рук, когда она, сидя на диване, рассказывала ему о прожитых в разлуке днях, и подумал: – Не стал чужим для неё и я…
Так вот, Арсений, ежели ты человек…» – Степанов смотрел в темноту. Темнота непроницаемо стояла за ближними освещёнными кустами. Если бы он не знал, что там, за этой плотной темнотой, если бы он видел только то, что сейчас было перед ним: куст с ещё не опавшими листьями, поникшую траву, среди травы старое берёзовое полено с порванной корой – он не мог бы думать, могло бы ему казаться, что на земле есть только этот освещённый костром круг в десять шагов шириной, тьма и неизвестность. И бесполезно стараться проникнуть за пределы того, на что он сейчас смотрит больными от бессонницы и душевной боли глазами, пока рассвет, не зависящий от его старания и воли, не даст заглянуть дальше этих освещённых огнём кустов.
Но Степанов знал, что там, за холодной, плотно подступившей темнотой октябрьской ночи. Он знал, что за кустами спокойно мерцает звёздами чистый плёс, чуть дальше вдаётся в плёс поросший камышом мысок – там стоял он зарю – за мыском, вдоль леса, тянется узкое озеро, за ним – пойменные луга и дальше, километрах в шести, его родина – Семигорье, его лихая колыбель – Волга. Он знал и потому видел город на берегу, на холмах, где была сейчас Валентина. Он мысленно видел весь простор России, до Владивостокского порта, куда ехал сейчас в вагоне дальнего следования щеголеватый адъютант. И оттого, что всё это он ясно прозревал своим разумом, оттого, что не доверился неверным чувствам и одолел в себе позыв живучей дикости, он мог теперь спокойно рассудить за себя и Валентину общую их беду.
Степанов ещё раз вернул себя в тот вчерашний, душный, как в великую сушь, утренний час. Он снова видел всё, как было. С ещё большей пристальностью он вглядывался сейчас в то лицо Валентины, с которым она подошла к столу, в то движение её руки, которым она подняла телефонную трубку, вслушивался в то звучание её голоса, которым она произносила слова.
До десяти утра он ждал этого телефонного звонка. Он знал, что адъютант позвонит Валентине. В десять адъютант должен отбыть, а победа его не была закреплена. В девять сорок семь он позвонил. «Попрошу Валентину Дмитриевну», – он сказал это торопливо, но твёрдо.
«А молодцу нельзя отказать в самообладании: ведь он не ждал услышать мой голос…» – Степанов подумал об этом, положил трубку на стол и вышел в комнату, где была Валентина. Он и сейчас не знал: поняла ли Валентина, что то, что случилось, ещё не решило её судьбы. Но то, что она сделает сейчас, вот в эту минуту, уже бесповоротно решит её судьбу, и судьбу семьи. Поняла ли это Валентина, или решение было у неё ещё до того, как она открылась в своей беде, но она быстро встала и необычайной для этого утра решительной походкой прошла в кабинет.
Дверь за собой она не прикрыла, из комнаты он видел каждое её движение. К столу она встала боком, лицом к нему, хотя удобнее ей было стоять к нему, Степанову, спиной: она хотела, чтобы он видел её лицо. Левая её рука легла на трубку и без колебания подняла к уху. «Слушаю», – сказала она обычным своим голосом, и только он мог уловить в звуке её голоса сдерживаемое раздражение, ему показалось даже озлобление. Она дождалась паузы в быстром говоре адъютанта и отчётливо и твёрдо, как говорила на уроках в классе, сказала: «Для вас, товарищ Горгиа, Валентины Дмитриевны нет – ни дома, ни в городе…»
В короткий миг, пока трубка ещё не легла на аппарат, Степанов, стоя в комнате, слышал, как нёсся из трубки рёв отринутого самца.
Валентина, не снимая руки с умолкнувшего телефона, повернула к нему своё подурневшее за ночь лицо. Глаза их встретились. Она смотрела без страха, с покорностью признающего свою вину человека. Взгляд её говорил: «Ты знаешь всё. Всё слышал. Для меня этого дня нет. Я вычеркнула его из жизни. Тебе решать…»
«Что же, я жалею Валентину?» – думал Степанов, удивляясь тому, что он теперь чувствовал. С той, вчерашней, ночи и до этих вот часов одиночества и тяжких раздумий его оскорблённые чувства были против Валентины, разум едва удерживал его взорваться каким-нибудь диким поступком. Теперь стало наоборот: он рассудил беду, и что-то переворотилось в нём – его чувства сейчас были за Валентину. И теперь разум настороженно следил за переменившимися чувствами, разум заставлял Степанова не доверять тому, что он сейчас чувствовал. «Что же, я жалею Валентину? – думал Степанов, не понимая себя. – Но как я могу её жалеть?! Нет, жалость прочь! Жалость – шаткая основа жизни. Суть в другом, можем ли мы с Валентиной быть как прежде? В этом суть: можем ли?..
Но почему – нет? Если Валентина нашла в себе силы перешагнуть через тот день, то всё другое – моё умение по-человечески одолеть беду! Ничего другого. Ни жалости. Ни унижения. Ни обид. Два близких человека вместе перешагнули беду. И всё. И – точка!»
Степанов оторвал затёкшую спину от жёсткого ствола, входя в реальность, оглядел с некоторым даже удивлением чёрную громаду леса и, правее, воду, мерцающую сквозь кусты звёздами.
Огонь в костре пал. Точками, как звёзды в воде, мерцали проглядывающие из пепла угли. Лишь с краю, на конце обгоревшей ветки, одиноко догорал похожий на лист огонь. Степанов ждал, он наблюдал, как трудно умирает даже это крохотное, бледное, как у свечи пламя. Когда пламя угасло, он поднялся, переложил из темноты на мерцающее огнище охапку хвороста. С хрустом прижал и, руками чувствуя жар углей и разгорающихся веток, давил на хворост, пока пламя не вошло в силу. С треском, гулом, дымом пламя рванулось вверх.
Степанов успокоил себя огнём. Он сидел, медленно оглаживая опалённые руки. Завтра к вечеру он вернётся домой. Как обычно, разденется, умоется с дороги. Подойдёт к Валентине, как всегда, поцелует её мягкие волосы на горячем виске. Будет трудно, как вообще трудно не помнить беду. Но в дом он войдёт, как всегда. И ничего из того, дедовского, не проглянет в нём. Валентина всё поймёт. Наверное, прикусит губы, отвернётся, чтобы он не видел её мокрых глаз. В последние годы она стала что-то излишне чувствительна к добру. Потом… Потом он ей расскажет, что было у него в Москве. Она ещё не слышала его исповеди.
Ни о чём не узнает Ким. Он боготворит свою маму Валю, его божество не должно померкнуть.
Потом, как всегда, вдвоём они попьют за круглым столом чаю, и… всё будет хорошо. Он сделает, чтобы всё было хорошо, как было прежде.
Степанов встал, раздвинул полегчавшие плечи, глубоко вдохнул спокойные запахи остывающей осенней земли. Он знал, что побеждённая беда останется здесь, у костра. Домой он возвратится с зарубцевавшейся раной. И даже если в какое-то мгновение боль вернётся и сдавит его сердце, всё равно это будет уже побеждённая боль: никто, кроме него, не будет знать, что она есть.
3
Алёшка приподнял голову, огляделся: он боялся проспать. Ночь ещё не ушла, небо мерцало звёздами, над плотной угольно-чёрной полосой бора ни проблеска зари. Вдали тускло, серпом, отсвечивало озеро, слышался спокойный утиный крик. Алёшка потёр занемевшую шею, покосился на рядом лежащих Арсения Георгиевича и Бориса.
«Рано ещё, пусть поспят», – по-отечески подумал он и закрыл глаза. Наверное, он заснул, потому что, когда снова увидел звёзды, Арсений Георгиевич и Борис разговаривали.
– … Война, Арсений! – тихо говорил Борис. – Гитлер торопит войну. Дураком не сочтёшь, понимает, что время за нас, Европу всю под сапог упрятал, теперь целит… Куда считаешь? Я не политик, но в стратегии кое-что смыслю. Думаю, Англия не так интересует немцев, как Россия…
– Что же наш? – голос Арсения Георгиевича был ещё тише, чем голос Бориса.
– Не знаю. Туда не вхож. Но что отец думает, в семье разумеют. Сделали много, потрясающе много. И всё-таки до тревожного мало, если сопоставить с действительными, даже не максимальными потребностями. Есть отличные машины – и на земле, и в воздухе. Но сам понимаешь: если надо тысячи, на сотне это «надо» не уместишь. И кавалерией танки не остановишь.
И не чья-то здесь злая воля. Скорее – доля, что досталась нашей России в наследство. Нам бы ещё с пяток Магниток да с десяток таких, как Кировский или ЧТЗ, – тогда бы легче дышалось! Народ на армию надеется. Но мы-то и через границу видим! Знаем, что наша сила в железо ещё не одета. В том, Арсений, и беда. Не мы – они определяют время. А где спешка, – Борис снизил голос до шёпота, – там неуверенность, не хочу сказать – страх перед неизбежным. И с военкадрами – сам знаешь. Чтоб Сенька по шапке стал – на это тоже годы нужны… Думаю, наш всё прекрасно понимает, всем возможным и невозможным хочет выиграть время…
Оба, Борис и Арсений Георгиевич, долго молчали. Кто-то из двоих, наверное, Арсений Георгиевич, – он лежал с краю, – тяжело сел, так тяжело, что качнулся стог. Наверное, он огляделся, потому что, не вставая, снова лёг. Алёшка не открывал глаз, но весь был слух.
Он слышал теперь медленный голос Арсения Георгиевича:
– Ты хорошо сказал: отец думает, в семье разумеют. Человеку, по Толстому, всегда не хватает пятисот рублей и одной комнаты. Старик был неправ: всегда не хватает времени.
– С людьми у тебя как, Арсений?
– Неплохо. И на заводах, и в колхозах. Хуже в руководстве. Не знаю, как у вас в наркомате, но откуда-то потянулась струя не шибко приятная… Помнишь, а может забыл? В полку у нас, не то под Иркутском, не то под Читой, китаец был? Хороший солдат. Прикажут ему: «Закрепляйся, ходя! Мы здесь, Колчак – там. Стреляй!» В окопчике сядет, как в чайхане, патроны разложит и – тут хоть земля расколись: белая конница, каппелевцы ли – с места не сойдёт! Сидит, стреляет, заряжает, стреляет. И не глядит: полк за ним, один ли на позиции. Голос начальника ему командир! Услышал: «Вперёд!» – встал, винтовку под локоть, идёт. И не глядит – поднялся ли полк? Нет полка – один пойдёт. Солдат хороший. Но – солдат, только солдат…
Мне второго прислали. Взамен Бурова. Помнишь его? Не прост, угловат. А умница! Новый – и молод, и напорист. И служить готов. А солдат. Как тот ходя. Учу: вниз, дорогой, вниз гляди! А он как во фрунте, и вместо шеи будто пружина – голова всё направо и вверх, направо и вверх!
Затеет полезное дело, а уже думает: будут ли довольны наверху тем, что он затеял? Не говорю о постановлениях, директивах, они для каждого – закон. Говорю о творчестве, о дерзании. В традициях большевиков стараться о деле. А слепое исполнительство, постоянная мелочная оглядка претит этим традициям…
– Погоди, Арсений. Почему ты думаешь, что того, кто выше, заботят не интересы народа? Партия одна, интересы тоже одни, где бы ты ни был – вверху или внизу…
– Не надо, Борис. Даже верную мысль можно довести до абсурда, если обобщить её без меры. Ты улови суть того, что меня тревожит. Я тревожусь тем психологическим поворотом, который вижу. Всё с большей тревогой замечаю, что многие из руководителей, чьё нахождение на должности в какой-то мере зависит от меня, начинают подлаживаться под моё мнение, под мой характер, даже под мои ошибки. Ты понимаешь? Даже под мои ошибки! Важным для них становится не само дело, а то, буду ли я доволен ими. Это же не по-большевистски, Борис!..
Теперь Борис сел, так же тяжело, как Арсений Георгиевич, – стог опять качнулся.
– Алёшка-то спит? – тихо спросил он. Разбередим неокрепшую душонку…
– Алексей, спишь? – окликнул Арсений Георгиевич.
Алёшка не ответил.
– Спит. Сон молодой, крепкий.
Борис закурил, лёг. В ночи долго пахло папиросой.
– Ты, Арсений, всё такой же. На каждый шаг тебе философию подавай! Не понимаешь или не принимаешь?..
Наше время – быстрых практических – подчёркиваю – практических дел. Мы рубим лес, рубим едва с краешку початую тайгу. Нам важно вырубить. Вырубить и построить – назови, как знаешь: дом, город, новое общество. Нам дорого время. Нам важен темп. А ты разглядываешь, правильно ли тот и другой держат в руках топор!..
– Не упрощай. Ленин обосновывал каждый, даже малый, шаг в жизни республики. И люди сознавали и принимали ту или иную необходимость.
– У нас сейчас Сталин, Арсений!
Оба долго молчали. Потом Арсений Георгиевич сказал:
– Всё-таки убеждён: субъективное не должно вмешиваться в политику. Ты веришь, что Василий Константинович[2]2
В. К. Блюхер.
[Закрыть]…
– Пустое спрашиваешь!..
Борис махнул рукой, отшвырнул окурок подальше от стога, закинул руку под голову.
– Давай, Арсений, к фактам. Индустрию свою, новую, в стране создали? Факт. Колхозы нас хлебом кормят? Факт. Народ лучше живёт? Это тоже факт. Не время. Арсений, размышлять. Надо доверять. И крутить своё рабочее колесо в полную силу.
– Одному думать, всем вертеться – такое разделение не по сердцу, если хочешь – не по уму. Мы на другом росли: всем думать, сообща решать, всем равно исполнять…
– Здесь ты, может, и прав. Но ещё раз говорю: от цели никто не отступил… Чёрт его знает! Я про себя иногда думаю: может, другого историей не дано? Дел неохватно, время спрессовано до минут. Дискуссии разводить перед лицом войны – головы на плаху класть!..
Знаешь, иногда задумаюсь и вижу историю человечества, как шла она, век за веком, эпоха за эпохой. И в этих страшно долгих веках – каких-то двадцать два года нашей послереволюционной России. Что они в истории? Минута, секунда, миг? А доя нас – эпоха, если судить по делам. А ведь по возрасту Россия наша советская до умиления молода, где-то ещё в юности, порывистой и увлечённой, – вон как Алёшка!
Ты не вслушивался в песни, которые сейчас поют?.. Простая гармоника наигрывает: «Спят курганы тёмные…» или «Катюшу» – и просто, и наивно, а сердце щемит, и хорошо от этой наивной и чистой простоты!..
Чайковский с шестой симфонией и Бетховен у нашей глубинной России ещё впереди. Зрелость и мудрость опыта накапливаются с возрастом. Не думаю, что у Алёшки на душе сейчас симфонии. Тоже небось гармошка с какой-нибудь падеспанью…
Борис замолчал. Никто из троих на стогу не шевелился. На земле было так тихо, что Алёшке казалось: он слышит, как звёзды, мерцая, поскрипывают в небе.
– Арсеня! – позвал Борис. – Давай нашу дальневосточную?!







