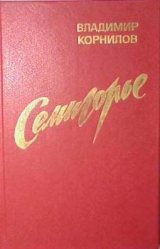
Текст книги "Семигорье"
Автор книги: Владимир Корнилов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 30 страниц)
– Прёшь, как сохатый, не догнать, – сказал Юрочка, улыбаясь. – Ну, как там, рассудили? Кесарю – кесарево…
Алёшка не ответил.
Кобликов уловил его настроение, шагал рядом молча, заложив руку за борт лёгкого пальто.
– Почему на собрании не был? – спросил Алёшка, смиряясь с присутствием Кобликова.
– А что, обо мне говорили?
– Нет.
– Тут, понимаешь, штука получилась. Дошло до матери: так, мол, и так, за прогул прижать хотят. Естественно, переполох. «Тебе не свято моё имя!» и так далее. Потом, как водится, принесла в школу справку. Вышло, что я ангиной болел. Мне, понимаешь, в самом деле глотать больно было… А на собрание не мог. Если честно, стыдно было бы тебе в глаза смотреть. Грешили-то вместе!.. Спасибо, Матвеич выручил, забрал на тренировку. Директору нашему звон вокруг школы тоже приятен. Лыжные кроссы скоро начнутся… Ну, тебя-то не очень? Жив?..
«Какой же ты! – думал Алёшка, задыхаясь от обиды на ту несправедливость, которую вот сейчас принёс с собой Юрочка. – Какой же ты…» – Алёшка повернулся к ветру, чтобы не видеть Кобликова и остудить горевшее от гнева лицо, и вдруг остановился.
– Слушай! – сказал он решительно. – Иди домой!
– Не хорохорься, у меня к тебе дело, – спокойно сказал Юрочка.
– Дело потом. Сейчас не могу. Понимаешь, ни о чём не могу!
Юрочка пожал плечами, поднял воротник пальто, посмотрел на Алёшку с сожалением.
– Завтра поговорим, что ли?
– Не знаю. Только не сегодня.
Алёшка повернулся, пошёл, почти побежал вниз, к парому. На пароме встал у перил, от всех отвернувшись, угрюмо смотрел на воду. Катерок, что тянул нагруженный паром, с трудом одолевал течение и ветер. Волны били в широкий борт, паром вздрагивал и как будто оседал от ударов. Ветер вырывал чёрный дым из закопчённой трубы, нёс над рекой, вдавливал в провалы волн. Но катерок упрямо тянул, всё ближе подваливал к левому берегу с мокрыми песчаными косами и вётлами на кромке полей.
Алёшка, занятый своими переживаниями, не сразу почувствовал, что рядом кто-то стоит, он подумал, что это Юрочка, не поладив со своей совестью, догнал его. Резко повернулся, готовый на злые слова. Рядом стояла Зойка, обратив к нему круглое, красное от ветра лицо, и всматривалась в него встревоженными глазами.
– Витька сказывал… Тебя обсуждали, да?.. – Зойка улыбнулась виноватой и жалкой улыбкой. – А я туточки призадержалась. Шла из города.
Как Алёшка ни был душевно смят, обижен и зол, он рад был увидеть эту всегда чем-то смешную, сейчас такую трогательную в своей привязанности к нему девчонку.
– Зоинька! – сказал Алёшка, сам удивляясь ласкающему звуку своего голоса. – Как хорошо, что ты здесь! Только ты ничего не придумывай. Я всё понимаю. И давай вот так: постоим рядом и помолчим. Ладно?!
– Давай, Алёша! – обрадовалась Зойка. – Рядом и помолчим! – Она встала близко и, как Алёшка, молча и серьёзно стала глядеть на воду.
– А ты знаешь, Алёш, у тётки Кати летось корова клевером объелась. Лежит на боку, живот как цистерна, и глаза уж закатывает. Ужас! Фельдшера привезли, он трубкой ей живот как проколет! Оттуда дух как пойдёт! Весь плохой дух вышел, живот стал как был. И корова ничего, оздоровилась…
– Зоинька! – Алёшка с трудом сдержался, чтобы не засмеяться. – Мы же договорились!
– Ой, я забыла! Ну, ладно, будем молчать.
Паром снесло вниз, и катерок теперь медленно вытягивал вверх, к причалу, вдоль недалёкого берега. Дым густо накрывал людей и лошадей на пароме, приходилось отворачивать от дыма лицо.
– Алёш, а ты знаешь, в Вал… в Вал… в Валнавине… – Зойка никак не могла выговорить «р». Алёшка, закрываясь от дыма воротником куртки, смеясь, посмотрел на Зойку и только теперь увидел, что у Зойки дрожат посиневшие губы, что она в лёгком платье и шея у неё сплошь покрыта гусиной кожей.
– Ты же замёрзла! – крикнул Алёшка, запоздало казня себя за то, что, занятый собой, совсем не думал о Зойке. – Ах, какая ты! – Зойка смотрела на Алёшку и счастливо улыбалась непослушными губами. – Ну-ка, быстро сюда!.. – Алёшка распахнул куртку и упрятал всю Зойку с её озябшими плечами: девчонка сжалась и замерла под его руками, как пойманный воробушек.
Он бережно придерживал Зойку, стараясь согреть её теплом своих рук, подбородком упирался в витой бублик её тугой косички и с вызовом смотрел поверх её головы на томящихся на пароме знакомых и незнакомых людей. Под вызывающим взглядом он скрывал смущение и благодарную нежность к этой удивительной девчонке из Семигорья.
К Семигорью они не пошли мощёным трактом, а свернули на тропку и вдоль Волги, краем поля, побежали, стараясь согреться. Зойка бежала, по-девичьи крылышками расставив руки, и заглядывала в лицо Алёшки сияющими глазами. Алёшке было по-детски легко и радостно рядом с Зойкой, среди простора и зелени озимого поля. Он как будто забыл, что в его жизни есть ещё не распутанные вопросы, что есть Вася Обухов и Юрочка Кобликов, что впереди у него ещё много обид и душевных тягот, которыми предстоит переболеть. Он не хотел ни о чём помнить. Он только знал, что давно не было ему так легко, как сейчас, рядом с этой ясной девчонкой с чёрными сияющими глазами.
Под нахмуренным небом они бежали, обгоняя друг друга, счастливые от того, что каждый из них не один.
– Мухи! Белые мухи! – кричала Зойка, и прыгала, и, как бабочек, ловила первые быстрые снежинки. И Алёшка, разгорячённый бегом, тоже прыгал и пытался поймать хоть одну неуловимую снежинку на радость Зойке.
Счастливая Зойка убежала в гору, к далёким домам, чернеющим острыми углами крыш.
Алёшка шёл к Нёмде, удивлялся перемене, которая произошла в нём, и громко кому-то говорил: «Ну и день!.. Года не хватит разобраться в том, что сегодня я потерял, а что нашёл!..»
2
– Алёшенька!
Алёшка поднял голову, опять уронил на подушку.
– Ой, мама! Я так спать хочу!..
– Что поделаешь! Надо…
Алёшка сдвинул с себя одеяло, свесил с кровати босые ноги в кальсонах с развязанными тесёмками, хрустнул коленями, встал на холодный пол. Расправляя мускулы, потянулся, зевая, и тут же, прижав к груди руки, бросился к окну. Огород, кусты, забор, деревья – все одинаково белело в предрассветном сумраке. Снег! За ночь первый снег покрыл землю!
Алёшка запрыгал по комнате, выкрикивая: «Снег, снег, снег…» Сонливости как не бывало! Быстро до пояса умылся, оделся. Торопясь и поглядывая в окно, поглотал на кухне прямо со сковороды пшённой каши. Забежал в комнату. Схватил портфель, надел пальто, кепку и выбежал на двор. В глаза ударило белизной, он зажмурился, вдохнул свежий запах зимы и, тихо смеясь, ступил на снег.
Берегом Волги он шёл к перевозу. Волга лежала в белых берегах. И на всю её ширь и длину, насколько охватывал глаз, резко пролегла граница между её извилистыми берегами и водой. Тяжёлая вода медленно двигалась, будто задрёмывала у белых окраин, в её остывающей глубине не угадать было и следов бывшего лета.
Алёшка шёл, бережно опуская ноги на покрытую снегом тропу. Он делал шагов двадцать и оглядывался: с каким-то мальчишеским старанием он заботился о том, чтобы первый в эту зиму его след на снегу был прямым и красивым.
У парома нос к носу Алёшка столкнулся с Обуховым и Витькой Гужавиным. Он знал, что оба они каждый день возвращаются из школы домой, в Семигорье, но встречался с ними на переправе редко. Они жили по разному графику: Гужавин и Обухов обычно возвращались из школы много позже Алёшки. Теперь у паромных сходен они сошлись, как у дверей дома, и Алёшка даже замешкался, не зная, как держать себя после вчерашнего дня.
– Здорово. С зимой тебя! – первым сказал Витька и, пропустив Алёшку, следом за ним ступил на паром. Обухов молча кивнул. Он держался замкнуто, похоже, он ещё не определил своего отношения к тому, что случилось на собрании.
Витька сунул за пазуху учебники и тетради, завёрнутые в холстину, придерживал их подбородком. Он стеснялся своих длинных рук, торчащих из коротких рукавов старенького пальто, и держал руки в карманах. Он был задумчив, рассеянно поглядывал на Алёшку, как будто хотел о чём-то спросить и не решался.
Под тарахтенье катера паром плыл к городу. Все трое стояли у заледенелой, покрытой снегом опалубки, молча разглядывали Волгу. На время ледостава семигорские и поселковые старшеклассники переезжали в город, в общежитие, скоро всем троим жить под одной крышей, и Алёшка поймал себя на том, что впервые думает о самом тоскливом для себя времени без уныния, даже с ожиданием каких-то новых, необычных открытий. Рядом он видел прямой, твёрдый, как будто застывший профиль Васи Обухова и, странно, не ощущал в нём вчерашнего врага.
Обухов, не отводя взгляда от реки, вдруг спросил:
– Как у тебя с лыжами, Полянин? – и уточнил, заметив удивлённый взгляд Алёшки: – В кроссах участвовал?
– Нет. На охоте выхаживал километров по двадцать. А что?
Обухов, не отвечая, смотрел на Гужавина.
– Пойдёт у него с лыжами? – спросил он Витьку.
– Потренировать, так пойдёт… По плаванью он бы его запросто. Обухов и Гужавин разговаривали на языке, понятном им, но ещё непонятном Алёшке.
Алёшка догадывался, что разговор имеет какое-то отношение к давней их заботе, и терпеливо ждал, сочтут ли они его лишним в этом разговоре или признают за своего. Под равнодушием он старательно скрывал неясное ему самому волнение.
– Тут вот какое дело, Полянин, – Обухов хмурился, но своё отношение к Полянину он, видимо, определил и действовал теперь напрямую. – Дело такое. Перед Новым годом начнётся общегородской лыжный кросс. Надо, чтобы кто-то из нас победил Кобликова…
Алёшка откинул голову, и Обухов заметил и настороженный прищур его глаз, и ироническую усмешку на губах, но подчёркнуто не обратил внимания на эти знаки затронутого самолюбия.
– Я не верю в героя без скромности, Полянин! А Кобликов на всех плюёт из своей рамки героя. Исключительность положения вредит ему, как лишняя вода земле. Надо сбить его с чемпионства. Дело не лёгкое. Пробовали обойти его и в беге, и в лыжах – не вышло. На лыжне он бешеный. Техникой бьёт. И расчёт у него точен, как у бухгалтера… Не возьмёшь на себя это дело? – светлые умные глазки Васи Обухова без улыбки, в упор смотрели на Алёшку. – Знаем, что дружишь с Кобликовым. Вот и спасай друга!
Алёшка навалился на заледенелую опалубку, глядел, как паром давит и отваливает в сторону тяжёлую воду. Он вслушивался в медленный, округлый басок Васи Обухова и не знал, радоваться ли тому, что Обухов звал его на помощь. Случись такой разговор раньше, Алёшка, наверное, встал бы на дыбы – он не потерпел бы вмешательства в свои отношения с другом. Но между «раньше» и «теперь» было «вчера», было собрание, был Юрочка с потрясшей Алёшку изворотливостью. И это «вчера» стояло не между ним и Обуховым – оно стояло между ним и Кобликовым.
– Как смотришь на такое дело?..
Алёшка повернулся к Обухову. Какое-то время они смотрели в глаза друг другу: Алёшка испытующе, Обухов спокойно, даже как-то тяжеловато, на его упрямо выпирающей губе на этот раз не было обычной, раздражающей Алёшку, усмешки. Оба выдержали взгляд, оба улыбнулись: Алёшка во всё лицо, Обухов сдержанно, углами губ, – и эти их улыбки были как пожатие рук.
– Надо так надо, – сказал Алёшка. – До Нового года ещё далеко!
– Не так уж и далеко! – сказал Обухов. – Ты, Виктор, оформи Полянина в спортшколу. А насчёт особых тренировок я договорюсь. Порешили? – Вася Обухов не скрывал удовлетворения, на минуту посветлело и лицо Витьки. Он пошевелил медлительными крупными губами и посмотрел на Алёшку, и опять Алёшке показалось, что он хотел о чём-то его спросить и не спросил.
Сошли с парома. Охваченные первым морозцем, все трое быстро пошагали улицей в гору.
Алёшка, взбодрённый близостью этих простых, немногословных и терпеливых семигорских парней, ощущал незнакомую и приятную прочность оттого, что по одну руку от него шёл Обухов, по другую – чем-то всегда влекущий к себе Витька Гужавин. Он легко шёл, радостно пружинил ногами и не замечал в своей душевной приподнятости сумрачный, обращённый в себя, взгляд Витьки. Он не знал, что по этой ведущей к школе, знакомой им до каждого камня и забора улице, покрытой сейчас весёлым снегом и уже наезженной обозами, ходить Витьке оставалось недолго.
ПЕРЕПУТЬЕ
1
В метельный мартовский вечер Витька постучал в дом к Макару Разуваеву. Услышал глухой за дверью голос тётки Анны:
– Входи, если добрый человек! Открыто…
Витька как был – в худых кирзовых сапогах, тайком взятых с повети, в старом полушубке и в заношенной батиной кепке с длинным козырьком, с мешком за спиной, в котором лежало полкаравая хлеба, рубашка, пошитая бабкой Грибанихой, да ещё не сношенные ботинки из кожаных лоскутков, купленные ему Васёнкой к прошлой осени, – как был, как собрал себя в дальнюю дорогу, так и шагнул в Макарову избу, встал у порога, с красным лицом, от кепки до штанов забелённый липким мартовским снегом.
Ни Макару, ни его матери, Анне Григорьевне, не пришлось гадать, с чем пожаловал гость: одежда и безнадёжность в лице яснее ясного говорили, что парень собрался не до их избы.
– Далёко? – спросил Макар.
– В город, – глухо ответил Витька.
– И надолго?..
– На всю жизнь…
Макар положил на пол колесо от прялки, с колен сбросил стружки. Заметая сор к подтопку, попросил:
– Мама, соберите поесть. Самовар я поставлю.
Витька угрюмо запротестовал:
– Не буду я. Я проститься… – Он нахлобучил кепку до глаз.
Макар поставил к умывальнику веник, распрямился.
– Иди, – сказал он спокойно. – Только добрые люди выходят в путь с утра.
Он подошёл, снял с его плеч мешок.
Витька сидел за столом, сдержанно ел, не поднимая от тарелки глаз. Макар молчал. Тётка Анна, тоже подсевшая к столу, пыталась расспрашивать его, но Макар с укоризной взглядывал на мать, и Анна Григорьевна замолкала – замолкнет и, как будто осердясь, махнёт на Макара рукой.
Макар помог матери убрать со стола, сел достругивать колесо.
Витька отогрелся, сидел согнувшись на лавке, слушал гул метели за окном, думал, что было бы с ним, не вернись он с поля обратно в село. Он хотел пробиться до леса, переждать метель где-нибудь под ёлкой, но понял, что такую метель ему не осилить. Воротился в село. Но бездомный и среди домов погибает. До батиной избы он добрёл, постоял у плетня, прикрываясь рукавом от снега. Окна и на ветру светили, не мигая. А дом среди белых сугробов был чёрен, как уголь на тарелке.
Капитолина не простила ему поднятую на неё руку. Через два месяца после пасхального дня Васёнка собрала свою одежду в узел, ни с кем не простившись, ушла в дом к леснику Красношеину. Капитолина взглядом проводила Васёнку, встала у порога, долго смотрела на Витьку, будто издали мерила его рост, потом пошла за печь и повесила на стену медный, пробитый молотком таз. Батя не раз брался залатать в тазу дно. Капитолина противилась и упрямо вешала таз на стену, как картину.
Как-то, уж в новый год, они остались одни. Витька занял угол стола. Подклеивал для Зойки порванные страницы в старом учебнике. Капитолина ходила по избе, прибирала, что было не на месте. Поправила на комоде вязаную дорожку, перекинула Зойкину кофтёнку с лавки на бывшую Васёнкину постель. И то от окна, то из угла всё поглядывала на Витьку.
Повозившись у печи, вдруг подошла и поставила на стол тарелку.
– Слышь, книжник, съешь – мёду дам… – сказала она и перекинула через плечо полотенце, навалилась на стол, с кошачьей настороженностью ожидая, что он станет делать.
Витька поднял голову. В первый раз так близко он видел глаза Капитолины: тёмной, как осока, зелени, с россыпью чёрных пятен по округлым краям, они таили в себе что-то от этой режущей травы.
– Ешь, мёду дам! – Капитолина коротким пальцем показала на стол. На белом блюде чернел обломанными краями сизый от пепла уголь. Витька чувствовал, как немеют у него скулы, на висках с болью проступает холодный пот.
Капитолина дрожащей от волнения рукой двинула к нему блюдце, глаза её лихорадочно блестели. Она уже не могла говорить, захлёбываясь словами, шептала:
– Ешь! Мёдом накормлю. Сметаны дам. Баловать буду… Покорись! Руке моей покорись!..
Витька непослушными пальцами доклеил в книге страницу, сорвал со стены старый батин полушубок. Через огороды, по глубокому снегу, падая, поднимаясь, снова падая, он бежал к лесу.
Он не помнил, как оказался у дома лесника перед собачьей будкой.
Красношеинский пёс Кулак, оскалясь, рычал на него. Чёрный на белом снегу, он был как уголь на блюдце, и вся его обида и злость выплеснулись на цепного лесниковского выкормыша. Он отломил от плетня дрын и остервенело заметался перед холёным, с круглым загривком псом. Когда Зойка, торопясь по снегу, подбежала к нему, пёс уже не рычал, дурная пена ошмётками слетала с его оскаленной пасти. Он судорожно дёргал цепь, стараясь достать Витькино горло.
Зойка с ходу дёрнула за ворот с такой силой, что он сел в снег. Выхватив у него из рук палку, в ужасе глядя ему в лицо, она кричала: «Ты что это, дурень несчастный?! Зверюга проклятая!» Она замахнулась палкой, вдруг упала на колени и в голос заревела, клоня к коленям лицо.
Витька поднял Зойку, отряхнул, виноватясь, положил руку на её голову. Он ничего не мог объяснить. Он сам не знал, как одурел звериной лютостью. Видать зло, как зараза, кидается с человека на человека…
– … Постелить тебе, спрашиваю?..
Витька очнулся от голоса Макара. Макар держал в руках готовое колесо, смотрел на него косящими глазами.
– Какой тут сон, – Витька усмехнулся скорбно. – Может, вам помочь?
– Пожалуй, помоги.
Макар засветил фонарь, сунул в карман коробок спичек. Витька, обутый в большие Макаровы катанки, сенями прошёл за ним во двор. Крытый, как у всех, двор Разуваевых был крепок, даже метель не продувала стены, – но пуст. Ни разгородок, ни скотины, даже коровы нет. Только потревоженные светом куры тягуче проскрипели вверху скрипом колодезного журавля.
– Так безо всего и живёте? – спросил Витька.
– Так безо всего и живём, – ответил ему Макар.
– Как же так?
– Сам видишь: мать стара, у меня – другие заботы. Ничего, обходимся… Тут у меня другое богатство!
Макар навесил фонарь на крюк. Витька увидел верстаки, по стенам за брезентовыми ремнями – пилы, стамески, напильники, киянки, коловороты…
Стружками из корзины Макар растопил печку-самоделку. В железной трубе, длинным коленом уходящей в стену, загудело, от быстрого жара труба стала потрескивать.
– Что ж, давай работать. Держи станину. Покрепче… Мать о старушках печалится. Зима, говорит, длинная, без работы старым – что в гробу. Лажу им станочки…
Макар подтёсывал, соединял пазы, завёртывал гайки. Витька помогал и заметил, что Макар одну и ту же работу делает то правой, то левой рукой.
– Левой-то вы как ловко! А ведь вы не левша! – сказал он.
– И левша и правша, – засмеялся Макар. – Запас прочности создаю!.. Подай-ка полешко. Поровнее. Тут клином прижать надо, – Макар отесал клин, рассчитанным ударом загнал в паз станины. – Теперь ладно, – сказал он. – Человеку, друг, прочность тоже нужна. Случись что – при малой-то прочности тебя быстро в стружку завьёт! В жизни есть ещё случайности…
Обострившимся в беде чутьём Витька угадал, что было за словами Макара: Макар говорил с ним, а неотступно думал о Васёнке.
– А вы сказывали – судьбы вытруживают… – дрогнувшим голосом сказал Витька.
Макар всадил топор в берёзовый кругляк, свесил с колен руки и так сидел некоторое время, помрачнев лицом.
– Ты что думаешь, на её судьбе точка поставлена? – сказал он, глядя на Витьку с внезапным отчуждением. – Что от случая – не бывает прочным. Ты это запомни!
Витька хотел сказать Макару, как Капитолина хитро и властно распорядилась Васёнкиной судьбой, но Макар вдруг как-то устало попросил:
– Не надо, Витя. Моё горе – сам огорю…
Молча они собрали станок. Макар опробовал, поставил к верстаку. Плотно закрыл у печи дверцу, отмёл в сторону стружки. Посветил фонарём Витьке, чтобы он не споткнулся на крутой лесенке, в сенях задержался.
– Домой ни в какую?
Витька испуганно глянул на Макара, опустил голову:
– Нету у меня дома, Макар Константинович…
Макар, подняв фонарь, вглядывался в лобастое, упрямо нахмуренное лицо Витьки.
– Ну, ладно… – сказал он.
Макар уложил Витьку на свою постель, поверх одеяла накрыл тулупом.
– Тулуп не скидывай, – сказал он. – К утру избу выдует… Ну, спи. Утром вместе помудрим… – Он потрепал его по волосам и ушёл в кухню.
Витька лежал, выпростав руки на тулуп, на ум прикидывал завтрашний день. Дальше чем до райцентра, за Волгой, он не ходил и даже не знал, как долго добираться ему до большого города. Говорили, на хороших лошадях дня три, с обозом – все четыре.
«Ладно, март не зима, дорога – не вопрос, – думал Витька. – Город вот! Там, говорят, в домах заплутаешься! Да и чужака небось не пирогами встретят… Человек бы знакомый оказался! Нету. Даже Лёшкин отец и тот развёл руками. «В Москве, говорит, с удовольствием. Примут, помогут. А в области – нет, не приобрёл знакомств».
Ну-ка, а что как прямо до Москвы?! Повидаю завтра Лёшкиного отца, скажу: так, мол, и так – с надеждой на ваши слова… Не отступится? Не должно. Отец у Лёшки серьёзный…»
После вчерашнего разговора с Алёшкиным отцом Витька укрепился в надежде, что и большие города не без добрых людей. Вообще Лёшка и отец его зародили в захолодавшей душе Витьки мечту о завтрашнем дне.
Лёшка расстроился, когда он зашёл проститься перед дальней дорогой, так растерялся, что и руки опустил.
– Папа! Да папа же!.. – звал Лёшка.
Отец его появился в валенках, старом пиджаке, надетом поверх белой нательной рубашки, в руках была у него развёрнутая газета.
– Что за нетерпение! – сказал недовольно и как-то колюче оглядел Витьку. – В чём дело?
Лёшка говорил ему, от волнения сбиваясь и торопясь, и всё повторял:
– Надо помочь Вите. Помочь надо, папа!
Отец выслушал Лёшку, скатал в трубку газету, сунул в карман пиджака, пошёл в угол, к печи, прижал ладони к её округлому, обтянутому крашеным железом боку и так стоял, не то греясь, не то думая.
– Ты, Гужавин, в девятом? – спросил Лёшкин отец. – Могу предложить без экзамена на второй курс. Стипендия двести рублей. Общежитие. Через два года – техник-лесовод или таксатор. Самостоятельная, прямая, ясная рабочая дорога. Устраивает?..
Витька почувствовал за этими вроде бы сухими словами участие, едва не всхлипнул, но от предложения отказался.
– Спасибо вам, – сказал он. – Только не с руки мне тут, в Семигорье, оставаться. Местность надо сменить…
То, что было потом, вконец расстроило Витьку: Лёшка принёс ему сто рублей на дорогу. И не хотел брать, отказывался, но Лёшка, осердясь, сунул деньги ему в карман.
– Небось полвелосипеда тут? – спросил с неловкостью Витька, но Лёшка только махнул рукой. С велосипедом у него никак не получалось – второй год мечтал, деньги собирал, а не приобрёл, не поехал…
Витька тихонько придвинул к себе табурет, пощупал в кармане куртки деньги. Он очень боялся их потерять. Уже засыпая, подумал: «Ничего, заработаю – куплю Лёшке велосипед…»
… Витька заспанными глазами всматривался в незнакомый потолок, и полка с книгами была ему незнакома. Повернул голову, увидел Макара. Макар сидел за столом, книгой отгородив от него огонь лампы. В пальцах его шевелилась тонкая ученическая ручка. Время от времени он осторожно опускал ручку в пузырёк с чернилами. В синеве морозного рассвета, сумеречно осветившей замёрзшие окна, и в жёлтом свете горящей на столе восьмилинейной лампы Витька хорошо видел Макара: прямой, сильный, будто из меди вьшитый лоб, короткий, с раздутыми крыльями нос, широкий неуступчивый подбородок, по бокам рта невесёлые складки. Макар шевелил губами, без звука повторял слова, которые вписывал в бумагу.
Витька лежал тихо, поглядывал на Макара, слушал, как в печи трещали горящие поленья и тётка Анна переступала там, за печью, то звякала ковшом по ведру, то скребла кирпичный под, подвигая чугун к огню, порой не слаживала, стукала концом ухвата в печь. Витька слушал знакомые звуки проснувшейся избы и тоскливо думал, что там, за печью, могла хлопотать Васёнка…
Макар, подперев рукой лоб, напряжённо читал своё письмо. Витька из-под прикрытых век смотрел на Макара и тревожно ждал, когда придётся подняться и от домашнего тепла, от добрых людей отправиться по заснеженной дороге в далёкий неизвестный путь.
Макар положил ручку пером на пробку пузырька, сложил написанную бумагу.
– Поднимайся, брат. Мне на работу идти, – сказал он, как будто знал, что Витька не спит.
Витька молча оделся, не сразу узнал свои стоящие у стены сапоги: дырки на голенищах были залатаны, носы выправлены. Он взял в руки лоснящиеся ваксой сапоги, увидел, что и подошвы пришиты деревянными гвоздиками, и в каблуки врезаны железные подковки. Увидел всё это и вдруг, уронив сапог и закрыв руками лицо, заплакал. Слёзы текли, обжигали пальцы, он ладонью зажимал рот, стараясь задавить всхлипы, но всхлипы со стоном рвались из него. Сквозь слёзы Витька видел, как вбежала испуганная тётка Анна. Макар шагнул ей навстречу, обнял за плечи, увёл за печь.
Витька отплакал свою горечь, выжал из глаз последние слёзы, рукавом насухо вытер лицо. Надел сапоги, хмурясь, вышел в кухню.
Макар снял с вешалки полотенце, накинул ему на шею.
– Умывайся и – за стол, – сказал он, как всегда просто, как будто и не видел Витькиной слабости.
2
Поели молча, не спеша, но и не затягивая. Тётка Анна унесла посуду.
Макар, подтянутый, уже готовый к работе, подошёл к окну, поглядел на дорогу. Он как будто медлил начать разговор.
– Не передумал? – спросил он наконец.
Витька нахмурил бугры-надбровья, упрямо сказал:
– В город пойду…
Макар в досаде пристукнул по стеклу пальцами.
– Город, брат, палочка-выручалочка! И ты не такой уж готовый человек, чтобы в одиночку в городе начинать. Давай, брат, решать по-умному. Пойдёшь в химлесхоз, то не близко и не далёко, за день доберёшься. Есть там хороший человек, мастер Назар Петров. Вот передашь ему, – Макар из кармана пиджака вынул сложенное треугольником письмо. – Назар поможет. Главное – работу подыщет. Ну, как? Доверяешь?..
Витька взял из рук Макара письмо. Серый треугольник был по-солдатски прост и почти весь уместился на его ладони.
– Спасибо, Макар Константинович! – сказал Витька.
Макар шагнул к нему, сдавил сильными руками.
– А то оставайся?! У нас поживёшь… В МТС подучим на шофёра, а то и на тракториста! Всё не одному начинать… Как, брат? – Макар, волнуясь, сжимал Витькины плечи.
Витька с грустью оглядел Макарову избу, как будто ища в избе того, кто должен был бы здесь быть, кого так не хватало этим чистым бревенчатым стенам, этой аккуратно побеленной печи, и, опустив глаза, сказал:
– Нет, Макар Константинович! От дома близко… Спасибочко вам. За всё спасибо. Я пойду.
– Ну что ж! – сказал Макар.
Тётка Анна помогла ему надеть на плечи набитый под завязку мешок, перекрестила:
– С богом, сынок!..
Макар нахмурился.
– Бог не поможет, если сам – не человек! Пошли, Витя, провожу…
Под низким утренним морозным солнцем, по забелённому метелью полю они дошли до развилки дорог. Макар дружески тряхнул его на прощанье, сказал:
– Ну, держись, человек!
Они постояли и разошлись. Макар пошёл к МТС, Витька – по переметённому тракту в теряющуюся за лесами даль, туда, где ещё не ведал о нём старый мастер Назар.







