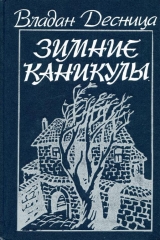
Текст книги "Зимние каникулы"
Автор книги: Владан Десница
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 28 страниц)
Престер слез с повозки, размял ноги и направился к хлеву, крытому камышом.
– Там? – спросил он.
– Там, – ответил крестьянин, в знак уважения шедший слева и чуть позади него.
Я осторожно ступил вслед за ними на порог хлева – так входят в церковь иного вероисповедания. Старуха последовала за мной, а молодуха пошла к лошадям. Не распрягая, вытащила удила изо рта, взяла левого за недоуздок и повела к стогу сена. Лошаденки впервые с тех пор, как я их увидел, подняли головы и тут же погрузили морды в сухое чистое сено.
Через плечи Престера и крестьянина я увидел хлев. Внутри было прохладно и сумрачно и стоял гнилостный запах. В глубине я заметил мягкий взгляд лежавшей коровы – она смотрела на нас, словно ожидая приговора.
Престер остановился на пороге. Мы смотрели на корову, она – на нас. В этом молчании чувствовалось свершение какого-то обряда. Затем Престер перешагнул порог и вошел в хлев. Начиналась вторая, словесная часть обряда. За Престером вошел крестьянин, потом я, и последней – старуха.
Корова все так же смотрела на нас, словно ожидая чего-то. Во взгляде животного, нуждающегося в помощи, читается безграничная, трогательная вера в людей. Без тени сомнения, исполненное надежды, оно ждет от нас избавления, чуда, невозможного. Это была крупная корова и, как мне показалось, более породистая, чем другие коровы в этой глуши; у нее была чистая светлая шерсть с зеленоватым отливом, без грязных желтых пятен, появляющихся от лежания на мокрой подстилке. Престер, словно подтверждая мои мысли, повернулся ко мне и сказал:
– Peccà! Una bella bestia![23]
Потом он обратился к крестьянину:
– Хм, и давно это с ней?
– Еще вчера-позавчера ничего не было (мне показалось, он бессознательно скрывает и умаляет болезнь), а вчера, – крестьянин повернулся к жене, – так, старуха? – вижу, что-то с ней неладное – мычит, тяжело дышит…
– Господи боже, – вставляет старуха, – как схватило и давай трясти, что твою хворостинку, билась она, билась, сопела, металась, совсем как человек, потом ей будто полегчало, и опять снова-Только теперь я увидел, что бок у коровы сводит судорога.
Престер подошел к ней и дважды пнул ногой. Корова дернулась, чуть расставила передние ноги, пытаясь подняться, но замычала от боли и поникла.
– Povera bestia![24] – опять пробормотал Престер.
– Что-то, видать, порвалось у нее внутри, с вечера не может встать, – объясняла старуха. Она рассказывала о болезни не спеша, последовательно, будто доставала деньги из узелка.
Крестьянин нагнулся, пытаясь приподнять корову, но Престер остановил его:
– Ничего, ничего. Пусть она лежит, пусть лежит! Не беспокойте ее! – И обратился ко мне: – Povera bestia!
Подошла молодуха, остановилась в сторонке, словно боялась, что ее выгонят из хлева.
– Хм, а может быть, она проглотила что-нибудь? Или укусил кто? – спросил Престер.
– Не-ет, – протянул крестьянин и обернулся к жене: она-де лучше знает. – Нет. Что она могла проглотить, ежели паслась на хорошей траве, здесь, возле дома; нет тут ни змей, ни другой какой пакости, поили мы ее чистой водой из колодца, вечером дали ей чистого камыша да сена охапку… Я не знаю, чего еще…
Престер, доверительно понизив голос, опять сказал мне по-итальянски:
– Tja! Cosa la vol! Pegola!.. – Он немного помолчал, глядя на корову, и задумчиво добавил: – E рeccà perché, c’è una bella bestia![25]
Я взглянул на молодуху, стоявшую в углу. Она похлопала себя по бокам, потом скрестила руки на груди и, покусывая указательный палец, посмотрела на нас.
– А что, говорю, ежели влить ей пару ложек масла? Может, говорю, поможет, а? – спросила, чуть оживляясь, старуха. – Помнится, летом Стеванов конь кукурузой подавился. – Боже милосердный, что с ним было! Ногами бьет, кувыркается – ну, подыхает прямо, да и все тут!.. Шел мимо гумна горец, что продавал решета, и говорит: «А вы дайте ему масла – с полстакана дайте, а то и больше». Так и сделали, и конь до сих пор живой!
Все смотрели на ветеринара.
– Да… можно, можно, это не повредит, – разрешил Престер.
Я понял, это была одна из тех бесполезных мер, которые предпринимаются скорее ради семьи, чем ради обреченного, но это имеет свою положительную сторону – создает впечатление, что помощь оказана, и успокаивает домашних…
– Бедняжка, а вот у нас в селе… – начала было осмелевшая курчавая молодуха (от этого чистого голоса, похожего на быстрое щебетание, казалось, на минутку зажглась и погасла лампочка), но крестьянин оборвал ее взглядом.
– Да помолчи ты, что ты понимаешь, – резко, но не очень решительно сказал он. (Откуда у такой сопливой может быть что-нибудь путное, что она видела! Будет тут лезть со своими советами!) – Лучше сбегай-ка поскорей в дом да принеси бутылку масла и стакан.
Молодка побежала и через минуту вернулась с бутылкой масла и большим фарфоровым стаканом, сделанным из телеграфного изолятора. Место для шурупа пустовало, стакан нельзя было ставить, так как дно было круглым, и его можно было заполнить лишь на четверть. Таких стаканов много в портовых кабачках, где частенько вспыхивают драки – благодаря им посуды расходуется меньше, хотя удар такой посудиной может быть и смертельным.
Корове влили в глотку три или четыре стакана масла и стояли, ожидая результата. Крестьянин продолжал держать в одной руке бутылку, в другой – стакан. Потом осмотрелся, поискал глазами в темноте гнездо, где куры (если они есть и несутся!) кладут яйца, и аккуратно поставил туда бутылку и перевернутый стакан.
Престер словно издалека смотрел на больное животное. Затем слегка повернул ко мне голову и, понизив голос, заговорил опять по-итальянски: это, очевидно, должно было означать нечто вроде консилиума.
– Cosa se pol far!.. Povera gente!..[26]
Мне показалось, крестьянин исподлобья, с сомнением посмотрел на нас. Почему-то я почувствовал себя соучастником. Возможно, этот шепот на итальянском языке вызвал у него смутное подозрение, что мы говорим о чем-то недобром.
– А что с ней в самом деле? – выпалил я.
На загорелом лице крестьянина вспыхнул живой интерес.
Престер чуть заметно покачал головой: вот они, горожане! Неисправимые теоретики, в практической жизни наивны и чертовски беспомощны, неловки, точно дети!
– Хм!.. Что с ней? Не знаете вы, господин хороший, что такое село и что такое крестьянская жизнь!.. Бывает, проглотит скотина гвоздь, кусок проволоки или еще что-нибудь! Или ее кто-нибудь укусит – все валится на бедняка! К бедняку липнут всяческие беды, не так ли, приятель? – обратился он к крестьянину.
«Ну и ну! Вот так диагноз!» – подумал я.
Но крестьянин с готовностью согласился с Престером, потому что сказано это было от души.
– Липнут, что и говорить, ей-богу, липнут всякие! Ни одна не минует, не бойсь!
«Вот уж поистине так! – подумал я опять. – Что крестьянину латинские слова, какой-нибудь гастроэнтерит или миксотоксикоз? А так хоть сочувствие. Бедняку легче, когда просто и по-человечески понимают его беды. Хотя бы это! Без этого ему не выдержать!»
– А что, ежели вывести ее наружу, на воздух? – спросила старуха: и она старалась найти какой-нибудь выход, что-то испробовать, видя, что помощи ждать неоткуда.
– Можно, можно, это не повредит, – опять пробормотал Престер.
– Да, конечно, конечно! Выведем!.. – вырвалось неожиданно у меня с такой надеждой, что я и сам поразился. Я заметил, как крестьянин посмотрел на меня. Это был отзвук чего-то давно жившего во мне. С малых лет во мне жило чувство, что на чистом воздухе куда приятнее умирать, чем в помещении, и мне казалось, что, наверное, и корове так будет легче. Крестьянин вроде бы успокоился, уловив искренность в моем порыве.
Начали вытаскивать корову на улицу – осторожно, бережно, чтобы меньше беспокоить.
– Давай, дорогая! Давай, дорогая! – приговаривал крестьянин глубоким печальным голосом, стремясь как можно мягче и безболезненнее поддерживать ее.
– Давай, дорогая! Давай, дорогая!.. – вторили ему жена и молодуха глухими печальными голосами, за которыми стыдливо пряталась человеческая теплота. Таким голосом мы говорим с дорогим нам больным человеком, когда переворачиваем его в постели, зная, что малейшее движение причиняет ему невыносимую боль. И при этом каждое самое обычное слово – «поправь подушки», «поддержи ему ногу» – звучит словно извинение за невольно причиненную боль, хотя оказывает то же действие, что и теплая шерстяная подстилка, положенная под пролежни.
Вся семья суетилась вокруг коровы.
– Давай, дорогая!.. Встань, дорогая!..
Корова оперлась на передние ноги и тщетно пыталась подняться. И тут же упала, тяжело дыша, и посмотрела на нас, как бы говоря: вот видите, не могу!
Принесли кусок старой холстины, подсунули под задние ноги коровы и все вместе (даже Престер помогал) выволокли ее из хлева.
Мне показалось, что теперь тяжелое ее дыхание означало желание наполнить легкие этим чистым, свежим воздухом, напоенным солнцем. Взгляд ее словно бы стал спокойнее. Вероятно, это был оптический обман: просто здесь было светлее. Ноздри ее жадно раздувались, хватая воздух. Я заметил, как бок ее снова свело судорогой.
По склону, за огородом с низеньким покосившимся забором, выложенным из камня, раскинулся зеленый луг. Оттуда доносилось блеяние ягнят, вдали на горизонте трепетала легкая дымка.
«Пусть!.. Пусть умрет здесь, раз суждено! – подумал я. – Пусть унесет с собой это блеяние и этот сверкающий луг, как убитый заяц держит в зубах еще свежий стебелек сорванной травы! Пускай унесет это сверкание, этот свежий весенний запах на тот свой коровий свет (которого, знаю, не существует, как и нашего, человеческого, но который все-таки – хочется верить всем неистребимым детским воображением – есть, где-то теплится, и его даже ладонями можно прикрыть, чтобы не загасил ветер)».
Престер и я стояли по одну сторону коровы, хозяева – по другую. Все трое скрестили руки, а у нас в руках были шапки. Это навело меня на мысль, что мы представляем какое-то общество на чьих-то похоронах. И поэтому стоим с одной стороны выкопанной могилы, а родственники – с другой, у изголовья. Тогда я опустил руки, смятую шапку зажал под мышкой и одну руку засунул в карман; что делать с другой рукой, я не знал. Неуверенным движением провел я по волосам, почесал за ухом и потом опять опустил руку.
Корова дважды бессильно промычала и положила голову на землю.
– Povera bestia! – снова сообщил мне Престер.
Взгляды хозяев обратились в нашу сторону. Может, эти непонятные слова зажгли у них последний огонек надежды на какое-то нежданное чудодейственное спасение. Престер, очевидно, подсознательно это почувствовал и повторил громче и выразительнее:
– Povera bestia!.. Bella bestia!..
Должно быть, для хозяев это прозвучало как «господи помилуй, господи помилуй!».
Помолчали. Потом Престер повернулся и сказал:
– Ну что ж!
Словно первая горсть земли упала на крышку гроба – остальное доделают могильщики. Престер почесал в затылке, повернулся и пошел. Я направился следом. Оставалось надеть шапки.
Мы шли к дому, через несколько шагов Престер обернулся и дал последний совет:
– Пусть лежит, только пусть лежит! Оставьте ее здесь, ей здесь хорошо!..
Хозяева пошептались немного, затем послышались шаги подкованных башмаков. Хозяин догнал нас и спросил осторожно, в спину:
– Прошу вас, может, перекусите?
– Да, пожалуй, – ответил Престер.
– Если хотите, сварим яиц и нарежем копченого окорока?
Я не оборачивался и не видел лица человека, который говорил.
– Может, лучше яичницу с кусочками окорока, а? – спросил Престер.
– Можно, можно, я вмиг приготовлю!
Он отстал, пошел к кухне, и вскоре оттуда раздался звон большой железной сковороды. А затем его голос, по-хозяйски грубый и громкий, позвал:
– Марта!
Мы с Престером сели за неровный каменный стол перед домом под еще голой виноградной лозой.
– Cosa la vol! Cosi c’è con sta povera gente!..[27]
Я не совсем понял, что бывает «с этими людьми»: относится ли это к корове, к яичнице или к тому и другому и еще ко многому.
– Нда-а-а!.. Dio mio!.. – зевнул и одновременно вздохнул Престер и при этом провел ладонью по лицу, взлохматив брови. Он чувствовал усталость, потому что из-за опороса свиньи поднялся нынче раньше обычного.
Кудрявая молодуха поставила перед нами бутылку вина, зеленую кружку и телеграфный стакан. Подошел хозяин с тарелкой толсто нарезанных ломтей подового хлеба. Увидев стакан, резким движением схватил его – мне показалось, что он забросит его в навоз, но он отдал стакан молодухе.
– Забери его к черту, зачем ты его взяла!
Вместо телеграфного стакана она принесла и поставила передо мной белую жестяную кружку с отбитой эмалью. Внутри, чуть повыше середины, я заметил синюю полоску – должно быть, в ней когда-то разводили чернильный орех для каких-нибудь медицинских надобностей.
Дом за нашими спинами будто опустел: шагов хозяина не было слышно. С натугой, словно преодолевая какое-то сопротивление, я повернул голову влево, туда, где мы оставили корову (не знаю, то ли отвращение мешало мне посмотреть в ту сторону, то ли желание избежать какой-то напасти), и увидел опять всю семью вокруг коровы. Хозяева закивали, встретившись со мной взглядом. Престер почувствовал, что должен встать и пойти туда. Больше я не поворачивал головы и смотрел прямо перед собой.
Вскоре Престер возвратился и сел рядом. Помолчал. Я, бог знает почему, разглядывал свою записную книжку с адресами и телефонами старых друзей и случайных знакомых, разбросанных по белу свету.
– Мият! – услышали мы голос старухи сквозь шипение сковороды, и затем мимо нас по направлению к кухне прошагал хозяин.
Минуту спустя Мият принес нам яичницу.
– Ого! – повеселел Престер, украдкой перекрестился, подцепил вилкой яичницу и переложил на свою тарелку.
– Вы любите яичницу с ветчиной? Я очень люблю, – сказал он и пододвинул сковороду ко мне. – Прошу!
Я положил себе и стал есть. Челюсти у меня сводило, словно я жевал черствый хлеб. Я почувствовал на себе взгляд Престера и угадал его мысли: «Чудак ты, братец мой».
В доме за нашими спинами стояла тишина.
Я чуть повернул непослушную шею и поглядел в ту сторону, где лежала корова. Она лежала на левом боку, задрав морду, с вытянутыми одеревеневшими ногами. Отмучилась. Хоть она.
Мне показалось, что из кухни слышится приглушенный плач старой хозяйки. И затем грубый мужской голос: «Ну, будет, ей теперь не поможешь!..»
Чепуха, одернул я себя, банальная, слезливая тема, типичная для псевдосоциальной литературы, которая претендует на описание мелких неудач отдельного человека, раздувая их до невероятной патетики, доводя ее до чудовищных, апокалипсических размеров и какой-то высшей символической, обобщенной значимости! Или та, другая литература, лирическая, пережевывающая темы, связанные с описанием больных мест у людей, жующая их до тех пор, пока от них не останется ничего, кроме прилипчивой трогательности!.. Но здесь, на свежем воздухе, это маленькое горе в жизни молчаливых, отнюдь не восторженных людей, заимствованное из литературы и возвращенное в жизнь, где и было его истинное место, горе, связанное с такой же банальной, незначительной, жизненной, будничной реальностью – с нашей прогулкой, с моим пятном на плаще, с весной, с бровями Престера, – вновь обрело свою реальность. Оно было одним из тех мелких, самых обычных, ничуть не исключительных, всегда одних и тех же и все-таки новых вещей, которые живут своей маленькой жизнью и которые имеют свою вечность, так же как и те другие, большие и более важные вещи, такие, как хлеб, любовь, смерть!..
Я сжевал свою порцию яичницы и запил ее вином из белой кружки – глоток получился большой, я выпил до чернильной черты. Вино было очень кислое. У бадровацких крестьян такое часто бывает. Бочку не просушат как следует, зальют вином, запечатают, и вино приобретает гнилостный запах, который уже ничем не отобьешь.
Престер тоже отпил из зеленой кружки, зажег сигарету и разогнал дымок. И еще раз повторил свой рефрен (мне показалось, что из внимания ко мне). Только на этот раз он высказался в прошедшем времени.
– E рeccà! Perché c’iera infatti una bella bestia!..[28]
Мы выкурили по сигарете. Потом Престер обратился к крестьянину, который стоял позади нас, прислонившись к косяку:
– Поехали потихоньку, а, Мият?
Мият ушел, и вскоре послышался звон цепи и скрип повозки, которую молодуха подвела к виноградной лозе. Престер вошел в дом, о чем-то пошептался с Миятом, потом оба вышли, и мы уселись в повозку. Женщины стояли на пороге в одинаковых позах.
– Привет, старая! Привет, молодая! – попытался пошутить Престер.
Это вызвало слабую, едва приметную услужливую улыбку на лицах женщин.
– Поезжайте с богом! – ответила старуха.
Повозка стала спускаться, подпрыгивая на камнях, и длинное дышло опять колотило по животам лошадей, а цепь равномерно покачивалась перед ноздрями и кроткими глазами кляч. Выбравшись на главную дорогу, мы поехали быстрее. Мне захотелось сесть поудобнее. Я свернул плащ, постелил его на дно повозки и на что-то сел – это были мои бутерброды.
Солнце стояло высоко, перед нами расстилалась белая пустынная дорога. К полудню подул совсем легкий ветерок – приятный и очень тихий, без которого весенний день казался совсем летним, – и рисовал перед нами по дороге маленькие причудливые узоры из белой пыли, которые, как по мановению волшебной палочки, то появлялись, то исчезали. На лоскутах свежевспаханной земли сверкали вывернутые отполированным железом лемеха борозды, и на них садились вороны. Престер вернулся к своей утренней теме, которую он упорно защищал наперекор всему:
– Bella giornata!.. Proprio una bella giornata!.. Удивительно! Я всегда утверждаю: весна – са-амое лу-учшее время года!.. Primavera! Primavera! Inutile!.. La-più – bella stagion dell’anno!..
От весеннего солнца на меня напала дремота, как на Престера по пути сюда. А сейчас, наоборот, он был бодр и разговорчив.
Я натянул шапку поглубже и блаженно жмурился от солнца. Сквозь приятное поскрипывание повозки и позвякивание цепи, которое меня убаюкивало, долетали отдельные слова Престера, они путались с бессвязными звуками сказанных раньше и еще живших во мне слов. Несмазанные колеса начали умильно попискивать через равные промежутки времени, при каждом обороте, напоминая восторженный писк птенца. Под скрип колес и позвякивание цепи в тон этому птенцу во мне что-то напевало:
– Povera primavera!.. Bella primavera!..[29]
1955
Перевод Р. Грецкой.
БОГ ВСЕ ВИДИТ
Черный пароходик «Порин» качался в мертвом море на вялых масляных волнах, которые пригнал южный ветер. Машина сотрясала его утробу, точно привязавшаяся икота; приглушенный грохот наполнял пассажирский салон, и в ячейках на полке звенели стаканы. По сукну стола медленно скользила металлическая пепельница; когда она придвигалась к самому краю, седой, бритобородый и безусый синьор Паво открывал сонные глаза, огромной ручищей возвращал ее на середину стола и снова впадал в дрему. Четыре женщины образовали свой кружок; поджав под себя ноги и засунув руки под мышки, они вели доверительную беседу, время от времени оправляя поднявшуюся юбку; рядом с одной из них сидел сын, ученик монастырской гимназии. В уголке примостился господин Миче, маленький, плечистый и ужасно потливый человек; подле него на диване лежал платок, которым он поминутно вытирал лоб, а на коленях – большой раскрытый бумажник, в котором он перебирал и просматривал какие-то квитанции и расписки. Полдивана захватил долговязый, сухопарый человек; развалившись на спине и покрыв лицо платком, якобы от жары, он делал вид, что спит. Но этот его платок, в разгар-то осени, никого не мог ввести в заблуждение: все знали, что под ним прячется Ламбро и что он просто прикинулся спящим – не то как бы не пришлось подобрать свои длинные ноги и дать место другому. Хитрость все же удалась: никто его не беспокоил. Ламбро понимал, что его разгадали, однако это ему ничуть не мешало наслаждаться покоем. Против него сидел за столом синьор Прошпе, в новой шапке на забинтованной голове (он возвращался из больницы, где ему вскрыли чирей на шее); согнув руки в локтях и уткнувшись в них лбом, он смотрел в пол водянистыми глазами. Худые руки его слегка подрагивали, отчего великоватое обручальное кольцо приплясывало возле перстня. Опершись локтем о стол и сидя вполоборота, словно любуясь морем или проверяя, мимо какого мыса они проходят, синьор Мили курил большую трубку из слоновой кости, пуская дым через нос. Из-за своего положения он отвечал на вопросы через плечо, что придавало его ответам известную обстоятельность и вместе с тем известное пренебрежение к чужим высказываниям. На самом деле он караулил висевшую над диваном оплетенную бутыль с постным маслом, купленную сегодня в Сплите. Поглядывая на нее, он думал с тоской: «Дожили! Ездим с острова в Сплит за постным маслом, да еще платим втридорога!» Но за этими вздохами таилась радость – ведь и другие островитяне пытались разжиться маслицем, да не тут-то было.
Ехали целых пять часов, уже начало смеркаться. Теперь на пароходе стало тише и просторнее, по пути высадились добовляне, затем шкрапляне и, наконец, подгребишчане. Пароход почти опустел – вместе с людьми вытек и людской гомон, а последние пассажиры, пресытившись разговорами и сморенные усталостью, вовсю зевали, развалившись на сиденьях. Даже Тонко, примостившийся наверху у лестницы – он вез из Сплита заряженный аккумулятор и, крепко сжимая его коленями, всю дорогу предупреждал проходящих: «Осторожно, не заденьте ногой!», – и тот притомился и умолк. Теперь и Ламбро мог безбоязненно снять с лица платок и сесть – он вытянул ноги, и они торчали из-под стола почти в проходе посреди салона, так что круглолицему вихрастому официанту приходилось остерегаться, чтоб не споткнуться. Синьор Мили лениво листал газеты; на бутыль он больше не смотрел, он чувствовал ее присутствие – новехонький белый оплет светлым пятном мелькал у него в краешке глаза. Синьор Прошпе закрыл водянистые глаза, в тишине слышалось его скромное храпенье. Господин Миче наконец разобрался в своих квитанциях, сунул бумажник в карман, встал и вышел на палубу размять ноги.
Шагая взад-вперед по палубе, он всякий раз, проходя мимо застекленного салона, невольно косился на белый оплет бутыли. «Ах ты, гусь лапчатый! – вдруг обозлился он. – Ну погоди, я тебе покажу!»
Вдоль противоположного борта прохаживался бондарь Юрица Кулалела. Миче заметил, что и Юрица, проходя мимо салона, посматривает на бутыль.
– Скоро будем дома, – сказал Миче, когда пути их сошлись на корме.
– Слава богу, – ответил Юрица.
Теперь они объединили свои одинокие прогулки и прохаживались вместе. У обоих была на уме бутыль, оба видели друг друга насквозь и потому не решались заговорить. Наконец господин Миче сдался:
– Похоже, Мили раздобыл масло.
– Этот проныра из-под земли достанет!
– И сразу нос задрал. Бережет бутыль пуще глаза своего, смотрит на нее, как на дароносицу.
Короткая пауза. Один ждет от другого последнего слова. И на этот раз не выдержал Миче.
– Не худо б ее спрятать! Пускай-ка поищет!
– Не худо бы, – бесстрастно подтвердил Юрица, расплываясь в загадочной улыбке.
– И подержать денька три, пускай понервничает! – продолжал Миче.
Внизу, в салоне, Мили отодвинул газету и зевнул; кроссворд он решил. Скрежет цепи и суетня команды на верхней палубе подсказали ему, что они приехали. Он глянул в окно – мимо проплывал Монаший остров. Он встал и потянулся. Пароход выпустил в сумрак свой стон. И остальные малочисленные пассажиры тоже поднялись. Стряхнув с себя воображаемые крошки, они стали собирать свои свертки и корзины, пересчитывая их по пять-шесть раз. Женщины поправляли прическу и ходили по очереди в туалет. Мили подошел к буфету, рассчитался в дверях за выпитое и вышел на палубу. Сложив губы трубочкой, словно беззвучно насвистывая, и слегка покачиваясь, он равнодушно смотрел на белые, умытые стены кладбища.
На пристани собрался народ. Пароходик медленно пристал к берегу. Первыми взбежали по трапу два-три носильщика и кое-кто из родственников прибывших, обремененных багажом. Началась толчея, приехавшие и встречающие громко окликали друг друга, спотыкались о чемоданы и узлы, перелезали через борт. Синьора Мили встречала жена Лукрица и дочка Светлана с большим голубым бантом на голове. Он спустился в салон за вещами. Бутыли не оказалось. Он было забеспокоился, но тут же взял себя в руки, решив, что над ним подшутили.
– Кто спрятал бутыль? – спросил он тоном человека, который еще не сердится, однако не располагает временем для шуток.
Никто ему не ответил. Тогда он снова заглянул под диван за дверью.
– Ну, хватит валять дурака, давайте бутыль!
Все было напрасно – бутыль как в воду канула, а люди от его просьб вернуть бутыль отмахивались без улыбки и с тенью раздражения. Он остался на пароходе один. Еще раз все осмотрел и обыскал. Жена с берега о чем-то спрашивала, но он молчал или бросал в ответ что-то резкое. Взывая о помощи и требуя объяснений, обежал всех: и официанта, и боцмана, и капитана – словом, сделал все, что полагалось сделать хотя бы для очистки совести, если уж бутыль безвозвратно потеряна. Когда сошел на берег, там было пусто: и нагруженные свертками пассажиры, и встречавшая их родня давно разошлись. На берегу стояла, скрестив на животе руки, озабоченная Лукрица. Сумерки еще больше заострили черты ее худого лица, придав ему совсем вдовье выражение. Светлана со скуки терлась о колени матери.
Домой он шел злой, не обращая внимания на жену и дочь; те рысили за ним, стараясь не отставать. Едва кивнул дону Перо, явно намеревавшемуся остановить его и по обыкновению порасспросить, что говорят в Сплите и что слышно по радио. Когда входили в дом, на колокольне пробило восемь. Удары были редкими, экономными, словно сыпалось что-то ценное, отмеряемое по зернышку. За ужином он два раза ткнул вилкой в капусту и отодвинул тарелку. Лукрица попыталась его успокоить:
– Может, завтра найдется.
– Да как это она найдется? Да и где ж это она найдется? – взорвался он. – Несешь чепуху! Найдется! Дура!
Его раздражал этот дурацкий оптимизм жены, эта ее вечная вера в добро, это ее… ее легкомыслие, наконец!
– Гм! Как бы не так!.. Заладила: найдется!
Господин Миче тоже не мог долго заснуть. Он слышал, как пробило одиннадцать, потом полночь. Бутыль была у бондаря Юрицы. Теперь в ночной тишине Миче казалось, что его оставили в дураках. С досады он ворочался на постели и вздыхал.
– Чего это ты? Чего все ворочаешься? – беспокоилась жена.
– Ничего. Спи! – сухо отвечал Миче.
Встал он чуть свет. На улице ни души – было воскресенье. Дважды прошел до рыбной лавки: ему не сиделось на скамейке в саду, где обычно спозаранку собирались его приятели, и он задумчиво шагал но тропинкам, глядя в землю. Едва дождался часа, когда можно пойти к Юрице Кулалеле, не привлекая любопытных взглядов. Кулалела в воскресном костюме и в шляпе стоял на пороге своей мастерской и встряхивал только что заправленную зажигалку, в другой руке у него был пузырек с бензином. Они сухо поздоровались. Миче украдкой огляделся по сторонам – нет ли кого поблизости, обвел взглядом окна, чтобы окончательно в том удостовериться. Потом за Юрицей вошел в бочарню.
– А может, и не отдавать этому спесивцу? – сказал он без всякого вступления. И для вящей убедительности добавил: – Будет ему наука!
Кулалела равнодушно пожал плечами, он искал на столе пробку от пузырька.
– Мне все равно.
– Ну уж «все равно»! – вспылил Миче. – Тебе тоже не все равно!
Юрица присел на корточки и стал ворошить стружку на полу, пытаясь нащупать затерявшуюся пробку. Поля шляпы закрывали его лицо. Миче показалось, что он может копаться так в полном молчании и час, и два, и весь день-деньской.
– Знаешь что?
Кулалела продолжал рыться в стружках.
– Что до меня, лучше бы поделить. А он обойдется!
Юрица опять пожал плечами и, изобразив на лице безразличие, медленно выпрямился. Затем направился в дом, кивком головы и движением плеча пригласив Миче следовать за собой.
В комнате он оставил Миче одного и куда-то исчез. Вскоре он вернулся с двумя бутылками. Союзники стояли лицом к лицу, как были, в пальто и шляпах, что придавало их отношениям оттенок официальности.
– Тут литра четыре будет. Это литровые бутылки.
Миче взял одну и перевернул вверх дном, якобы для того, чтоб слить возможные капельки воды, на деле он хотел посмотреть, не указана ли там емкость. Ему подумалось, что эти бутылки из-под ликера могут быть емкостью 0,9 литра. Юрицу покоробило.
– Сейчас схожу за маслом, – буркнул он себе под нос и снова удалился. Вернулся с бутылью и воронкой, открыл бутыль и вставил воронку в горлышко бутылки.
– Это от ликера? – неуверенно спросил Миче.
– От ликера не от ликера, говорю тебе, литровые.
Юрица стал осторожно наливать.
Миче пригнулся и чуть склонил голову, глядя на свет, как медленно наполняется бутылка. Теперь ему казалось, что горлышки у бутылок короче, чем обычно.
– Лей, лей, я скажу, когда хватит.
Оставив без внимания его предложение, Юрица тоже склонил голову набок и сам стал следить за наполнением бутылки.
Наполнив вторую бутылку, он взял с буфета старую газету, извлек из нее вкладыш и снова положил на место.
– Заверни, ежели хочешь!
Миче без единого слова завернул бутылки, поставил в оба кармана пиджака, застегнул плащ и сунул руки в карманы, чтоб придерживать бутылки.
Расстались сухо, почти как враги: объединяла их только общая тайна и взаимная неприязнь.
Миче отправился домой; пройдя через главные двери, он спустился в подвал, где наискось лежала перевернутая лодка, занимая почти все пространство. Спрятав бутылки на полке за какими-то жестянками с усохшей масляной краской, пошел на рынок. Снова прошелся по саду. На скамейке сидел синьор Мили в обществе пяти-шести друзей и, вероятно, уже не в первый раз подробно рассказывал им приключившуюся с ним историю. После каждого повтора на душе у него словно бы становилось немного легче. Некоторое утешение, чуть ли не компенсацию за пропавшую бутыль он находил в таинственности ее исчезновения. А интерес друзей, их живое участие в предположениях, стремление найти разгадку этой непростой шарады оказывало на него поистине благотворное действие, притупляя боль утраты. По саду, пересекая его широким шагом, прошел Ламбро. Уже в десятый раз Мили строил догадки относительно его причастности к пропаже и опять, к своей досаде, вынужден был их отбросить, не находя им ни малейшего подтверждения. (Именно с тех пор появилась у Мили какая-то безотчетная неприязнь к Ламбро: стоило ему встретить Ламбро или подумать о нем, как настроение его портилось.) Синьор Миче свернул на боковую дорожку, далеко обходя компанию Мили, и вышел из сада через второй выход.








![Книга Обмен мнениями [=Симпозиум] автора Милан Кундера](http://itexts.net/files/books/110/no-cover.jpg)