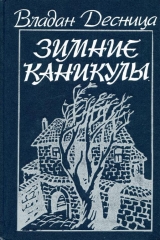
Текст книги "Зимние каникулы"
Автор книги: Владан Десница
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 28 страниц)
– Ох, Ичан, как там твой Мигуд?
А Ичан, на сей раз без улыбки, ответил едва ли не с рыданием в голосе:
– Плохо, госпожа, вряд ли выживет…
Однако могучая натура Мигуда выдержала. Он вскоре поправился и, если это было возможно, стал крепче и сильнее, чем прежде. Через некоторое время Ичан подкупил свинью на расплод, однако не испытывал к ней и сотой доли той любви, какую проявлял к Мигуду. Худая, черная от грязи хрюшка бродила по двору, предоставленная сама себе, робкая, точно тень. Когда обстоятельства переменились и пришлось потуже затянуть пояса, Ичан уменьшил выдачу тюри всем домашним, свел порцию кукурузы для матки к минимальной мере, но доля Мигуда оставалась неприкосновенной.
С Мигудом познакомилась вся колония. Доннеры, ради Ичана, проявляли по отношению к нему всяческую предупредительность и откладывали для него свои жалкие объедки и жидкие помои. А шьор Карло однажды привез ему из Задара две коробки «Редина», отличного словенского средства для откормки свиней.
X
С помощью Аниты Лизетта сшила для Капелюшечки кое-какие обновки. Она была вне себя от радости, что малышка наконец расстанется со своим надоевшим голубым платьицем. Они разузнали, что в селе, у Ики, жены Никицы Шушка, есть швейная машина. Ика, племянница священника из другого села, отлично умела вязать – могла связать джемпер из домашней шерсти с яркими вставками зеленого цвета; когда-то она закончила курсы домоводства, и хозяйство у нее было поаккуратнее, чем у других. Ее муж Никица был чахоточным, неспособным к труду; детей у них не было. Крупная и широкая в кости Ика держала весь дом на своих плечах, в хорошую погоду она выносила на руках мужа под ореховое дерево на гумне, готовила ему молоко с медом и поила его с ложечки сиропом с примесью креозота, запахом которого пропитался весь дом.
Обе горожанки были приятно удивлены, когда вошли в ее чистую, выбеленную кухоньку, – пока не ступили на порог отделенной легкой перегородкой комнатушки, где находился хворый Никица; открывшаяся картина ошеломила их, и они, потрясенные, отступили. Поскольку Никице надоело лежать (а должно быть, сопротивлялся он и черным опасениям, как бы «постель вовсе его не поглотила») и поскольку он уставал от сидения на низенькой скамеечке, Ика постаралась подыскать для него у попадьи какое-нибудь кресло или нечто похожее. У попадьи, на беду, не нашлось в закромах именно кресла, но она полагала, что это недостаточная причина для того, чтобы упустить случай поторговать: она припомнила, что на чердаке у нее есть умывальный стол, один из тех умывальников с плотной крышкой, какие некогда водились в канцеляриях и который появился у попа Михайла в пору его «приходского служения». Рукомой этот, будучи закрытым, напоминал своего рода комод, а если его крышку – верхнюю и часть передней поверхности – поднимали, то худощавому человеку, коль скоро он умел ловко согнуть плечи и плотно прижать к телу локти, можно было кое-как и умыться. Ика точно не знала, какой цели служит это сооружение, однако сразу определила, что на кресло оно не очень-то похоже. Но кому под силу спорить с попадьей, если той что-либо втемяшится в голову! Попадья отдала ей в придачу какую-то наполовину сгнившую подушечку, чтобы было удобней сидеть, и показала, каким образом, если эту подушечку убрать, отверстие, предназначенное для таза, может быть использовано больным в качестве нужника, когда на улице прохладно, при этом в нижнюю половину устройства надобно подставить некий сосуд. Она охмурила Ику, отрезала ей всякую возможность отступления – и женщина отправилась восвояси домой, водрузив на плечи умывальник эпохи «приходского служения» попа Михайла, и тут же, чтобы сразу со всем покончить раз и навсегда, доставила попадье обговоренную плату – полторы меры кукурузы, пусть пользуется!..
Никица принял этот дар с меньшим сопротивлением, чем ожидала Ика, и даже с некоторым интересом, почти как бы и обрадовался! Он был уже окончательно изнурен хворью, и любая чудная вещь радовала его, точно ребенка, рождая на лице проблеск блеклой улыбки. Таким образом, то ли его нечто во всем этом развлекало, то ли он желал вдосталь насидеться за свои деньги, но он восседал теперь в умывальнике, втиснутый в него бедрами, словно в некий корсет («Чтоб косточки не разошлись», – убеждала Ику попадья). Ноги у него висели почти на целую пядь над полом, весь он был скрюченный, поскольку это диктовала поднятая крышка, и взирал на белый свет безнадежно и тупо, выплевывая в миску большие сгустки крови. Со временем, однако, он так свыкся с орудием этой своей пытки, что визжал, протестуя, даже когда Ика упоминала о самой возможности его оттуда изъять и поместить в нечто иное.
Старый Пере Гак, служивший еще в кесарском войске, всякий раз, повстречав Ику, с ведром идущую по воду, интересовался: «Ты мужа своего усадила в амбинду?[57] А, усадила?»
Нужно было, чтобы в селе появился кто-нибудь столь бездеятельный, как эти городские дамочки, обладавшие временем для размышлений о чужих судьбах и о причинах явлений, чтобы задать вопрос: почему женщина с такой самоотверженностью и преданностью ухаживает за этим человеком и заботится о нем? Наверное, из жалости? А может быть, она его и любит?..
От нее самой они сумели услышать всего лишь вот что:
– Ну да, муж он мне. – Ика задумалась и добавила: – Так мне выпало, что поделаешь! Без толку теперь об этом думать!
XI
Вскоре неорганизованная и растерзанная жизнь первых дней беженства стала приобретать свои формы, правила и привычки.
Горожане умеют распоряжаться своим временем: они раскроят свой день, разделят его на отрезки, между этими отрезками воздвигнут преграды, прочные и непоколебимые, как закон; самые эти отрезки наполнят обязанностями, привычками, общественными обязательствами и условностями, заботой о своем теле, о своей бороде, о своих ногтях и тому подобное – на худой конец жалобами на скуку и сетованиями на свою фатальную участь. Раздробленное время легче поддается управлению и усваивается таким образом.
Вот и у наших беженцев дни приобрели свою привычную форму. Женщины занимались приготовлением пищи и прочими домашними делами, мужчины им помогали в занятиях более сложных – ездили в Задар за провизией и денежным довольствием, с корзинками отправлялись по селу собирать продукты на обед. Они уже не бездельничали в любую пору дня. По утрам обычно не выходили, разве что по крайней необходимости. И если кто и отправлялся к кому-нибудь по срочным нуждам, то всегда находил его чем-либо занятым: Эрнесто, например, возился с детской коляской, тщательно смазывал ее (а она, с этими задранными кверху колесами, выглядела беспомощной, точно опрокинутая на спину черепаха), шьор Карло пришивал пуговицы или стирал носки. Однако от послеполуденной прогулки никто без крайне веской причины не отказывался.
«Ичановцы» – Доннеры, обе Кресоевич, шьор Карло, – жившие поблизости, отлично сосуществовали и значительную часть дня проводили вместе. Голобы и Моричи обитали несколько дальше и были умеренно общественными существами. Кроме того, положение Морича несколько отличалось из-за его более старых и более прочных связей с селом. Анита и Лизетта, совершенно довольные друг другом, не ощущали потребности расширить свой круг; под критическим взором шьоры Терезы они чувствовали себя несколько неловко. Марианна Морич, девица постарше, с весьма развитым практическим смыслом, туго застегнутым на шее воротничком и крайне сдержанная, была преисполнена восторга перед мудростью и жизненным опытом своего отца, будучи некогда его правой рукой в магазине. Даже в тех случаях, когда она хранила молчание, чувствовалось, что всей своей силой она поддерживает каждое его слово. Вероятно, и у нее бывали минуты, когда хотелось что-либо высказать, однако она сдерживала себя: если это не счел возможным высказать отец, значит, на то есть свои причины и, следовательно, не стоит вмешиваться. Обладая таким характером, она в равной мере подходила любой компании. Ее присутствие было особенно желательно, когда торговались с крестьянами.
После экскурсии в верхнюю часть села Видошичей больше не встречали. Он регулярно ходил в город, приходя туда в сумерках, когда опасность воздушного нападения была минимальной, ночью возился там, к утру возвращался обратно, до того часа, когда прилетали самолеты. Он прилежно извлекал из развалин свою прекрасную деловую бумагу, коробки с бланками поздравлений, свадебных объявлений с тисненой веточкой апельсина и с особенным вкусом выделанных оповещений о рождении (это было его узкой специальностью), напечатанных английским курсивом, изысканным, годным для любого случая: «La mammina e il babbo annunziano giulivi la nascita del loro adorato Bebè»[58]. Весь этот материал, как бы он ни был поврежден или залит водой, Видошич уносил в село, там заботливо отглаживал его ладонями, отворачивая длинным ухоженным ногтем на мизинце загнутые уголки, распределял и раскладывал, высушивал под деревенским солнцем. И вновь укладывал в коробки, обвязывая их голубыми ленточками.
Женщины всего один или два раза были в Задаре, но мужчины ходили в город регулярно, хотя бы раз в две недели. И тем не менее представление их о своем городе словно бы постепенно выцветало: иногда он вспоминался им в своем прежнем, нетронутом виде, иногда же – разрушенным и растерзанным, каким они видели его после бомбардировок (точно так видим мы умершего человека живым, а иногда с отчетливым осознанием того, что он мертв, и тщетно пытаемся понять, почему это происходит и от каких обстоятельств зависит то или другое видение). И со временем, как ни странно, представление о городе возникало все чаще в том первоначальном, нетронутом виде; однако они тут же приходили в себя – как бывает, когда мы просыпаемся и вспоминаем, что увиденный во сне человек мертв. Вероятно, оттого, что они постепенно утрачивали внутреннюю связь с ним и уже жили воспоминаниями.
Постепенно выцветала и подлинная картина того, что они тогда пережили: они помнили до мелочей картины разрушенных зданий, выражение искаженных ужасом лиц, самый вид жертв, но не хватало им отчетливого представления о душевном состоянии, в котором они сами тогда находились, чувств, которые их тогда переполняли. Не понимали, как могли они столь легко (теперь им казалось, что это «легко») бросить свой дом, свои вещи, не позаботившись об их сохранности, не взять с собой необходимые и ценные, не предпринять какие-то важные меры, которых требовала рассудительность. Они совершенно забыли о том, как отправились в путь, будучи глубоко убежденными в том, что этот жуткий грохот и сотрясение в течение двух или самое большее трех дней принесут успокоение и положат конец страху и опасениям, и что, уходя, они чувствовали себя слишком счастливыми от того, что могут унести целой голову, и не могли думать о мелочах; и что в те минуты им действительно казались мелкими и незначительными вещи, которые сейчас представляются еще как «важными», «ценными», «необходимыми» и «основными». Поэтому они осуждали свое тогдашнее поведение и оценивали его как необъяснимую рассеянность и непростительное легкомыслие.
И если, с одной стороны, определилось и наладилось ежедневное существование без цели и меры, то с другой – в той же степени регулярная встреча после полудня на прогулке стала истинной потребностью, желанным и ожидаемым ежедневным отдохновением. Пока стояла хорошая погода и не начал заметно сокращаться день, прогулка к Батуровой кузне удовлетворяла, хотя бы до некоторой степени, их потребность в общении.
Да, несомненно, это была прогулка, отличная прогулка. Это было приятно, да и полезно. Но это называлось «находиться вдоволь», «размять ноги», ни в коем случае не «променад». Однако горожанам не хватало той точки, что является местом встречи – сборным пунктом, перекрестком всех дорог, того изолированного и твердо ограниченного кусочка земной поверхности, оторванного от неограниченного пространства, отсутствие которого рождает у горожанина неприятное головокружение от пустоты. Только в том случае, если существует подобная граница событий, подобная сцена нашего бытия (особенно еще если здесь, с какой-нибудь колокольни, царит то глазастое устройство, которое регулирует наши действия и отсчитывает биения нашего сердца), горожанин чувствует себя на месте; только такое строгое ограничение стерилизованным вымощенным пространством и размеренно текущим временем представляет для него начало организованного человеческого общества; только это, пусть в зачатке, есть город. Без такой точки, обозначающей средоточие их жизни (а следовательно, средоточие вселенной), горожанин бродит ошеломленно, словно утратив ориентацию в системе координат.
Такого рода центром, точкой, откуда ведется отсчет расстояний, они инстинктивно избрали полянку перед некогда существовавшей винной артелью. Двери и окна дома были сорваны, стены почернели от дыма, а крышу пожрало пламя, так что в оконные дыры было видно небо. На полянке перед обгорелым домом несколько кривых раскидистых сосен вытягивали высоко в небо свои редкие, жалкие кроны, а хорошо вытоптанные тропинки перекрещивались вокруг во всех направлениях. И, тем не менее, место это походило на какой-то центр. Более того, на фронтоне дома зияло круглое оконце – темный глаз, где могли бы поместиться часы с курантами; однако и само это круглое отверстие подобно было часам без стрелок, словно бы по-своему, каким-то таинственным образом все-таки обозначало время – то прерванное и до наступления лучших времен оставленное время, то самое время, которое тщетно проходит, но которое вполне соответствовало подвешенному состоянию и изменчивым ожиданиям задарских беженцев.
На фасаде дома над входом виднелась еще не вполне стертая надпись из недавно миновавших времен: «Chi non è con noi avrà del piombo!»[59] Поверх этой надписи красовалось исполненное по трафарету крупное изображение головы Муссолини, откинутой назад, с нахмуренными бровями и твердо сжатыми челюстями. В правом углу фасада, несколько менее броская, была другая надпись: «Dissodate, smaggesate!»[60] и у этой надписи была своя история.
XII
Она возникла в те времена, когда из Рима пришла директива: «Выкорчевать целину, запахать пары, засеять зерновыми каждую пядь земли!» А задарский префект подумал, что было бы не худо снабдить эту директиву более широкими крыльями и придать ей больший пропагандистский эффект путем написания ее в общественных местах по всей провинции, и он сам составил соответствующий лозунг, где этот призыв был сфокусирован, с присущей римлянам лапидарностью, в двух обнаженных императивах: «Dissodate, smaggesate!» И он остался очень доволен собственным изобретением. Правда, в то утро, когда вновь составленная надпись увидела белый свет на стенах домов, граждане Задара замирали перед нею в изумлении, вопрошая, что сии два слова должны означать. Сомнений в том, что это нечто патриотическое, быть не могло; и что в этом заключается нечто решительное – также: но что именно? Особенно второе слово вызывало тревогу; его с трудом запоминали; заменяли другими подобными словами и ошибочно воспроизводили вроде smarginate, smargiassate и тому подобное. Даже двух знаменитых задарских мудрецов, Балдасара Де́трико и Дино Болли, это застигло врасплох, и они стремглав кинулись по домам рыться в словарях. А когда позже, уже ближе к полудню, они опять вышли из дому и остановились перед этой надписью, удивленно, словно впервые ее увидев, то сразу же и сумели растолковать согражданам ее смысл. Каждый в кругу своих почитателей, за своим столиком в кафе бескорыстно предоставлял обширную информацию, проводя исчерпывающие этимологические параллели и углубляясь в детальные технические толкования этих сельскохозяйственных операций, сопровождаемые рисунками на мраморной поверхности столика. Но на самом-то деле единственным, кого эта надпись не нашла неподготовленным, был профессор Виталиано Богдани; он спокойно и без всякой суеты давал объяснения, притом только в том случае, если его спрашивали. Впрочем, он был известен и за морем[61]. Уже его диссертация «Sulla pretesa origine dalmacia di Sisto V»[62], где он с завидной степенью научной объективности и редкостным отсутствием локально-патриотической узости дал новые доказательства невозможности далматинского происхождения этого папы, была замечена в кругах специалистов. Однако лишь его самое главное сочинение – фундаментальное исследование о Лауренциусе де Юкундисе – принесло ему единодушное признание, открыв двери многих научных обществ. Его заслуга была тем значительнее, что до него по этому предмету писали очень мало и совершенно ненаучно, кроме популяризаторского сочиненьица Стерначини «Il nostro Lorenzo Giocondo e la sua Cronaca»[63] и статьи Карамелича «По следам утраченной хроники Юкунда», а также скудных и сплошь недостоверных сообщений в «Знаменитых мужах иллирских» Шегарича (Шегарич, например, писал Йогунджич), мало о чем стоит упомянуть, помимо достаточно серьезной и документальной работы фра Филиппо Нелипича «Еще кое-что к вопросу о точной дате рождения Ловро Юкундича». Однако лишь книгу Богдани «Laurentius de Iucundis. L’uomo – l’opera – i tempi»[64] можно считать солидным исследованием этого предмета. Нынче Богдани – авторитет.
И если бы его мнения спрашивали, когда в самом начале оккупации меняли названия населенных пунктов, то воистину не дошло бы дело до стольких нелепостей и неприятных ситуаций и не пришлось бы по два, а то и по три раза менять отдельные наименования, как произошло, например, именно со Смилевцами. Поначалу село назвали Borgo Mirtillo, что звучало довольно красиво, и уже изготовили печати и штемпели, шапки на официальных бланках поста карабинеров и водрузили указатель с этим названием при въезде в село. Когда все было готово, нашелся некто, кто заявил, что «смиль» не имеет ничего общего с «mirtillo», что «mirtillo» – это можжевельник, а не бессмертник, и нужно заменить «mirtillo» словом «timo». Принялись вновь менять печати и штемпеля, печатать новые конверты и бланки, замазывать указатели и заново писать «Timeto». Это тоже звучало вовсе не плохо, но тут поднял голос профессор Богдани и заявил: «Хватит! Это двойной позор! Неужели и в третий раз нужно менять это несчастное название? Неужели же никто не знает, что «смиль» – это вовсе и не «Mirtillo» (т. е. бессмертник!) и не «timo» (т. е. лесная мята), но что по-итальянски говорят просто «gnafalio»! (Gnaphalium arenarium, Linn, господи помилуй!) Но, к сожалению, было поздно: во-первых, менять название в третий раз – ни за что, это просто-напросто означало бы выставить себя дураком перед всем миром. А кроме того, слово «gnafalio» и не очень благозвучно, не самое оно красивое. А потом, что-то уже стало поскрипывать и покачиваться, возникли трудности с провиантом, войска на местности загнали в свои гарнизоны, и они не смели носа высунуть за проволоку, дороги минировались, и на них было полно засад, а воинские пополнения приходили в Задар прореженными и изрешеченными, принося больше мертвых, чем живых. Короче говоря, никому больше не было дела ни до бессмертника, ни до «gnafalio». Впрочем, хорошо, что на том и закончилось. Ибо спустя некоторое время обнаружился еще один мудрец, завистливый Балдасар Детрико, который публично утверждал в кафе: честь и слава Богдани, но смиль не только не миртилло и не тимо, но даже и не «gnafalio» (gnaphalium arenarium, Linn): смилье, не больше и не меньше как Helicrysum italicum! Вот так, они уже почти держали в руках это звучное название, имели шанс даже самим этим названием символически связать Смилевцы с Италией – и на́ тебе, все погубили каким-то своим «няфалием»!
XIII
Но полянка перед бывшей артелью, по которой прогуливались теперь беженцы из города, видала и лучшие дни. На этой самой полянке с покосившимися соснами, кору которых погрызли солдатские мулы, происходила – без малого два года назад! – торжественная церемония, когда местную винную артель превратили в местное «Dopolavoro»[65]. Но и эта церемония имеет свою историю.
Ровесник Ичана и товарищ его детских игр Миле Плачидруг, сын их кума и первого соседа Обрада Плачидруга, с ранних лет был беспокойным, озорным ребенком, и Ичану от своего покойного батюшки и крестного отца Миле Ачима не однажды крепко доставалось за участие в разных «предприятиях» Миле. Его уже тогда звали в деревне Миле-куровод, и при каждом исчезновении курицы подозрение падало на него, даже если он был не виноват. Затем некоторое время он прислуживал той же самой попадье, носил ей воду и разводил огонь, а она скудно кормила его и «направляла к добру» способом, который даже старому Обраду казался слишком строгим, так как у Миле частенько вздувались ладони от палок. Как позже всегда говорили в селе, она была единственным человеком, который за всю его жизнь наступил Миле на хвост и поселил у него в душе страх. Однако Обрад терпел ради обещания попадьи, что, когда мальчику исполнится двенадцать-тринадцать лет, когда он «немного окрепнет и раздастся», она отправит его со своей рекомендацией к отцу Амврозию Вукобрату в монастырь Крупа, чтобы тот принял его послушником. И в самом деле, когда Обрад заявил, что хватит парню «услужаться», попадья послала его к Амврозию, выдав в качестве прощального презента книжицу «Школьный звонок», на которой красовалась оттиснутая резиновыми буковками печатная надпись «Милутин М. Радойлович, гимназист», два пожелтевших крахмальных воротничка покойного попа Михайла и сказав при этом: «Бери, пригодится тебе, когда станешь монахом и владыка призовет тебя оправдываться».
Однако Миле не понравилось и у отца Амврозия. Через пять-шесть месяцев он вернулся домой, а следом за ним к попадье пришло письмо от Амврозия о том, что «таких святых обителям не надобно», что он служит «к соблазну в монастыре и во всем селе, портя и во зло используя юных и дерзко и непочтительно отвечая старшим».
Короткое время Миле оставался дома, а когда поступило приглашение «Хозяина» посылать ему на воспитание «быстрых разумом детей из благородных, но бедных сербских семейств», то едва дождались, чтоб отправить туда Миле, который полностью отвечал условиям: он был и быстрый разумом, и принадлежал к благородному, но бедному сербскому семейству. Но опять-таки не прошло и полугода, а от «Хозяина» пришло письмо, подобное письму отца Амврозия и содержавшее сообщение о том, что Миле отправляют домой за свой счет. Письмо пришло, однако Миле вслед за ним не появился.
Почти целых два года о нем не было ни слуху ни духу, а между тем у него умерла мать, а за нею и отец. Вскоре после этого в один прекрасный день в селе возник Миле. За очень короткий срок он спустил и распродал оставшееся от отца и отправился в Задар, к какому-то албанцу, содержавшему гараж. Здесь он мыл машины, заправлял их бензином, накачивал шины и заглядывал под сиденья – не завалялось ли там что-нибудь. В Задаре он провел много лет, но потом там тоже что-то разладилось, вновь в один прекрасный день он оказался в Смилевцах. Тут его призвали в армию, где в наказание за неявку в установленный срок он прослужил дольше, чем полагалось. После этого на долгое время и след его потерялся. Наконец Миле нагрянул в Бенковац и устроился в суде исполнителем.
Миновало несколько лет. Казалось, он успокоился, остепенился. На одних выборах он был даже хранителем урны. Дружбы с юными повесами не водил, чаще всего его видели в компании канцеляриста Любы Копши. Кое-кто из односельчан, приезжавших судиться в Бенковац, начал называть его шьор Миле. Ходили слухи, будто он намеревается перевестись в канцеляристы и будто Копша в этом деле его наставляет и направляет.
Дело, однако, обстояло иначе. Вокруг Любы все туже стягивался обруч из-за каких-то его крупных промахов в обращении с бумагами и судебными повестками, и он считал, будто с появлением Миле нашел выход: на чердаке здания суда среди разнообразных corpora delicti[66] лежали и два пакета взрывчатки, заброшенной из Задара организацией заговорщиков «За отечество!». Вот он, выход! Нечаянно вспыхнет пожар, старые бумаги и прогнившие балки вспыхнут соломой, а в огне сгорят и следы всех грехов. И вот однажды, когда Копша находился за городом на расследовании, Миле – уже после того, как здание суда заперли, – свое дело сделал. Осторожности ради он отправился за город на прогулку километров за пять или шесть и расположился на ночлег в лесочке, поджидая, когда в ночной дали запляшет веселый огненный хвост на бенковацкой косе. Однако ночь миновала безрезультатно: в Бенковаце ничто не было заметно. Проблуждав все утро по полям, в полдень Миле заглянул в корчму на Надине. Здесь от каких-то возвращавшихся из Бенковаца мужиков он узнал, что вчера вечером на крыше суда заметили дым и сперва подумали, будто загорелся дымоход; что пламя, к счастью, вовремя удалось погасить и что Копша по возвращении немедленно был арестован. Больше этого Миле и не надо было узнавать. Остаток дня он провел в том же лесочке, а с наступлением вечера двинулся напрямик к границе Задара и на рассвете через одну из лазеек, которыми пользуются контрабандисты, перебрался на территорию города.
Он просидел в саду общины, пока как следует не рассвело. Он понимал, что и в Задаре он вряд ли находится в безопасности и что югославские власти могут потребовать его выдачи. Поэтому он быстро разработал свой план: отправился к прежнему хозяину и попросил, чтобы тот, во-первых, выдал ему справку, что он у него работал, а во-вторых, достал бы дубликат удостоверения о том, что он состоял членом молодежной фашистской организации. Обеспеченный кое-как этими бумагами, Миле решил идти прямо к фашистскому федералу[67], дабы изобразить все дело в политическом свете и отдаться под его защиту. Ему пришлось долго ожидать и пройти через несколько инстанций, прежде чем он предстал пред очи самого федерала. Тот его выслушал, в ответ не вымолвил ни слова, но с короткой запиской послал к другому чиновнику в форме, тот далее – к третьему, а тот – уже к четвертому.
Целых три дня они перебрасывали его один к другому; Миле вдосталь находился по канцеляриям и насиделся в приемных, опасаясь, как бы они его не провели.
Чиновников вынуждала к осторожности мысль о том, что он может быть заброшенным с той стороны границы шпионом. Наконец ему сообщили, что его принимают при условии, что он вступит в члены «чернорубашечников». Миле ухватился и за это – единственный остававшийся покуда открытым для него выход. Его усадили в машину между двумя охранниками. Когда автомобиль покинул улицы города и поехал по шоссе, парень подумал, что его везут на границу и передадут жандармам, и в душе облаял «коварных латинцев». Однако машина куда-то свернула и остановилась перед большим зданием с решетками на окнах.
За решетками стояли смуглые лохматые люди в майках или обнаженные до пояса. Просунув сквозь решетки темные свои руки с выведенными татуировкой сиренами, парусами и гнусными рисунками, они отпускали двусмысленные шутки девушкам, которые выходили из окружавших лачуг, наряженные в белоснежные свитера ангорской шерсти и с завитыми, еще влажными кудрями. Неприкосновенно выступая на высоких каблучках, они следовали под ливнем примитивных острот, обрушивавшихся на них сверху из тюремных окон. Грязные босоногие ребятишки, гонявшие старый жестяной обруч, стояли перед домом и жалкими голосами упрашивали этих людей бросить им сигаретку, а те в ответ гнусно облаивали их матерей и сестер, плевали на них в окна и бурно проявляли свою радость, когда плевок попадал в цель.
Пять безмолвных дней провел Миле в этом доме. Ему удалось передать оттуда записку бывшему хозяину, где он обиняками сообщал только, куда попал. Должно быть, он и сам не знал, зачем он это делает и чего от того ожидает. Может, надеялся на какое-то избавление с помощью того человека; а может, это был всего лишь вопль отчаяния, не требующий ответа, – потребность подать о себе голос, потребность, часто возникающая у неизвестных заключенных и лагерников, которая вызывает у людей неосознанное сострадание и в которой проявляется естественное желание человека, чтобы его могила была отмечена. Хозяин Роберто долго мусолил пальцами записку, недоумевая, что можно сделать для этого парня. И свое недоумение разрешил таким образом: послал ему пять пачек сигарет «Serenissima» с изображением гондолы, покачивающейся на волнах мутных отражений и привязанной к живописному покосившемуся венецианскому причалу. Новые товарищи Миле радостно встретили эту передачу: «Вот, значит, как! У парня есть девочка, которая посылает ему роскошные сигареты!» Миле их не разубеждал, только молча посмеивался.
Пять дней прошли для него словно в каком-то похмелье, а на шестой его посадили на пароход в составе воинской части, отправлявшейся на поле боя в Испанию.
Никогда больше в селе о нем ничего не слыхали – да мало кто и старался что-нибудь разузнать, – и, вероятно, односельчане совсем бы о нем позабыли, если б не существовало нечто, что им о нем напоминало.
В то время, которое после возвращения от «Хозяина» он провел в Смилевцах, бездельно шляясь и лодырничая целыми утрами, стоя, облокотившись на чужую ограду, и развлекая сборщиков винограда рассказами о чудесах на белом свете или побуждая парней играть в чехарду и пользуясь на забаву всему селу своими «иностранными» названиями различной домашней утвари, однажды вечером Миле повстречал на опушке рощицы, пониже села, Немую Саву, глухонемую батрачку в хозяйстве Лакича, здоровую, плотную деваху, толстощекую, с совершенно белыми ресницами и волосами. Дрожа от возбуждения и мерзко ухмыляясь, он приблизился к ней и попытался завязать разговор. На полях там и сям мерцали разложенные пастухами костерки, их дым смешивался с легким туманом, который надвигался с краев; из леса поддавало вечерней студеной влагой, которая покусывала кончики ушей и пальцев. Сава глядела на него со своей невинно-удивленной улыбкой, ласкала добрым взглядом бесцветных глаз, что-то мычала, издавая время от времени короткие, смешные повизгивания, означавшие, очевидно, радость. Он оглянулся по сторонам и, убедившись, что поблизости никого нет (пастухи забрались в кусты и выглядывали оттуда), бросился на нее, повалил и изнасиловал.
Еще и по сей день, когда Саве с ведерком в руке приходилось идти по воду мимо мужиков, собравшихся после работы возле артели, кто-нибудь из них дразнил ее непристойными жестами и подмигиванием, напоминая об истории с Миле. А она, как и тогда, вся ощетинивалась, напрягалась в судорожном мычании, словно хотела отвергнуть и вовсе стереть не только воспоминание, но и самый факт происшедшего; изо рта ее вырывались отрывистые горловые возгласы, какой-то изуродованный, сильный и в то же время бессильный стон, напоминавший предсмертное блеяние овцы; и это ее испуганное возмущение заставляло людей смеяться до слез. А когда Сава уходила и смех утихал, кто-нибудь качал головой:








![Книга Обмен мнениями [=Симпозиум] автора Милан Кундера](http://itexts.net/files/books/110/no-cover.jpg)