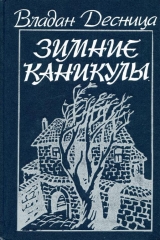
Текст книги "Зимние каникулы"
Автор книги: Владан Десница
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 28 страниц)
– Эх, Миле, Миле! – и добавлял: – И кто знает, где он теперь?
– Не потеряется, не бойся! – откликался другой. – Такие не пропадают.
Во внутренней переписке фашистов обнаружилось всего лишь еще одно упоминание о нем: через месяц после отправки в Испанию пришло сообщение о его гибели, и тогда же его имя вычеркнули и из списка «облагодетельствованных», и из списка подозрительных лиц.
А когда итальянские оккупанты захватили большую часть страны, в том числе и Смилевцы, новый федерал, лично не знавший Миле и созерцавший его образ уже из исторической перспективы, подумал, что было бы неплохо его имя также добавить к списку личностей, павших за дело фашизма. Таким образом мраморную доску на городской мэрии вместе с именами юношей Ubaldo Crivich, Glauso Snaccich и Italo Puch украсило еще одно: Emilio Placcidrug.
И поскольку возобладала точка зрения, которую федерал, человек широких взглядов, яростно защищал, а именно, что «это крестьянство», queste popolazioni[68] нужно привязывать к себе, всячески подчеркивая их давние тесные связи с матицей Италией и выдвигая имена сыновей этой земли и что нисколько не было бы проявлением политической мудрости, но напротив – крупной тактической и психологической ошибкой, если бы, скажем, школе в Ралевцах или в Тврдом Доце присвоили имя Арнольдо Муссолини или Итало Бальбо, – было решено, что Dopolavoro в Смилевцах будет посвящено памяти этого сына отечества.
XIV
Федерал взял лично в свои руки организацию подготовки к торжественному открытию Dopolavoro и тщательно подготавливал речь, которую ему надлежало произнести. С этой целью он затребовал исчерпывающую информацию об общественно-культурных условиях жизни той среды, из которой вышел Миле. Проф. Богдани обратил его внимание на то, что в Городской библиотеке под шифрами Ms 371, 372 хранятся две рукописные тетрадки покойного каноника Claccicha, заслуженного деятеля в Задаре на ниве отечественной историографии, «Spigolature di storia patria»[69] и «Vestigia romane di minor conto di contado di Zara»[70] и что в этой последней есть заметка, что в Смилевцах в доме человека по фамилии Поздер имеется одна urna cineraria[71] римской эпохи. Федерал без колебаний решил предпринять научную экскурсию, и в одно прекрасное утро они сели в автомобиль и запылили в направлении Смилевцев. Богдани сам вел машину. Он был в старом реглане, который специально держал для подобных экспедиций – чуть укороченном, потому что из отрезанного куска жена соорудила ему новый воротник, который несколько отличался свежестью цвета, – а французский берет он натянул на левое ухо, весьма чувствительное к сквознякам, и весь этот костюм в целом придавал его легкой фигуре оригинальное и до некоторой степени озорное выражение. Волнообразным движением руки он оглаживал мягкие контуры пейзажа, давая федералу необходимые топографические пояснения. Он указывал ему на некую весьма типичную позицию, на каких римляне имели обыкновение строить водопроводы, и разъяснял причины, по которым они на этом месте такового, однако, не построили.
В разгаре была весенняя пахота, на полях сверкали своими боками вывернутые глыбы земли, а на однообразной пепельно-серой поверхности полей темнели черные борозды. Воздух был чистый, разреженный, какой-то даже драгоценный, а небо бледно-голубым и совершенно чистым, так что взгляд мог свободно блуждать по всей местности, вплоть до четких контуров хребта Велебит с его белыми вершинами и остатками снега в лощинах. Каждый предмет, каждая деталь была четко прорисована; край был ясен в своей пустынности, без излишней мягкости, без слащавой пастельности, но и без каких-либо выделяющихся резких штрихов, исполненный мягкого, но сдержанного благородства. Он выглядел умытым, очищенным вчерашней непогодой – словно бы поджидая новых обитателей, которые здесь поселятся, как в начисто выметенном доме.
Узнав из рассказа Богдани, что когда-то здесь были турки, федерал словно ожил. Ему сразу представилось, будто он едет в самую глубь страны, и он пожалел, что не снарядился так, как следовало бы для подобной экспедиции. На его вопрос, остались ли после турок какие-либо следы, памятники, Богдани объяснил, что в языке и образе жизни этого народа сохранилась масса турецких слов, выражений и обычаев и что даже тополя, там и сям виднеющиеся в пейзаже, есть остатки воспоминаний о турках и что местное население наверняка переняло у турок привычку столь густо сажать тополя, напоминающие минареты, ибо, судя по всему, во время своих походов за недостатком подобных минаретов турки призывали к молитве со своего рода площадок, установленных в листве тополей. Этот факт, до сих пор, по словам Богдани, не отмеченный наукой, живо заинтересовал федерала.
Ибо федерал любил могучую историю. Он любил иметь перед собой нечто реальное, видимое, осязаемое, доступное органам чувств, нечто, что подстегивает воображение. И было, конечно, желательно, чтобы это видимое и осязаемое оказалось по возможности еще и прекрасным; в этом случае, с его точки зрения, история превращалась в историю культуры. Ему казалось, что эта история, которой здесь все насыщено, все эти турки, сарацины, авары, норманны, готы и кельты, все эти местные государи, местные династии, все эти приоры, городские бальи, епископы, капитаны, княгини-аббатисы, городские собрания, церковные соборы и съезды аристократии – все это сидит на ветках до самых облаков и все это – чудесная и волнующая сказка, но что нечто подобное можно было б рассказывать, если б некогда здесь существовали инки или самоеды на своих запряженных оленями санках. И что вся эта повесть хороша и может удовлетворять лишь до тех пор, пока человек хочет ее принимать, но что в равной же мере можно ей и не поверить, и тогда столь же мгновенно все это рушится, разваливается и совершенно исчезает, и не остается ровным счетом ничего, что бы ее подтверждало и доказывало, и что ощупать рукой и увидеть собственным глазом невозможно ничего, кроме того, что осталось после римлян и венецианцев. А коль скоро мы видим, что все, воздвигнутое Римом и Венецией, провалилось в тартарары, исчезло, словно в колодце, то, очевидно, нет никакого смысла продолжать нечто в этот колодец высыпать.
Эти свои раздумья федерал изложил в том духе, что, как ему кажется, вся история этого края и этого народа заключается in non existentibus:[72] в какой-то летописи, бесследно исчезнувшей, в каких-то записях, которые оказались апокрифическими, в каком-то архиве, который сгорел, в каких-то грамотах, которые сделались невозможными для прочтения, в каких-то соборах, которые никогда не состоялись, в каких-то сооружениях, которые разрушили авары, и других, которые разрушили турки, в каких-то художественных ценностях, которые похитили Наполеон, Австрия, Италия, в каких-то лесах, которые уничтожила Венеция, в каких-то парусниках, которые проглотили пароходы, и так далее. Поэтому федерал и подхватил столь жадно в этой пустынной местности тополя Богдани, с которых призывали к молитве… Под несколько более критическим взглядом, следовательно, вся эта история рассыпается, и ничего не остается, ровным счетом ничего, кроме этой голой и весьма неутешительной реальности, кроме этих желтых людей с опухшими глазами, людей, которые еще едят деревянными ложками и равнодушно смотрят на мчащийся автомобиль, кроме этих женщин с низким, как у самоедок, лбом, которые, сидя на пороге своих жилищ, ищут друг у друга в головах.
И когда недавно, на похоронах префекта, убитого ribell’ами[73] в тот самый миг, когда он нес луч просвещения в эту глушь, торжественно открывая La Casa del Fascio Ordelafo Vucassinovich[74] в Доне Оглодже, он размышлял о том, как это племя вот отвергает и этот, вероятно, последний шанс вступить в семью культурных народов, то никак не мог понять странную и в своей наивности трогательную пропаганду ribell’ов будто они все это и творят именно потому, что с них хватнных книит и готов, и аваров, и турок, и потонувших парусников, и сведенных лесов, и сожжег, что с них хватит и деревянных ложек, и убиения насекомых перед домом, на солнышке.
И по воле одной из тех стремительных перемен настроения, которым он был подвержен, федералу вдруг все это показалось печальным и лишенным смысла, и это мгновенно отразилось в новой вспышке рефлексии, которая изумила Богдани.
– Я вообще не понимаю, чего мы здесь ищем! – заявил федерал. – Почему мы носимся по свету и хотим осчастливить людей и целые народы вопреки их воле, вместо того чтобы сидеть дома и лечить свои собственные раны и несчастья? А мы по Европе и ближней Африке строим для других отличные дороги, как будто превратились в фирму по строительству асфальтированных дорог!
Помолчал Богдани, грустно глядя на далекие тополя, помолчал и федерал, сделав затем окончательный вывод:
– Be’, vedremo![75]
Они находились перед Смилевцами.
Остановились, вышли из машины размять ноги. Расспросили, где дом Поздеров, и быстро нашли – это был дом Ичана Брноса. Село выглядело совершенно пустым: все находились в полях, дома остались только старухи да малые дети. Вайка поскорей отправила мальца за Ичаном, который чинил сбрую у Савы Мрдаля. Ичан подумал, что опять нагрянула какая-нибудь комиссия, которых было навалом и во времена Австрии и затем в Югославии, а теперь и в Италии, для регулировки истоков Париповаца, который обводнял огороды с капустой и распространял малярию по всему селу, и ему опять придется переносить их черно-белую планку и вытягивать жестяную ленту из футляра. Федерал и Богдани между тем в ожидании его возвращения прошлись по двору и обнаружили в самом его углу, под шелковицей, каменное корытце, из которого кормили поросенка. Многозначительно переглянувшись, они перевернули корытце ногой, внимательно осмотрели со всех сторон и наконец неопровержимо установили, что это и есть urna cineraria, о которой упоминал каноник Claccich в своем сочиненьице «Vestigia romane», и что сделана она, вероятно, в близкой Градине, древнеримском Brebentium’е, где когда-то располагались VII, а затем XI легионы.
Чтобы время не пропадало даром до прихода Ичана, Богдани, недурно владевший народным языком, решил, что не худо от живых свидетелей, помнящих Миле с самого его детства, узнать нечто о нем малоизвестное.
– Слушай, старая, – обратился он к Вайке, которая как раз в эту минуту чистила песком кадку, повернувшись к ним спиной и согнувшись так, что лица ее не было видно, – слушай, старая, а ты знала Миле Плачидруга?
– Ух! Мне да его не знать! – Вайка прекратила свое занятие и показала в перспективе свою голову из-за задницы. – Он мне вон куда забрался, с этим моим!..
– А каков он был ребенком, а?
– Мерзкий парень, хуже не бывает… – Но, тут же спохватившись, добавила: – Да ведь не знаю, может, он потом, в большом мире, и поправился?
Появился Ичан. И его тоже, словно бы невзначай, они спросили о друге его детства.
– Каков же он был?
– Ну… как сказать, и не такой уж плохой, как толковали, – выцедил Ичан и мудро заключил: – Хуже всех к самому себе был, вот в чем штука.
Ему сообщили, что свиное корытце относится к римской эпохе и сделано в Градине, что об этом написано в книгах. Ичан, правлда, прямо ничего не отрицал, но стоял на том, что «корытенько» (теперь он так его окрести) лежит там, где его видели, должно быть, с первых дней творенья и что обнаружил его там отец, покойный Ачим Брнос, когда, лет пятьдесят тому назад, переселился сюда из Буковицы и вошел в дом к Вайке Поздеровой. А старая Вайка клялась всем на свете, что сосуд этот здесь с той поры, как хозяйство Поздеров возникло, и что еще ребенком она слыхала, будто был он здесь и прежде, еще издавна, в те поры, когда на этом самом «фундаменте» жил какой-то древний поп Адам, у которого было девять дочерей и восемь из них он повыдавал замуж, всех за людей именитых и попов, а девятая, Милойка… но здесь гости повернулись спиной, поскольку дальнейшее их не интересовало, и пошли в село.
Коль скоро они оказались здесь, решили по пути заглянуть и в церковные книги. Книги эти, к счастью, тогда еще были целы, и желание вполне было осуществимо. Но, к сожалению, в них мало что заслуживало внимания: можно было узнать, что в четвертый день (или семнадцатый) июля 1906 года у отца Обрада Плачидруга и матери Илинки Шево, состоявших в законном браке, родился младенец мужского пола, который при крещении наречен был Мило, а крещение совершал приходский священник Михайло Радойлович, при чем присутствовали кумы Ачим Брнос и Илия Скокна… В этом месте федерал с огорчением подумал, насколько было бы лучше, если б отца звали Илия Скокна (Elia или даже Elio Scocna! – это звучало бы превосходно, почти как Stelio Effrena!..[76]) или хотя бы кума звали Обрад Плачидруг! Но что поделаешь? Федерал, так сказать, по-мужски взглянул неудаче в лицо и, подготавливая свою речь, коротко задержался на детских годах Миле: увидел свет в семье тружеников, крепких хлебопашцев, обожженных солнцем подобно пастухам с Абруццей, в скромном каменном домике в Смилевцах, неподалеку от древнеримского Бребенциума, возле самой дороги, на которой словно бы еще слышно эхо двухтысячелетней победоносной поступи римских легионов и с которой Миле еще младенцем жаждущим взором смотрел в долину Задара, сверкавшую в лучах солнца подобно драгоценной фибуле, которая соединяет его родной край с другим берегом и через него – с Адриатикой, колыбелью культуры, и т. д….
Месяц спустя состоялось торжественное открытие Dopolavoro. Перед строем черных рубашек федерал совершил символическую поверку павшего героя. На его возглас: «Emilio Placcidrug!» – вся рота в сотню глоток рявкнула: «Presente!»[77], подтверждая таким образом, что частица духа Миле живет в каждом из них. Особенно усердно ревел некий приземистый и смуглый, весь в кудрях парень из первой шеренги, с длинной кисточкой на черной шапке, лихо сдвинутой на самый затылок. Деревенские мальчишки, чьи головы торчали из-за изгороди, толкали друг друга локтями в бок, указывая на этого, яростно вращавшего глазами, удальца:
– Вон, вон на того погляди, на коротышку, в конце – у, какой!..
Для увековечения памяти воздвигли перед Общинным домом, Dopolavoro, в тени пиний, цементный памятник в виде римской стелы – Столп Эмилио Плачидруга, на котором с одной стороны была изображена римская волчица, с другой – крылатый лев св. Марка, а впереди ликторский фашистский топор с прутьями; на вершину этой стелы водрузили сосуд со двора Ичана, вовнутрь которого укрыли металлическую чашу, из которой кротко попыхивали язычки пламени. В зале Дополаворо устроили банкет, после коего, для народа, прокрутили два короткометражных фильма: «Народ области Эмилия с воодушевлением выполняет поставки зерна» и «Свадебные обряды на Сардинии».
Всю эту церемонию снимал на пленку, устроившись в сторонке, человек-специалист; весь он целиком раскорячился в непотребной позе: присев на корточки, снимал снизу, а левую ногу, вывернув, вытянул далеко вперед; казалось, что он одновременно и прячется за кустом, и собирается прыгать через большую лужу. Прибор его приглушенно потрескивал, а стоявшие в строю люди салютовали винтовками, не сводя глаз с командира – лишь кончиком носа следили они за снимавшим человеком; они тоже со своей стороны старались, чтобы съемка удалась получше. Ибо впоследствии все это торжество будут смотреть сотни и сотни тысяч людей, там, за морем, и сицилийцы, и сардинцы, ленту под названием «Население патриотического Няфали отдает дань уважения лучшим» вместо этих «Сардинских свадебных обрядов», которые сегодня смотрели няфаляне.
А чтобы народ не проявил себя столь неблагодарным и недостойным забот, которые ему посвящают, намеревались в Смилевцах еще много чего сотворить. Предполагалось открыть в первом этаже Dopolavoro детский сад, и уже был получен подарок префекта: счеты с косточками в виде различных лакированных ягод – клубники, малины, вишни; сам федерал уже обеспечил сорок комплектов униформы и сорок винтовочек для смилевацких «Сыновей римской волчицы»[78]. Перед самим зданием решено было разбить декоративную клумбу, на которой из различных цветов имел быть изображен дикторский топор. Однако народ на все эти, как и на прочие, проявления подобной заботы ответил нападениями на воинские колонны и боевые посты, а также уничтожением всех достижений культуры, ему предназначавшихся. И тогда смилевчанам выпало на долю вновь увидеть те же самые «черные рубашки» (которые украшали торжество открытия Dopolavoro имени Миле Плачидруга резвым ответом на лозунги федерала), вновь увидеть, как они проходят по селу, возвращаясь из коротеньких экспедиций, опаленные солнцем и пламенем пожаров, покрытые пылью и навьюченные награбленным в сожженных домах добром. Перед их приходом село пустело – все живое уходило в поля, в лес, а черные рубашки расползались по обезлюдевшим домам, разбивали сундуки невест, уносили деревенские ткани, мониста из разных монет, вяленое мясо, задушенную голыми руками птицу; предводительствовал ими тот самый коренастый огарок с длинной кисточкой на шапке. А после их ухода в Смилевцах, на виду у Задара, полыхали дома тех, кто ушел в лес.
Но миновало и это. Нагрянули немцы и превратили наглых поджигателей в свою покорную и льстивую прислугу, а затем навлекли ливень авиационных бомбардировок на города, чьи беззаботные дотоле жители лишились своих домов, имущества, разбежались и разошлись в разные стороны, так что пришлось им искать убежища даже в сожженных Смилевцах. Жалкие, никем не презираемые, они прозябали здесь как могли и умели; сидели по вечерам возле очага в Ичановом доме, помогали хозяину, развлечения ради, разбирать кукурузу и в разговоре узнали от него и от старой попадьи Даринки местную версию истории Миле Плачидруга, чье далекое и неведомое им прежде имя днем и ночью навязчиво бросалось в глаза с мраморной доски на здании здешней управы. Чуть в сторонке, в уголке, Екина и Йово развлекали крохотную Капелюшечку погремушкой из сухих горошин в консервной банке, уча ее произносить их имена.
XV
В опустошенности всякая мелочь мгновенно рождает воспоминания. Из любого пустяка дает росток история. Всякий черенок превращается в памятник. В Смилевцах так же, как и в любом другом месте. Жаждущее воображение оплодотворяется любой частичкой познания. Обломок средневековой шпоры, извлеченной лемехом плуга из распаханной могилы, может вызвать перед нашим взором вереницы мчащихся в атаку латников, старинный ключ, откопанный в солнечном винограднике, отпирает нам двери давно исчезнувшей с лица земли обители тамплиеров и на цыпочках вводит нас в их мертвое бытие. Пробитый шлем в придорожной канаве, еловый крест над телом чужеземного воина, погибшего совершенно случайно, вне программы, отмечает целую человеческую жизнь. Жизнь, которая здесь, на глубине двух пядей под нами (ибо неглубоки и поспешны эти солдатские захоронения на марше, перед приближением ночи), лежит уже распавшаяся в кожаных ремнях, в слишком просторной каске, с флягой на истлевшем боку. И миска, из которой сейчас мирно пьют цыплята, и брошенная винтовочная обойма, и позеленевшая гильза от сигнальной ракеты, которую теперь используют как свистульку деревенские ребятишки, – все это памятник, все это отшумевшая жизнь.
За недостатком газет, тетрадок с дешевыми романами и разговоров в цирюльнях горожане уже привыкли к вечерним рассказам Ичана. El nostro cantastorie[79] обнаружил шьор Карло. И они уже ожидали этих ежевечерних историй с каким-то внутренним удовлетворением. А отличным поводом для начала какой-либо истории могла стать любая мелочь.
Из этих рассказов Ичана и лаконичных, но точно очерченных наблюдений старой попадьи узнавали горожане о многих сельских событиях; и лица, которые еще недавно в этих событиях играли какую-то роль, свежие утопленники на отмели забвения, постепенно оживали, заливались бледным румянцем и вновь начинали дышать, затуманивая робким дыханием вечное зеркальце «cantastorie». Теперь уже одинаково отсутствующие и нереальные для деревенских очевидцев, как и для горожан, они жили и для тех и для других лишь своей двухмерной жизнью плоской тени и одинаковые, равные по отношению ко всему и всякому, свободные от какой-либо пристрастности или предубежденности и готовые без каких-либо предрассудков по отношению к очевидцам и без всяких обязательств перед историей скорее воскреснуть перед призывом более любопытного и усерднее отдаться более теплой фантазии. И тонко чувствующая Лизетта была словно специально избранным медиумом этих блуждающих теней. О, очень часто она узнавала о них еще больше и еще глубже, чем сам Ичан, чем сама попадья! Они только изумлялись, откуда, из какого потаенного источника белокурая нежная женщина извлекает эти точные данные о неведомых событиях, это верное ощущение вещей, которых она никогда не знала.
А они так стремились к жизни, эти тени, так жаждали воплощения! И нередко было достаточно, чтобы их бегло коснулось крыло одного-единственного слова, беглое упоминание в разговоре, чтобы они моментально проступили из мутной мглы и обнаружили свои контуры в танцующем дыме Ичанова очага. Из его рассказа, сдобренного вполне кстати дополнениями попадьи и одухотворенного тонким проникновением Лизетты, была соткана в общем сотворчестве и «повесть о незнакомке».
В один прекрасный день, «когда еще Талия держалась на ногах» и когда в одном из крыльев артельного дома располагался пост карабинеров, с грузовиком, снабжавшим посты почтой, хлебом и прочим довольствием, вдруг появился неожиданный гость: из машины выскочило существо женского пола, неопределенного возраста, с белокурыми от перекиси волосами, но тонкими черными бровями, темно-красной помадой на губах и румянцем на впалых щеках. Обута женщина была в зеленые туфельки на высоком красном каблуке, которые всю дорогу держала на коленях завернутыми в бумагу и надела лишь перед самым селом; застежки у них были узорчатые в форме змеи – самая настоящая змейка, с острой головкой на конце. Большие четырехугольные очки синего стекла в толстой розовой оправе скрывали большую половину ее изможденного лица.
Это была Евлалия Гримальделло, прибывшая непосредственно из Неаполя, без всякого предупреждения, чтобы устроить сюрприз своему жениху, вице-бригадиру карабинеров Франческо Джона. Поскольку она была дама, привыкшая к путешествиям, ибо ей приходилось ездить даже на верблюде во время поездки в Африку к одному из прежних женихов, то это путешествие показалось ей очень коротким и ничуть не утомительным, просто шуточным, и она выпрыгнула из кабинки свежая и легкая.
Курчавый Джона вышел к машине, не подозревая о грядущей беде, с охапкой писем под мышкой, в грубой полотняной блузе, в какой он и находился в канцелярии. Увидев Евлалию, он замер на месте: растерянная улыбка застыла у него на губах, и он чуть побледнел. Евлалия расцеловала его в обе щеки и нежно осведомилась: «Как поживаешь, милый?» Затем она отошла к машине взять свой чемоданчик, и когда опять подошла к Джоне, у которого по-прежнему красовалась на губах окаменевшая улыбка, а слов не находилось, выражение лица ее мгновенно изменилось, и она изрекла голосом, который стал вдруг глубоким и насыщенным:
– Скажи прямо, тебе неприятен мой приезд, да? – Во взгляде ее сверкнула жуткая решимость, от которой можно было немедленно ожидать самого ужасного.
– Ничуть, как тебе такое могло прийти в голову, наоборот, наоборот! – зачастил Джона.
И, дабы предупредить все то, что ему предстояло, обеими руками обнял ее голову, запечатлев на губах долгий поцелуй – перед крестьянами и детворой, стоявшей рядом, а также перед шофером, почесывавшим за ухом и с гримасой смотревшим в сторону.
Евлалия осталась в Смилевцах, заняв одну из комнат Дополаворо, в непосредственной близости от Джоны. Туда доставлялось большое количество яиц, и сквозь зарешеченные окна целыми днями доносился стук и позвякивание флаконов, баночек, бутылок и распространялся запах огромных яичниц с луком и салом. Молодые карабинеры, которых ежедневно отправляли на сверхурочное патрулирование, выходили из казармы раздосадованные, с винтовками на плече и ремешками фуражек на подбородке, злобно бормоча: «Porca Madonna!»
Иногда в разгар утра из окна вырывался неожиданно, без всякой подготовки, высокий, но густой звук, о котором, пока он не превратился затем в популярную песенку, трудно было сказать, что это: гудок парохода в тумане или скрип гроба, который придвигают ближе к одру. На самом же деле это Евлалия Гримальделло, выспавшаяся и в отличном настроении, обнажала клинок своего альта, который мгновение спустя превращался в прихотливую амплитуду танго:
Amami!.. Amami perdutamen… te!..
Baciami!.. Baciami senza rimor… so!
[80]
Долго после этого соседские ребятишки Мичко и Илийца, каждое утро доставлявшие ей молоко, передразнивали манеру ее пения, дуя в горлышко пустой бутылки и говоря: «Вот так выставляется эта карабинерская гуделка».
Утверждали, будто Гуделка останется в Смилевцах учительницей. Шансы ее увеличивало то обстоятельство, что после самой первой учительницы, появившейся сразу в начале оккупации и сбежавшей через пять дней, никогда больше не удавалось найти школьного наставника в Смилевцы.
Иногда после обеда она выходила с Джоной на прогулку; он был свежевыбрит и напудрен, простоволос – предоставляя ветру и солнцу играть его кудрями, – а она в тех же туфельках со змейками и больших синих очках – такая же, какой приехала. Она шла по деревенской улице, как по коридору, милостиво лаская рукой новорожденных, а детей постарше призывая по потребности жестом руки и исполненным строгости взглядом, и подставляла им ладонь для поцелуя. В одну из первых своих прогулок она дошла до памятника Миле, положила к нему букет цветов, отступила на шаг и мгновенье оставалась в скорби; рядом с ней стоял Джона, который, уходя, взял под козырек; может быть, имея в виду учительское место, она подумала, что будет не плохо приобрести симпатии этого населения (queste popolazioni).
Однажды вечером (видно, это был настоящий или придуманный день ее рождения или именины – грузовик из Задара доставил кудрявый торт и несколько бутылок spumante[81], а у попадьи одолжили большой горшок) в Дополаворо устроили своего рода танцевальную вечеринку. На ней присутствовали все карабинеры в темных мундирах и почтальонша из Жагроваца, а из Задара припылили на велосипедах две барышни в каких-то спортивных маечках и шортиках. Плясали и пели допоздна, и патефон играл без передыху, пока внезапно не лопнула пружина. Спустя некоторое время веселье продолжалось под аккомпанемент глиняной дудочки.
Никто не знал, до каких пор оно продолжалось и когда и как окончилось, потому что все село спало. Только утром увидели заблеванные пороги Дополаворо и извилистые следы велосипедных шин на дороге; на рассвете было холодно (как заметила попадья), и, должно быть, у задарских барышень, не выспавшихся и терзаемых приступами желудка, стучали зубы, когда они возвращались обратно в город в своих маечках и шортиках. В помещении поста спали за полдень, и карабинеры довольно поздно отправились на дежурство. А чуть погодя оттуда вдруг донеслись крики, визг, рыдания. Мичко и Илийца, уже дважды приходившие с молоком, как раз оказались поблизости, когда это стряслось, и стремглав кинулись к изгороди, чтобы оттуда наблюдать за сценой, которая разыгрывалась за решетчатым окном, но не поняли как следует, что происходило. В памяти у них осталась такая картина: Евлалия, в розовой комбинации с бретельками из стеклянных камешков, с глубокими впадинами над ключицами, рыдала и дрожала всем телом, как тростинка, так что беспорядочные прядки ее волос извивались как змеи; у самого своего горла она держала нож с волнистым лезвием, которым режут хлеб, и в стремительном жутком tremolo делала такое движение, будто хочет вонзить его в себя; Джона хватался за голову, пытаясь вырвать свои кудри, стоял на коленях, отчаянно ломая руки, которые как бы каялись, обещали, умоляли. Сцена была волнующая, очень напряженная и содержала в себе нечто колдовское.
Затем все стихло, вновь воцарилась мертвая тишина, и в то утро более не было слышно ни стука сабайона, ни шипения яичницы, ни песни парохода в тумане. А на другой день больше не было Евлалии. Никто не видел, как она улетучилась.
– Вот так Смилевцы и в тот раз не нашли учителя, – погрузился в рефлексию Ичан. – Не везет в этих делах нашему селу: сдается мне, если пересчитать всех учителей, что у нас были, скажем, от святого Саввы до вот этой бабы, Гриманделовки, то на все про все больше шести, ну, от силы семи не сочтешь!..
Через некоторое время, при падении Италии, здание сгорело. Подожгли его немцы, чтобы там не угнездились «ribelli». Теперь, с выбитыми окнами и почерневшими ступеньками, оно утопало в траве под обожженными и надкусанными соснами. Перед ним еще стоял памятник Миле, заброшенный и несколько одинокий; цементная его облицовка потрескалась и частично отвалилась; издали он выглядел источником, в котором пересохла вода.
– …И тогда, – завершил Ичан свою повесть, – забрал я опять тот сосуд и положил на старое место, вон туда, где Мигуд, он там и сейчас стоит и стоял от самого сотворения мира, еще со времен попа Адама, у которого было девять дочерей, из которых он восемь хорошо замуж выдал, за богатых да за попов, а вот девятая, Милойка, чертовым путем пошла!..
XVI
– А каков человек был этот Джона? – заводили горожане Ичана.
– Ну-у-у… как бы вам сказать? Не самый лучший, однако и не из самых худших, каких хватало в других селах. Дьявол его разберет! Когда настроение хорошее – лицо светится, глаза веселые, поет в комнате так, что все кругом гудит. Скажет, бывало: «Mamma mia!» – точно дитя малое. Встретит пацаненка, что молоко попадье несет, погладит по голове, приласкает: «Piccolo berecino»[82]. Идет по дороге, остановится и глядит, как мы лозу подрезаем, разговорится, начнет показывать, как это у них делают – говорит, будто они лозу поднимают на подпорки, как вьюнок по стене. Болтает о доме, об отце с матерью – чуть слезу не пускает. А в другой раз – господи помилуй! Схватит кого-нибудь, запрет в каморку без окон – и ну пальцем глазные яблоки прижимать, загоняет глаза в голову – сам, собственными руками!.. Лицом изменится, не узнаешь – совсем другой человек, да. Причем не скажешь, что человек рассердился, не в себе, взбесился, говорю вам, просто совсем другой человек: можно сказать, будто этот не знает то, что тому, первому, известно.








![Книга Обмен мнениями [=Симпозиум] автора Милан Кундера](http://itexts.net/files/books/110/no-cover.jpg)