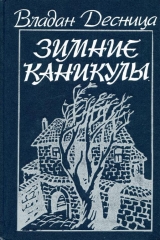
Текст книги "Зимние каникулы"
Автор книги: Владан Десница
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 28 страниц)
Лизетта без труда позволила убедить себя, ибо для нее даже страхи мужчины обладали такой же авторитетностью, как вообще любое мужское мнение или суждение. Она накрывала на стол – на скорую руку перекусить перед дорогой, – а Эрнесто между тем сновал по комнате, распахивая шкафы, вытягивая ящики и складывая в кучу или же засовывая в рюкзак то, что ему представлялось самым необходимым. Он занялся этим без особой охоты или интереса, достаточно произвольно оценивая, что нужно взять, а что оставить, стараясь лишь не превзойти разумный вес багажа и руководствуясь убеждением, что скоро вернется, равно как и тем, что на фоне этих гигантских событий и великих потрясений у него несколько ослабело чувство восприятия и оценки явлений более мелких и уменьшился интерес к собственным делам. Эту свою внове проявившуюся душевную широту он воспринимал почти как некий долг благодарности за чудесное спасение (теперь оно в самом деле казалось ему чудесным) и одновременно как некую дань уважения к памяти несчастных жертв. (Где-то в глубинах его мозга мелькала мысль о засыпанных людях.) Лизетта же, наоборот, стремилась унести с собою как можно больше, и Эрнесто пришлось помучиться, чтобы свести все к достаточно разумным пределам.
Едва они уселись за стол, как завыла сирена, и спокойствия как не бывало. Однако тревога оказалась ложной, скоро последовал отбой. Они суетливо рассовали то, что сочли самым необходимым и важным, в чемодан и два-три узла, водрузили все это на детскую коляску и на велосипед и тронулись в путь. На одной руке Эрнесто нес ребенка, другой вел велосипед; на спине его был рюкзак. Лизетта толкала нагруженную коляску (и то и дело ощупывала в сумочке, висевшей у нее на руке коробку с драгоценностями).
Улицы кишели народом. Группы беженцев – семьи, соседи, случайно соединившиеся люди – сливались в одну огромную реку; каждый волочил на один порядок больше, чем мог унести; тащили тюфяки, подушки, одеяла, изнемогая под их тяжестью и буквально теряя силы под неподъемным грузом. Особенно женщины, упрямые, как муравьи, не желали расставаться со своей ношей, хотя в полном смысле слова падали под нею. И все это двигалось, стонало, спешило, разрываясь между желанием унести побольше и все более отчетливым осознанием того, что, будучи столь обремененными, скоро они окажутся не в состоянии быстро двигаться и далеко не уйдут. А страх перед новым налетом подгонял, перехватывая дыхание и лишая последних сил. Стоило при этой всеобщей и повсеместной нервной напряженности лопнуть какой-нибудь старой бочке или раздаться какому-нибудь случайному воплю – пусть даже вовсе непохожему на теперь знакомое гудение самолетов, – как люди обмирали и сердца их готовы были разорваться. Останавливались часто, через каждые сто метров: начинались перегрузки, перевязки, перепаковки; заново увязывались узлы и коробки с едою, перематывались одеяла; детям давали нести вещи полегче – какие-нибудь там корзинки, набитые мелочами. Незнакомая женщина, совершенно изнемогая, остановилась перевести дух, а муж ее, потеряв терпение, топал ногами, обращая взоры к небесам, в молчаливом отчаянии призывая их на помощь.
Иногда проносился автомобиль, сверх всякой меры нагруженный вещами и людьми: на багажнике, на бамперах, на крыше красовались узлы, мешки, коробки; сверхнормативные пассажиры стояли на подножках, просунув руки в опущенные окна и крепко вцепившись в дверцы, чтоб не свалиться. На усталых лицах сидящих внутри можно было заметить отблески счастья, оттого что они столь стремительно удаляются из этого ада; некоторые старались придать своей физиономии выражение полного изнеможения, ощущая, по-видимому, некоторый стыд перед знакомыми, что шли пешком; однако на самом-то деле эту их затаенную радость и грешное наслаждение ездой в автомобиле еще более подчеркивала и усиливала картина пешего шествия беженцев, которые оставались позади, с муками волоча свой жалкий скарб.
Внезапно появилась откуда-то целая толпа велосипедистов, дребезжание их звоночков усиливало растерянность пешеходов; велосипедисты объезжали их вкривь и вкось, без всякого порядка, и тем самым заставляли окончательно терять голову, вынуждая следовать принципу «шаг вперед – шаг назад». В одном месте, где с покривившегося телеграфного столба свисала проволока, мешая движению, велосипеды осторожно объезжали ее, а автомобили резко сбрасывали скорость. Пронесся грузовик, переполненный людьми, которые в последнюю минуту пригнулись, чтоб не зацепиться, но одного проволока все-таки задела и чуть не удушила, машина притормозила, а несчастный продолжал ошеломленно ощупывать свою шею. «Странно, – подумал Эрнесто, – столько идет людей, всем мешает проклятая проволока, и никто даже не пытается ее убрать!» Однако и сам он этого не сделал.
Шли по городу, останавливаясь при виде тяжких разрушений; одинаковое удивление вызывали и вконец разбитые здания, и чудесным образом уцелевшие или стоявшие наклонившись вперед своими фасадами, точно вдруг передумали и решили не падать, или какая-нибудь люстра, безмятежно висевшая в рассеченной надвое комнате. Казалось, будто час этого готового вот-вот нарушиться равновесия (нечто подобное испытывает человек, собираясь чихнуть) уже пробил и за спиной они непременно услышат грохот обрушивающихся на них каменных глыб. Они обходили такие места, насколько позволяла ширина мостовой, огибали их по траектории, которой явно было бы недостаточно, чтобы спасти их, если б разбитые здания все-таки решили упасть.
На углу возле какого-то четырехэтажного дома горсть людей в сокрушенном безмолвии разглядывала на стене пятно, очертаниями напоминавшее человеческую фигуру; их необычное молчание привлекало любопытных; кто-то негромко объяснял, что, дескать, воздушная волна вбила в стену проходившего мимо человека, и старался убедить всех, будто это не отпечаток, не след, оставленный жертвой, но сама жертва, сплюснутая жуткой силой давления, достигшая толщины папиросной бумаги. И хотя слушателям такое казалось невозможным, опять-таки подсознательно они готовы были в это поверить. Кто-то попытался перочинным ножичком соскоблить со стены частичку пятна.
Подавленные этим зрелищем, они тронулись дальше. Но тут кому-то пришло в голову громогласно предостеречь всех от неразорвавшихся бомб, и толпу подчинил новый, доселе неизведанный страх – все мгновенно напряглись, ускоряя шаг, подозрительно вглядываясь в каждую ямку, каждую кучу земли.
Доннеры попали в одну группу с семьей некоего киоскера из табачного ларька, с которым часто встречались, но не были знакомы; тем было полегче – их ребенок уже ходил. Вскоре они натолкнулись на огромную груду развалин, перегородившую улицу. Киоскер предложил обогнуть ее и пойти берегом моря. Впоследствии Лизетта не могла ему этого простить, ибо им суждено было увидеть нечто куда более страшное: стоявшие на берегу люди молча наблюдали за немощным попиком – несомненно, выходцем из Италии (это было видно по его шляпе с ровными полями, какими-то ниточками вроде паутины соединенными с тульей), – который, стоя в лодке подобно Харону, пытался каким-то крюком вылавливать из моря трупы погибших на разбитом бомбами местном пароходике. Чуть поодаль, смертельно бледный, с отсутствующим взглядом, стоял землемер Шкуринич. Кто-то сообщил, что на этом пароходике погибли его жена с крохотным сыном.
Лизетта знала эту женщину – они родили почти одновременно и затем, часто встречаясь, обсуждали развитие своих детей. Но только после того, как им показали, они заметили, что на земле у ног землемера лежит накрытое рядном тело его жены; ее только что извлекли из воды, без головы, и распознали по вышитым инициалам на кармашке блузки. Лизетта в ужасе отвернулась. Попик пытался подцепить крюком тент детской коляски, белевшей на дне. Чуть подальше вдоль берега рядом лежало еще несколько трупов, выловленных из моря. Доннеры, горько сожалея, что последовали за киоскером, поспешили дальше.
Отдышались, лишь выйдя за пределы городских стен. Миновали корчму и торговые склады предместья. На перекрестке собралось несколько человек – живодеры и перекупщики, торговавшие бараньими шкурами. Похожие друг на друга в своих одинаковых вельветовых костюмах и сапогах с короткими голенищами, они держали руки в карманах, из которых торчали горлышки коньячных бутылок. Эти люди гордились тем, что остаются в городе, с презрением глядели на бледных горожан и кричали им, хлопая ладонями по своим бутылкам: «А мы, остающиеся, вот этим будем утешаться!» Они внушали ужас, подобно могильщикам, пирующим во время чумы.
Ребенок киоскера устал, начал капризничать. Отец взял его на руки, но шагов через пятьдесят опустил на землю, чтобы передохнуть. Притихший было ребенок снова заныл – теперь оказалось, что в его туфельку попал острый камешек, который трет ножку. Воздев глаза горе, отец, сложив с себя свой груз, посадил ребенка на километровый столбик и стал разувать. Но тут завыла сирена, отец подхватил свое дитя и, судорожно ловя ртом воздух, устремился дальше; на одной руке у него висел рюкзак, другой он сжимал детскую туфельку; рюкзак постепенно сползал вниз по руке, мешая двигаться, он то и дело пытался приподнять его, поправить коленом и спотыкался. В панике и суматохе Доннеры потеряли их из виду – и не пожалели об этом, посчитав, что те приносят несчастье.
Вскоре их окружили новые люди. Они уже знали все детали о налетах, число пострадавших и величину нанесенного ущерба. Рассказывали любопытные случаи, толковали о чудом спасшихся. И каждый такой рассказ казался необыкновенным, абсолютно невероятным. Люди жадно внимали подобным историям и своей наивной доверчивостью словно ободряли рассказчиков, придавая им мужества. Всем нравилось, всем даже как бы льстило быть свидетелями и участниками событий, едва ли не их жертвами; рассуждая о числе погибших и выбирая между самым большим и самым малым, они единогласно остановились на максимальном; слишком скромными цифрами они пренебрегали, едва ли не оскорбленные в своих лучших чувствах, точно кто-то старался слукавить или обмануть при подсчете их оплаченного кровью заработка. Эрнесто, когда наконец наступила его очередь, рассказал об оставшихся в подвале, засыпанных людях, испытывая смутное ощущение, будто этим он что-то для них делает (то, что может!), но вместе с тем, расширяя круг посвященных («совиновников»), как бы частично снимает с себя вину, перенося ее на коллективное, общее сознание.
Вскоре они догнали шьора Карло, давнишнего своего знакомца. Размеренно и легко шагая, он ушел уже довольно далеко, с ним был маленький чемодан, а через плечо переброшен плащ – он выглядел так, будто собрался на пароход; на плече у него висела дорожная фляжка в кожаном чехле. Когда миновали кладбище и вышли на открытое шоссе, все почувствовали себя свободнее и решили передохнуть. В толпе, катившейся перед их глазами в полном беспорядке, как бывает после похорон, обратили внимание на несколько человек, еле-еле поспевавших за другими. Это были Анита с Линой и Морич с дочерью Марианной. После взаимных расспросов и обсуждения дальнейших планов выяснилось, что у большинства таковых вообще нет, если не считать единственного страстного желания поскорее покинуть город. И только тут Эрнесто осенило, что следует идти в Смилевцы, к Ичану. Оказалось, Морич также направлялся туда, там у него нашлись старые партнеры Лакичи, которых он годами снабжал в долг купоросом, серой и прочими необходимыми в крестьянском обиходе вещами, они же осенью возвращали ему долг виноградным суслом. Шьор Карло заявил, что ему совершенно безразлично, куда идти, – одинокому человеку все просто: ему ничего не нужно, кроме какой-нибудь крыши над головой, об остальном он сам позаботится. Анита покуда ничего не решила; она никогда не видела деревни и не имела никаких связей с сельской жизнью; ее без труда уговорили присоединиться к ним, а там «что бог даст». Доннеры опустили на землю багаж и перебрали его, теперь в коляске нашлось место и для чемоданчика шьора Карло, равно как и для скромного узелка Аниты. Мужчины приняли на свои спины все, что можно было. Малютку Мафальду по очереди несли на руках.
Двигались теперь куда более осмысленно. И когда поднялись на высоты Плоча, в пяти-шести километрах от Задара, то оглянулись на разбитый город уже не как растерянные, задыхающиеся беженцы, но с ощущением вполне оправившихся, пришедших в себя наблюдателей.
V
Они шли тяжело, с остановками, целых четыре часа. Анита молча выносила все тяготы пути; она часто останавливалась, правда на очень короткие промежутки времени, и двигалась дальше с новой решимостью. Иногда их догонял какой-нибудь зеленый грузовичок провинциальных торговцев; они замирали на обочине, с немой мольбой устремляя на него взгляды и в последнее мгновение нерешительно поднимая руку. Но грузовичок проносился мимо, не сбавляя скорости, задевал их своим пыльным хвостом и оставлял, униженных и предоставленных самим себе. Морич, более других привычный к пешему хождению, высчитывал пройденные километры и прикидывал оставшуюся часть пути; каждый очередной километровый столб они приветствовали уже издалека. Возле Батуровой кузни свернули с главного шоссе и пошли к Смилевцам.
В село вступили в сумерках, сплошь покрытые толстым слоем белой пыли и смертельно усталые. Крестьяне, выпучив глаза, молча смотрели на них, словно на выходцев с того света. Грохот и сотрясение земли, от которых вздрагивали их собственные стоявшие на скалах дома, казалось им, возвещали конец всего живого; теперь они жадно искали в этих людях следы грозной катастрофы, однако пришлось им удовольствоваться всего лишь прихрамыванием Аниты. Моричи простились тут же, возле самой околицы, и повернули к домам Лакичей. Эрнесто отправился разыскивать Ичана; женщины ожидали его под каким-то топольком, присев на расшатанные камни стены. Им казалось, что он пропадает слишком долго. Наконец Эрнесто вернулся вместе с Ичаном, и тот пригласил их в дом; решили, что Анита и Лина проведут эту ночь с ними, а на другой день Ичан постарается пристроить их у вдовы Калапач. Шьор Карло в тот же вечер занял пустующую комнату в «новой школе» – единственную более или менее уцелевшую в этом здании, строительство которого завершилось в самый канун войны. Крестьяне после разгрома мгновенно вывезли отсюда окна, двери, косяки и вообще все дерево, наполовину разворотили крышу и уже принимались за чердачные перекрытия. Зданьице было с круглым балкончиком на север и небольшим палисадником, который, предполагалось, должен был отгородить его от открытой местности и дикой неприбранной природы; в палисаднике росло несколько молодых кипарисов, несколько побегов какого-то японского миндаля и чахлых, задушенных травой кустов юкка, вокруг которых безмятежно раскинули свою листву отечественные лопухи.
На другой день Доннеры поместили Аниту с Линой у вдовы Калапач, затем разобрали узлы с вещами и посвятили день обустройству и оборудованию своего жилища. Выяснилось, что до́ма были оставлены многие самые необходимые вещи. Так, например, Эрнесто считал, что Лизетта упаковала в узел витамины для ребенка, в то время как она была твердо убеждена, что он сам сунул их в карман рюкзака. Правда, Лизетта донесла до Смилевцев в целости и сохранности свою коробочку с драгоценностями, однако в ней обнаружилась только розоватая вата, и лишь тогда женщина вспомнила, что вынула их и уложила в пакетик, спрятав его на полку за книгами, чтоб был под рукой на случай бегства.
Шьор Карло в своей холостяцкой комнате кое-как заткнул щели, подмел и принялся готовить; он питался манной кашей на молоке, вареными яйцами и каким-то крепко наперченным венгерским паштетом из маленьких баночек, сохраняя тем самым вполне пристойный уровень диетического питания. Труднее всех пришлось Аните: она требовала помощи и нуждалась в подсказке при самых пустяковых делах, так что Лине каждую минуту приходилось бегать связной из дома в дом. Тем не менее уже на третий день всем стало казаться, будто они живут здесь бог знает сколько времени, и когда вечером того же дня внезапно появились Голобы, их встретили радостными воплями и щедрым гостеприимством радушных хозяев. Их уже издали заметили на дороге. Нарциссо еле держался на ногах, опьяневший от усталости, солнца и воздуха, в то время как обширная шьора Тереза словно бы оцепенела и только ворочала глазами, а следом за ними поспешали долговязый Альдо и маленький, с мышиным личиком Бепица, у которого вследствие какой-то недоделки в носу был постоянно открыт рот, а в глазах стояло удивленное выражение. Им помогли устроиться – к сожалению, в самом дальнем конце села, в домах у Пупавчевых, – и просто-напросто засыпали советами, предостережениями, рекомендациями. Обилие опыта и многообразие пережитого были столь громадны, что быстро поделиться ими с пришельцами представлялось невозможным – для этого требовалось по крайней мере в два раза больше времени, чем понадобилось на приобретение этого опыта. И долго, очень долго «первая партия» беженцев сохраняла еще перед Голобами свое преимущество лучшей информированности, приобретенное благодаря тому, что они прибыли в Смилевцы тремя днями раньше.
Сначала у горожан преобладающим чувством была инстинктивная радость спасения; это, равно как и новизна деревенских впечатлений, помешало им сразу же оценить нищету новой среды своего обитания и поглубже задуматься над положением, в каком они оказались. Село очень постепенно раскрывалось перед ними во всей своей обнаженности, и у них вполне хватало времени, также очень постепенно, к нему привыкать и приспосабливаться. И самым большим утешением во всех тяготах была вера в то, что это продлится лишь несколько дней. Они верили, что пережитые и собственными глазами увиденные ужасы представляют крайнюю (или одну из самых крайних) степень зла, которое вообще может произойти с ними на свете; чего-либо большего и сокрушительного, чем это, их воображение не могло себе представить. И как следствие возникала уверенность, что в самое ближайшее время это должно прекратиться еще и по той простой причине, что «дольше такое нельзя было бы выдержать».
Заботы по размещению продлились несколько дней. Люди много раз на дню бегали друг к другу, повинуясь потребности немедленно обменяться впечатлениями и благоприобретенным опытом, или попросить совета, или что-либо одолжить по хозяйству. Прекрасная солнечная осень во многом облегчала им первый период беженской жизни.
Доннеры скоро привыкли к крутым камням во дворе Ичана и податливому слою утоптанного овечьего навоза под ногами. Они перезнакомились со всеми и в какой-то степени как бы уже вполне по-родственному сошлись с его домочадцами – с матерью, старой беззубой Вайкой, у которой изо рта торчал один-единственный нижний клык, с женой, бесцветной Марией, с маленькой Ехиной, уже умевшей выгонять скотину на пастбище, равно как и с совсем крохотным Йово, покуда ползавшим по двору.
Через некоторое время они обнаружили, что поблизости есть еще одна пара беженцев: в верхней части села, в двух-трех километрах от них, обитал владелец писчебумажной лавки Видошич с женою. Однажды после обеда отправились к ним – сюрпризом. Однако Видошичи приняли их с натянутой улыбкой и холодной любезностью; выяснилось, что они знали о пребывании в Смилевцах своих сограждан. Гости, долго не задержавшись, вернулись домой в кислом настроении. Видошич явно не испытывал потребности в их обществе. Дела его, видимо, процветали, и он считал, что подобная компания может ему повредить. С того дня оговоры Видошичей стали одним из повседневных развлечений беженской колонии в Смилевцах.
Горожане постепенно погружались в жизнь села, знакомились с ним. Подтверждались их прежние суждения о неряшливости, лукавстве крестьян, их стремлении нажиться на чужой беде. Кроме того, оказалось, что крестьяне, по сути дела, очень ограниченны и что они всегда, по делу и без дела, скалят зубы, как негры. Бывало, Лина воскликнет: «Вон курица кричит – наверняка яичко снесла!» – а они скалятся. Шьора Тереза скажет Бепице: «Не подходи к корове, она может тебя укусить!» – им и это смешно. Обрадуется Альдо: «Ой, мамочка, в воскресенье будут петуха убивать!» – и в этом они находят что-то необыкновенное. И потом целыми днями слышно, как деревенские ребятишки, играя на навозной куче у стены, повторяют, кривляясь, «Курица кричит», «Петух тебя укусит» и тому подобное. Над другими смеются, а сами так говорят, что их вообще понять невозможно; теперь, у себя дома, выражаются они еще непонятнее, чем бывало в городе. И напрасно ты строишь свои вопросы так, чтоб им легче было отвечать, напрасно любой вопрос так формулируешь, чтоб им не оставалось ответить ничего иного, кроме как «да» или «нет», – они найдут лазейку ускользнуть, непременно уйдут в сторону, отыщут возможность ответить каким-то третьим вариантом. Ты очень просто интересуешься: «Молоко есть?», а они отвечают: «Теленок высосал». Ты повторишь свой вопрос, а они в ответ: «Да я же тебе отвечаю, Мичо позабыл теленка принять, вот он все и высосал!» И ты не понимаешь, с чем остался, что все это должно означать и какую из двух альтернатив ты можешь принять: «есть молоко» или «нет молока»?
VI
Колония жила праздной малокровной жизнью всемх изгнанников и эмигрантов, поглощенная бесконечными воспоминаниями, рассказаи, пустой болтовней. Если Эрнесто снимал колесо у велосипеда, чтоб наложить заплату на резину, было понятно, что в то утро рассчитывать на прогулку не приходится. Если Морич вечером, поглаживая себя ладонью по щекам, произносил: «Эге, завтра день для бритья!», всем становилось ясно, что на другое утро он появится, может, чуть-чуть раньше полудня. Что же касается шьора Карло, подстричь ногти на ногах или написать письмо брату Кекину, почтальону где-то в Альто Адидже, для него было программой на полный день.
Лизетта и Анита не разлучались. Каждое утро усаживались рядом перед домом Ичана, откуда открывался лучший вид, штопая носки или что-нибудь подшивая для малютки Мафальды, тут же возле них ворковавшей в коляске. С тех пор как поселились в деревне, они звали ее ласкательной кличкой, которую дал ей отец еще в Задаре: Капелюшечка. Имя Мафальда оставили для лучших времен – такому имени не подобало волочить свои пурпурные полы по деревенской пыли. У их ног вдали как на ладони лежал Задар. Отсюда, издалека, он выглядел почти целым: все колокольни по-прежнему тянулись ввысь и лишь кое-где в городских стенах зияли черные провалы. Женщины толковали о своих заботах, о нарушенных войною жизненных планах. Начинала капризничать малютка Мафальда; успокаивая, Лизетта совала ей погремушку.
– Бедная сиротка, ты только погляди, как она одета! Я ведь ждала мальчика; настолько была уверена, что родится мальчик, что все одежки купила голубого цвета… К счастью, война, сейчас на это не обращают никакого внимания.
Они умолкали; мысль улетала дальше, распространяясь на все прочие жизненные обстоятельства военных лет, на неизвестность, окружавшую их со всех сторон, и тогда с уст срывался горький вздох:
– Ох уж эта война, эта война!..
Аниту беспокоило самочувствие Лины (девушка очень вытянулась и похудела за последнее время), но она утешала себя, что пребывание на чистом деревенском воздухе будет ей полезно. В тихую погоду от Земуника, в долине, доносилось отдаленное равномерное постукивание мельницы Шабана. На длинных колючках, которыми была утыкана ограда Ичана, белели маленькие бюстгальтеры Лизетты, и по ним иногда пробегала ящерица.
Тишину солнечного утра изредка нарушал гул самолетов. Вскоре появлялась эскадрилья. Колония при этим быстро собиралась вместе, окликая друг друга. Самолеты закладывали глубокий вираж, как бы собираясь только облететь Задар, и уходили обратно, исчезая вдали. Всякий раз возникало обманчивое впечатление, будто самолеты лишь взглянули на город или, может быть, просто сфотографировали городские укрепления. «Слава богу, пронесло!» – и легче дышалось. Но почти сразу же в городе один за другим возникали столбы черного дыма, они росли, строго вертикально уходя вверх, ширились и увеличивались, закрывая полнеба. Горожане удивленно вопрошали друг друга, что это значит, и склонялись к мнению, что речь идет просто о запоздалых дымовых завесах… но тут вздрагивала под ногами земля и со стороны города доносились жуткие крики и мычание скотины. «Господи, господи! Да это ж конец света!» – сами собою шептали губы. Потом опять все стихало; над Задаром воцарялось гробовое молчание, вой самолетов утихал вдали, и устанавливалась тишина ясного ноябрьского утра. И только столбы дыма, жутко увеличившиеся, но уже не столь плотные, медленно растворялись в небесной голубизне. «Ужасный мир!» – вздыхали горожане. По спинам, вдоль позвоночника, ползли мурашки, но все это, правда, не было лишено примеси некоторого щекочущего удовольствия, подобного тому, какое испытывает человек, стоя под навесом и созерцая бушующий снаружи ливень. Ловя себя на таких чувствах, они ощущали стыд и даже как бы вину за эту свою безопасность, и из их душ отчетливее прорывалось сочувствие: «Ужасный мир, ужасный мир!»
А крестьяне, окружив их плотным кольцом, сопровождали все происходящее своими комментариями. По какому-то далекому, непостижимому для горожан сходству сравнивая парение самолетов с явлениями своего земледельческого обихода, они встречали каждое новое, еще более далекое и еще более абсурдное сравнение живым одобрением и громким смехом.
– Во сеет!
– Опять, что ли, по кругу пошли?
– Погоняй, погоняй!
– А ну молоти!
– Ха-ха-ха!..
А когда вспоминали о том, каково приходится под бомбами их капризным клиентам с базара, реплики становились еще более ядовитыми:
– Ну вот, теперь толстые задарские барыньки юбки свои задрали – и носятся, носятся сломя голову!
– И под мышками у них все напрочь промокло!
– Это уж как пить дать!
– Хи-хи-хи!..
Поначалу, в первые же дни, мужчины устремились было обратно в город, чтоб проведать брошенные дома. Однако женщины воспротивились, опасаясь, как бы их там не настигли бомбы, и представителям лучшей половины человечества пришлось уступить. Впрочем, скоро непрерывные причитания жен по поводу каждого предмета домашнего обихода побудили мужчин к сопротивлению настояниям своих дам (настояниям, которые и с течением времени в принципе не ослабевали), так что в один прекрасный день наши герои пустились в путь. Эрнесто оседлал свой велосипед, шьор Карло и Нарциссо Голоб прыгнули в телегу, нанятую Моричем, и тронулись, сопутствуемые предостережениями и наставлениями. При себе у них были мешки из-под провианта, которые раздавали в каком-то бараке под стеной кладбища, и они собирались спасти хоть что-нибудь из своих пожитков, оставшихся в квартирах, которые, вполне вероятно, открыли и разграбили немецкая солдатня да окрестное население, если перед тем их уже не разрушили бомбы. Немцам принадлежало право первенства, и дом, на который они положили руку, другие в страхе огибали далеко стороной, опасаясь быть расстрелянными по закону о мародерстве, который оккупанты несколько раз применяли на деле. На то же, что оставляло немцев равнодушными или где они уже прошлись, налетали крестьяне из ближайших сел по соседству. Деревенские жители из материковых сел, более примитивные, уносили все без всякого порядка и плана, хватая то, что первым попадалось на глаза, причем столько, сколько могли нагрузить на себя или на свои узенькие тачки. Жители островов, более дальновидные в расчетах и привыкшие хозяйствовать куда более продуманно, долго ходили вокруг, размышляли, прикидывали, примерялись, колебались, по нескольку раз возвращаясь к намеченным местам, и наконец уходили восвояси, сгорбленные, отягощенные бременем забот и ответственностью выбора, не проявляя никаких внешних признаков радости. На другой день возвращались на лодках – должно быть, после обсуждений с хозяйкой – прямо к намеченному дому и начинали деловито выносить вещи, озабоченные и угрюмые, стараясь не разбить зеркала или не сломать ножку какого-нибудь комода, хмуро оглядывая прохожих глазами трудящихся людей, которые презирают бездельников. Нагружали лодку аккуратно и сноровисто, стараясь получше и покрепче разместить груз, словно переселялись на новое место. Если уже в пути они вдруг обнаруживали какой-либо изъян, то таращили глаза, сокрушаясь, считая себя чуть ли не жертвами подлого обмана.
Во время первой своей поездки в Задар беженцы из Смилевцев обошли весь город, осмотрели его раны, встречаясь с редкими знакомыми, и вернулись подавленными, угнетенными. Теперь им не казалось, что все это – дело нескольких дней: понимали, что если за первым налетом последовало несколько других, равных ему или даже еще худших, то их может оказаться еще тридцать, пятьдесят, а может, и вовсе бесчисленное количество и что страдания людей не могут восприниматься как мера или предел разгулявшейся стихии, которая эти страдания порождает. Разве что новые налеты теперь легче переносили, ибо они вызывали меньшие жертвы – население разбежалось, став осторожнее, – и наносили меньший ущерб – новые бомбы большей частью лишь перепахивали старые развалины, уничтожая уже уничтоженное.
И однако посреди повсеместного разгрома людям доставляла удовольствие любая найденная мелочь и сердечной оказывалась всякая новая встреча с каждым предметом кухонной утвари, о существовании которого они уже успели позабыть. Поэтому Эрнесто с такой невыразимой радостью сунул в карман обнаруженные драгоценности Лизетты – полдюжины серебряных ложечек и серебряную рюмочку дочери с выгравированным ее именем – подарок кума на крестины.
Затем, следуя неоднократным внушениям Лизетты, он отправился навестить тетку Джильду. Но, придя к знакомому дому, он и здесь увидел груду развалин. На секунду у него перехватило дыхание, когда он представил себе, как он принесет эту новость жене. Расспросив соседей, он узнал, что старушка скончалась от разрыва сердца во время предпоследнего налета, а дом разрушило лишь после этого, при последующем налете, и ему отчего-то стало легче. Показалось, что такую весть Лизетта перенесет проще.
От этого первого посещения разрушенного города у беженцев из Смилевцев, от самого уже выезда из города, точно напутствие в дорогу, сохранилась в памяти незабываемая картина: в запертой витрине какого-то брошенного склада беспомощно царапала стекло отощавшая, оголодавшая кошечка, едва слышно мяукавшая. Страдание придало жуткое, почти человеческое выражение ее глазам, и людям невозможно было оставаться бездеятельными под этим взглядом; постепенно вокруг собрались прохожие, все сообща созерцали животное, обсуждая различные способы его спасения. Решение было очень простое: разбить стекло – и кошка спасена. Однако опасались, что немцам придет в голову расценить это как попытку грабежа, и тогда они схватят человека, включив в число тех, кого надобно на месте расстреливать в назидание другим – в соответствии с упомянутым приказом, который время от времени следовало применять на практике.








![Книга Обмен мнениями [=Симпозиум] автора Милан Кундера](http://itexts.net/files/books/110/no-cover.jpg)