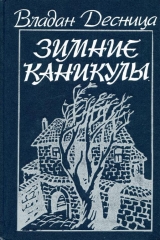
Текст книги "Зимние каникулы"
Автор книги: Владан Десница
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 28 страниц)
С нелегким сердцем простились они с кошечкой, которая растерянно смотрела им вслед, издавая все более слабое мяуканье, и тронулись в Смилевцы уже с меньшим, после всего увиденного, ощущением тяжести собственных утрат.
VII
Благодаря своей заброшенности и тому, что оно лежало не на большой дороге, село оставалось в стороне от событий и продолжало жить своей убогой, но относительно спокойной жизнью. После капитуляции Италии и ликвидации отделения карабинеров установилось безвластие: немцы не проявляли ни интереса, ни желания держать свои гарнизоны в разных дырах, расположенных поодаль от их транспортных путей. Деревенское население значительно уменьшилось: почти все мужчины помоложе ушли в лес, дома остались в основном люди пожилые, малые ребятишки, больные да немощные. Там и сям чернели обугленные дома «лесовиков»; членов их семейств – родителей и малых детей – угнали в лагеря и после падения власти итальянских фашистов не сразу выпустили: возвращались они поодиночке, через большие промежутки времени, а многие вообще решили переселиться, не испытывая желания возвращаться к погасшим очагам. Эта наполовину освобожденная территория у самых ворот Задара была, следовательно, всегда открыта для партизан, однако сюда их не приводили никакие их планы; лишь изредка возникал какой-нибудь подпольщик или появлялся проходящий связной. Если не считать грузовиков, которые по каким-то подозрительным делам проносились иногда, не останавливаясь, шоссе в основном было безжизненно, словно русло пересохшей реки. Время от времени оно приводило в село бабу с задарских островов, в черной одежде и матерчатых тапочках, которая подгоняла ослика с мешком соли и узлом старой одежды, награбленной в опустевших городских домах, все это она обменивала на кукурузу. Иногда в тягучей тишине воскресного утра по шоссе громыхали колеса: католический священник в своей двуколке цвета бельевой синьки ехал из Привлаки в Палюх служить мессу. Трясется старичок в экипаже под серым холщовым зонтиком, в черной соломенной шляпе, с которой под горячим солнцем отваливаются чешуйки, точно она намазана слоем дегтя. Держится тактично и сдержанно, как всегда, когда ему случается проезжать по селу, где живут люди, исповедующие иную веру; под выпуклыми стеклами очков один глаз у него кажется в два раза больше другого, как у вола, и напоминает око божье, выглядывающее в треугольник святой троицы, внушая страх божий сорванцам, что чуть ли не нагишом играют в пыльной канаве.
Из представителей буржуазии или мелкой буржуазии в селе обитали семейство финансового надзирателя Рудана и старая попадья Даринка, вдова покойного православного священника Михайла Радойловича. Крах державы застиг Рудана на службе в задарском районе, и он рассудил, что будет лучше всего оставаться в этих краях, пока война не пройдет. Он расхаживал по селу в полинявших зеленых форменных брюках и в штатской беретке, стиравшей всякую общественную принадлежность и всякое официальное качество. Руданы кое-как перебивались тем, что удавалось выжать его жене благодаря тактическим ухищрениям в отношениях с деревенскими женщинами и благодаря непредсказуемой их щедрости при пошиве свадебных нарядов для невест, а также активном участии в подготовке меню на деревенских пиршествах и торжествах, в то время как дети Руданов вырастали босоногими, запущенными, в глазах у них застыли испуг и раболепное преклонение перед богатыми.
Старая попадья, капризная чудачка, в полном одиночестве обитала в просторном, выбеленном известкой доме с торчавшим на крыше громоотводом; прежде это ее обиталище было центром церковного прихода, на первом его этаже в больших комнатах размещалась школа, пока ее не перевели в новое, воздвигнутое государством здание – то самое, где теперь поместился шьор Карло; в результате этого переселения попадья лишилась всех прав на выплату аренды, которую до тех пор исправно получала и на которую, собственно говоря, она и существовала.
Эти помещения в первом этаже бывшего приходского дома использовались во время войны проходившими мимо воинскими отрядами для ночлега, они были набиты вонючей прогнившей соломой и грудами пустых консервных банок; стены почернели от огня, который разводили прямо на полу, и были украшены всевозможными гнусными рисунками и патриотическими лозунгами итальянцев. Каменные ступеньки были расколоты, ибо солдаты рубили на них дрова, а в темном узком закутке под лестницей, где некогда похрюкивал давно, впрочем, исчезнувший поросенок, стоял прочный пронзительный запах свиного помета и красовались замызганные стены – до того уровня, которого достигала поросячья морда и до которого могли дотянуться человеческие руки.
Старуха повыдавала пятерых или шестерых дочерей замуж за попов и учителей, одну – даже за жандармского капитана (фотография молодоженов и по сей день висела наверху в ее горнице), а сама осталась коротать век в пустом доме, ведя упорные и длительные сражения с крестьянами из-за жалких доходов от обработки двух ее земельных участков и изо всех сил стараясь всучить им остатки старой поломанной мебели из разоренного своего жилища и с чердака. Ветреными зимними ночами в пустом доме горько вздыхали рассохшиеся полы, то и дело с грохотом отваливались куски известки, толстым слоем покрывавшей потолок; после этого воцарялась недолгая тишина, которая сама по себе словно бы напряженно ожидала, не посыплется ли вниз оставшаяся известка; а затем, ободренная глухим безмолвием, уже переходившим в дремоту, вновь со скрипом потягивалась какая-нибудь половица. Впрочем, попадья не испытывала страха: она помалкивала, лежа в постели не смыкая глаз (в старости сон короток и хрупок), угрюмая, как тот самый волк, что, проглотив бабушку в известной сказке, улегся на ее место.
В одной из двух комнат второго этажа, большой горнице с прогнившими и привязанными бечевками ставнями, чтоб их не унесли порывы ветра, лежала куча зерна и красовался огромный, тронутый червями дорожный сундук, набитый старой шерстью из истлевших перин, где гнездились мыши, а также большой расшатанный стол, под одну ножку которого был подложен кирпич. В соседней комнате, где, собственно, и жила попадья, сохранилось всего два или три предмета прежней обстановки – кровать, стол, несколько стульев, а также киот, за стекла которого были засунуты старые поздравительные открытки и где стояла ваза с изображением трехцветного флага и гуслей под надписью: «Гусли играют, народ пробуждают». На стене рядом с фотографией молодоженов висела икона св. Георгия, патрона и покровителя ее отца, купца Тане Самараджии, которую она сохранила из своего выморочного дома. В верхней части иконы, в самом уголке, виднелась надпись: «Танасие и Ангелина Самарджия заказали во благо себе и своим близким, 1856. Аминь». Икону писал какой-то бродячий художник из Штирии по образцам старинных писем, однако дух этого штирийца наложил печать на все детали изображенного им сюжета. Герой на вздыбленном откормленном сером коне устремлялся на вялого дракона, который, казалось, сложен был из старых чемоданов крокодиловой кожи и набит соломой или кукурузной ботвой, слежавшейся и спрессованной, как в гимнастическом мате. Чудовище напоминало также древнего крокодила из зоологического сада, который, побуждаемый тяжким материальным положением многочисленного семейства, пользуется любой выдавшейся свободной минутой, чтобы подработать на стороне, играя роль балаганного дракона на ярмарках или позируя живописцам в качестве оного на священных изображениях. Герой, следовательно, устремляется на дракона, а дева в белом платье с вполне пристойным овальным декольте, которое, впрочем, открывает ее плечи, но укрывает грудь, в ужасе убегает по ковру, расстеленному на поверхности луга в стиле бидермайер, украшенного мелкими полевыми цветами, устремляясь к калитке своего дворца. Задыхаясь, она вбежит в свой покой, сорвет с головы, отшвырнув прочь, в угол, белый венок и, ловя ртом воздух, повалится в кресло, в то время как служанки примутся хлопотать вокруг, развязывая длинные ленты кушака и поднося к ее губам бокал с подсахаренной водой; с усилием обретя дар речи, между двумя судорожными глотками дева выдохнет еле слышно: «Это было неописуемо, просто не-о-пи-су-е-мо!»…
У старой попадьи был и сын, Милутин, когда-то стройный красивый юноша с длинными черными волосами и пышным бантом вместо галстука à la Branko[53], однако перед самым аттестатом зрелости он потерял рассудок и уже много лет находился в сумасшедшем доме. Дважды или трижды за это время он приезжал домой – казалось, что он почти здоров. Он бродил по саду в каких-то сандалиях, осунувшийся, почерневший, с блуждающим растерянным взглядом. Когда чувствовал себя лучше, он мастерил ребятишкам миниатюрные колесики для водяных мельничек, которые они ставили в ручье. Затем ему вновь становилось хуже, и его приходилось опять отправлять в больницу.
Женщины приносили попадье стакан гороха, совали несколько картофелин, наливали в кружку молоко. Если молоко или горсть цикория в платке приносил какой-нибудь незнакомый ей прежде мальчуган, она тотчас брала его под подозрение и начинала допрос. Вперив в него пристальный взгляд сквозь стекла очков, она строго вопрошала:
– А ты ничего не украл? А? Ничего не украл?
Ребенок растерянно отводил глаза и отскакивал от нее, криво улыбаясь и заливаясь краской.
– Ну, отвечай, не украл? – словно бы уговаривала попадья.
Под давлением таких уговоров, настойчивостью напоминавших одобрительную подсказку, как бывало на Рождество, когда тетки одаривали его орехами и финиками, мальчик вполне был готов ей в чем-то признаться.
Горожане постепенно начинали знакомиться с местными обитателями. Первым среди них стал старый Глиша Биовица, который иногда по доброте сердечной, направляясь по каким-либо своим делам в корчму или в кузницу, захватывал по пути от вдовы с другого конца села для ребенка бутылку молока, если детям самой вдовы почему-либо не удавалось это исполнить. Дело в том, что Мария, жена Ичана, никак не соглашалась постоянно продавать молоко, по-видимому опасаясь, как бы связанные с этим расчеты не спутались с оплатой жилья. «Я вам охотно стану давать, когда смогу, – оправдывалась она, – но постоянно – обещать не буду, а вам спасибо».
Глиша был приятный старичок, маленький, яснолицый – вылитый король гномов. Он шепелявил и смягчал шипящие «ч» и «ш». Поэтому на селе его окрестили Гличей.
Этот дефект речи, собственно, и являлся залогом безмятежности его существования. Он лишал всякого веса его слова и почему-то способствовал подъему настроения у людей, пребывавших в дурном расположении духа; недостаток этот придавал суждениям Гличи некую умиротворяющую человечность и рождал у окружающих веру в то, что с ним при любом недоразумении или любой сделке всегда можно будет договориться и все уладить миром, сведя тяжбу к разумному и для обеих сторон приемлемому решению. Поэтому сельчане (несмотря на укоренившуюся привычку махать рукой в ответ на его резоны, дескать, «что он там понимает!», и даже окрестив его «наш придурочный Глича») в непосредственном обхождении с ним проявляли приличествующее его возрасту уважение. Да и на самом деле Глича верой и правдой служил селу и стал ему почти даже необходим. Ибо очень приятно чувствовать, что в твоем селе есть хоть кто-то, рядом с кем ты можешь быть твердо уверенным, что он не напакостит тебе и не подложит свинью. И каждый, спроси ты его о том, что за человек этот Глича, отвечал бы, что человек он хороший; и, наверное, это можно было сказать о нем единственном из всего села. «Он никому не мешает» – таково было всеобщее мнение. И Глича мог быть совершенно уверен, что среди односельчан нет у него недругов. Если же, к примеру, нападали гайдуки, угоняли у него скот, забирали сало и копченое мясо, изымали деньги и одежду из сундуков, известно было, что они никогда, разве уж вовсе нелюди, не изобьют его намертво и не разденут донага, бросив на морозе, не вырвут ему усы и не заставят голой задницей присаживаться на раскаленную табуретку, как Тодор Медич заставлял садиться одну бабку в Медвидже под Велебитом. (А если б и сотворили с ним нечто подобное, то любой бы на селе сказал: «Эх, брат, негоже такие шутки творить!») Самое большое, случалось, разували его, причем велели сбросить обувь как-то даже по-дружески, словно бы в шутку: «Ну-ка, старый, сымай обувки!» Так что даже гайдуки не причиняли ему больших обид, разве что, как мы говорили, попадутся какие-то уж вовсе отпетые или пришлые люди, из дальних сел, никогда его не знавшие и о нем не слыхавшие, или юнцы какие, молодые да глупые, которых и гайдуками-то называть неловко, а просто баловниками и зелеными вонючками.
Горожане тоже с радостью встречали Гличу. Шьор Карло любил потолковать с ним, подносил ему щепотку трубочного табаку. Иногда вместо Гличи молоко приносил его племянник Мирко Биовица, высокий молодой человек со светлыми глазами, румяный, точно стыдливая девушка. Горожане окрестили его «блондином», el Biondo, и по-другому его между собой не называли. Они пришли к выводу, что Биовицы – превосходная порода людей, и это подтвердило все село, добавляя, что отец Мирко и брат Гличи, покойный Шпиро Биовица, был еще лучше и самого Гличи, и Мирко.
Из селян повиднее они познакомились с Миленко Катичем. Это был всегда чисто, аккуратно одетый мужчина, у которого растительность на лице никогда не была старше трех дней, рассудительный и спокойный в разговоре. Он более всего напоминал им того смуглого морлака с бархатными усами и жемчужными зубами, в пурпурном камзоле с огромными серебряными токами[54], с длинной кисточкой на невероятной оранжевой феске, который пылко обнимал огромную бутыль ликера «Sangue morlacco» на рекламном зеркале в кафе «Al porto». Голос у Миленко был приятного тембра, а глаза сладкие, точно смоченные слюною. Миленко вызвал самую большую симпатию у шьора Карло и других горожан. Он выглядел хорошим и разумным хозяином. У него единственного на селе можно было найти хрен, петрушку, салат. Однажды во время прогулки шьор Карло завернул к нему, он угостил гостя ракией и вел с ним весьма рассудительный разговор. Шьор Карло возвратился в полном восторге, пряча в ладони за спиной пучок осенней моркови для Капелюшечки, а повстречав свою компанию, изысканно-галантным жестом вручил его обрадованной Лизетте со словами: «Позвольте, милостивая государыня, презентовать вам сей букет».
Вот эти три человека – Глича, Мирко и Миленко, – помимо Ичана, стали для горожан светлым исключением среди повсеместной дикости и сплошной примитивности сельчан.
VIII
Убожество деревенской жизни, которое постепенно постигали горожане, усиливало в их душах грусть и несколько притупляло неприязнь, какую они прежде испытывали к сельским жителям. Постепенно чувство это перерастало в какое-то устойчивое меланхолическое отвращение, сродни жалости и состраданию. И странно, что новое, гораздо более мягкое чувство, новое отношение к крестьянину находило выражение в том же слове, каким перед тем они проявляли недружелюбие: «Bestie!» – «Животные!» Правда, теперь его произносили без прежней жестокости, без напряженного стискивания челюстей, вялыми, ослабевшими от бессильной и усталой безропотности губами. Шьор Карло, будем справедливы, правда, еще пытался кое-как крестьянам помогать; он готов был в любое время суток отпускать им из домашней аптечки таблетки буры, аспирин, щепотку марганца, но все это натыкалось на тупое, ничем не истребимое сопротивление крестьян любой цивилизации, и у шьора Карло опускались руки. У него не выходило из головы сокрушительное для них сравнение. Дело в том, что года три или четыре назад он, набравшись храбрости, навестил своего брата Кекина, служившего почтальоном в провинции Альто Адидже, и провел у него в гостях несколько недель. Невероятным было обилие новых впечатлений, которые вывез он из этого первого в своей жизни путешествия; в их свете любой предмет и любая проблема открывались в совсем ином, куда более ясном, осмысленном, приглаженном виде. Из этой своей поездки в Альто Адидже шьор Карло словно бы вернулся с невидимой ахмедией[55] на лбу; горизонты его расширились, а взгляды на мир стали гораздо более глубокими.
И с тех пор не было дня, когда бы шьор Карло, причем по многу раз в день, не вспоминал бы об Альто Адидже; и многое на каждом шагу побуждало его к этому – то своим сходством, то, наоборот, резким различием. Очень часто возвращался он в разговоре к этим тирольским воспоминаниям с подавленным вздохом, с каким старики обычно вспоминают о временах своей молодости. И когда он видел нищету и отсталость Смилевцев, сравнения невольно напрашивались и из груди у него вырывался вздох: «Господи, какая разница! Вы бы только видели, как там: люди чисто одеты, белье снежной белизны, дома опрятные – можно, как говорится, с пола есть, – посуда ослепительна» – и т. д. и т. п.
В доме у Ичана было совсем по-другому. Крутой двор, острые камни, торчащие из неглубокого слоя земли, посреди – шелковичное дерево с неприятной листвой, с которого свисает и от ветра щелкает по стволу овечья шкура, под шелковицей – груда камней – «громила», – щедро орошенная кровью забитых животных, а на ней – отслужившая свое старая сковорода с размоченными отрубями для индюшат. В углу – навозная яма и овечий загон, по двору ползает маленький Йово, который едва ли не каждое воскресенье кончается от дифтеритных пленок, а дворовый пес Куцый, развлекаясь, волочит по двору копытца весенних ягнят и овечьи рожки. Прокоптелая кухня с очагом, над которым висит большая деревянная бадья, противень, лопата для хлебов и просверленное донышко воняющего керосином ведра, из отверстий которого торчат деревянные ложки; рядом жилое помещение – обычная землянка, деревянной перегородкой разделенная пополам, в одной из ее половинок, чуть поприглядней, под названием «камара», куда нет доступа животным, помещаются Доннеры.
К счастью, Ичан не был человеком вздорным. Желтый, тощий, слабый, вывернутый назад, точно у него впереди был горб, он с трудом мог нагибаться и по этой причине никогда не брал в руки лопату. Да и вообще он совершенно не годился ни для какой тяжелой работы; у него дважды было воспаление плевры, и, когда требовалось поднять какой-либо груз или сделать большое усилие, он тыкал себя большим пальцем правой руки сзади в ребра и произносил: «Plavorito!»[56], и это мгновенно освобождало его от всякой тяжелой работы. Однако он был незаменим во всех тех делах, в которых всегда нуждается село. «У него руки золотые!» – говорили односельчане. Умел ремонтировать конскую сбрую, плести веревки, перестилать кровлю, набивать обручи на бочки, обновлять обувь; понимал толк также и в строительстве, а в случае нужды мог сколотить ящик под зерно, поставить плетень, укрепить косяки, а надо было – и смастерит гроб. И утверждал, что еще на многое другое сгодился бы, будь у него инструмент. Правда, признавался, что в кузнечном деле ничего не понимает, однако тем не менее умел запаять прохудившийся тазик, кастрюлю, горшок, починить карбидную лампу, только чтоб ему достали кислоту. Он был незаменимым помощником в делах, которые исполняют городские жители на селе, при разных комиссиях и измерениях, и такую работу он более всего любил; носить за землемерами черно-белые рейки, ассистировать бригадам, проводившим прививки, сидеть на корточках возле шофера, меняющего баллон, – это было вполне по нему. А из работ, связанных с землей, особенно по сердцу ему была высадка табака и вообще всякой рассады. Очень любил редиску; желудок его не выносил слишком жирной еды и сала. В селе о нем отзывались не с тем очевидным уважением, с каким обычно упоминают крепких хозяев и всегда нахмуренных людей; однако стоило ему смастерить рамку для сотов или поправить какую-нибудь кадку и встать рядом чуть наклонив голову, удовлетворенно созерцая дело рук своих, как окружавшие крестьяне не могли удержаться, чтоб не выразить своего одобрения: «Ичан все умеет, когда захочет!» Детей он колотил редко, а жену свою Марию, должно быть, вовсе никогда; но и она, и старая Вайка относились к нему почтительно, особенно когда он бывал не в духе или подвыпивши, и всегда старались приготовить для него что-нибудь повкуснее: хотя особенным аппетитом он не отличался, но был разборчив.
Беженцы, приютившиеся возле него, – Доннеры, шьор Карло, Анита и Лина – считали большой удачей, что им попался такой хороший человек.
IX
Однако главной персоной в хозяйстве Ичана был Ми́гуд.
Свиньям обычно не дают имен. И хорошо, что это так. Ведь имя как бы подразумевает известную близость между животным и человеком; благодаря ему это домашнее существо как бы выделяется из безымянной массы прочих животных, приобретает свою особенную физиономию, свою собственную биографию, мы знаем его склонности и его норов, его привычки, помним о событиях его жизни с нами, с ним нас связывают совместно прожитые часы и дни – короче говоря, оно становится личностью; правда, пока никакой, бессловесной, но все-таки личностью.
Хорошо, что поросятам не дают имен! Потому что к поросенку, как и к любому другому животному, человек может очень крепко привязаться; поросенок опрятен, понятлив и разумен, и – что более всего нас с ним сближает – в глубине его глаз мерцает искорка подлинной, человеческой грусти.
Всем нам памятны отчаянные слезы ребенка, который вдруг узнает, что ножка, которую он только что обсасывал, принадлежала его дорогой, горячо любимой курочке-рябе; рыдания сотрясают его тельце, он не в силах больше ничего проглотить.
Нечто подобное происходит и со взрослыми. Вот, например, наслаждаемся мы отличным студнем, и вдруг из скользкой массы возникает почти человеческое веко, а из-под него с холодным осуждением смотрит на нас мертвое, уже бесстрастное око, словно бы укоряя: «Эх, люди, люди, вот во что вы, значит, меня превратили!», и все идет прахом, лишая нас мужества, и в наших руках дрожит поднятая вилка.
Да, очень хорошо, что поросятам не дают имен собственных.
Но вот тем не менее у Ичана поросенок имел свое собственное имя.
Впрочем, это уже был не поросенок, а боровок, подсвинок, да какой! Огромный, могучий боров; когда он замирал посреди двора на крепких своих ногах и, подняв голову, устремлял пристальный взор куда-то на запад, через ограду, в ту сторону, откуда доносились глухие раскаты грома (наверное, в море там шло сражение, или же это немцы, которые всегда что-нибудь минировали, взрывали подземные склады на аэродромах), а заросшие его уши свисали ему на глаза, то он уже не выглядел каким-то конкретным живым боровом, но являл собою символический монументальный памятник всему своему племени.
Ичан хорошо помнил все периоды его жизни, с самого первого дня, когда он появился в его доме. Он купил Мигуда на ярмарке в Бенковаце, маленькое, мокрое существо, и все удивлялись такому зряшному приобретению. «Ладно-ладно, пусть толкуют!» Ичан был мужик себе на уме. Он долго, со всех сторон осматривал поросенка, взвешивал на руках, ощупывал ему грудку.
Посреди улицы собралась целая толпа, мешая проходу; нахлынули мужики, их сжимали все новые и новые пришельцы, упрямство и любопытство подстегивало именно то обстоятельство, что большинству не было видно ничего из происходившего в центре круга; одни говорили, будто с хворым припадок падучей случился, другие утверждали, будто показывают барашка о двух головах, а там и всего-то навсего опустился на коленки посреди дороги мужик, совсем вроде обыкновенный, как и все иные прочие (и не такой уж видный), а перед ним какой-то паршивый поросенок. И всех волновала и щекотала именно полная будничность, обыкновенность обычной, ничуть даже не странной картины, и люди спрашивали, почему это вокруг набежало столько народу. Но опять-таки полагали, что тут-то и должно быть нечто необыкновенное, ежели такая толпа собралась, только это им чего-то не видно или не понятно.
Между тем остановился и разболтанный зеленый автомобиль, в котором мясники приезжают на ярмарку, и не может проехать, разъяренный шофер без устали гудит. Однако люди на гудки и внимания не обращают, каждый про себя полагает: «Не мне ж он гудит и меня же не раздавит!», чувствуют себя защищенными, укрытыми толпой, и всякий прячется за всеобщим множеством. И пусть себе лается этот шофер (не меня ж он лает!), и пусть себе злится, и яростно таращит глаза сколько угодно, когда-нибудь же надоест!
А Ичан стоит вот так, на коленях, посреди улицы и осматривает своего поросенка, примеряя ладонь ему между глазками.
– Лоб у него широкий, – рассуждал он про себя. – А это верный признак того, что у него есть склонность раздаваться вширь, а значит, давать много сала… Подкормим, выйдет подсвинок что надо, килограмм до ста восьмидесяти потянет, если не все двести, и тогда ты, братец мой разлюбезный, сам увидишь, как он будет выглядеть!..
Довольный покупкой, Ичан крепко напился в корчме. И яростно погнал свою упряжку – двух неровных лошадок (ту, что побольше, одолжил у соседа); крутил над головой кнутом, погонял, точно на пир ехал. У лошади, той, что пониже, опустился ремешок на лоб, трет и закрывает один глаз, а второй из-за этого лошадка не может держать открытым – мчится вслепую, дергая головой, переходит в короткий, прихрамывающий галоп, чтобы бежать вровень со своей соседкой. Вскоре миновала у лошадей веселость, взмокли они, а возница обессилел, и охватила его дремота. Уж и ночь стала надвигаться. Едет Ичан по полям, под звездами, закутался с головой в черную суконную попонку, мотается пьяно на сиденье, вытягивая какую-то мелодию без конца и краю, которая проникает сквозь грубую ткань, и вторит ему своим скрипом колесо на несмазанной оси, оставляя в пыли извилистый след. Гремит телега, укачивает вконец. Но вдруг вспомнил он о поросенке, вскинулся: почему молчит? Пощупал в мешке, убедился, что он живой и теплый, почесал ему спинку, на что тот отвечал слабым повизгиванием. А Ичан гладил его с возрастающей нежностью:
– Чего ж ты молчишь, черт бы тебя побрал! Чего ж ты огорчился, милая ты моя животинка!..
И, успокоенный, продолжал свою песню.
Домой приехал хмурый и молчаливый, как полагается возвращаться домой всякому порядочному хозяину: не пожелал ни есть, ни разговаривать, только еще два-три раза хлебнул из кружки. Но о поросенке побеспокоился, постелил ему охапку соломы, насыпал горсть кукурузы – все пошатываясь и бормоча что-то невнятное, – прочие заботы предоставил женщинам, а сам повалился на просторную кровать. В голове у него стоял туман, перед глазами все кружилось. Над ним танцевали закопченные балки, и через небольшую щель в кровле видно было, как сверкала в небе крохотная звездочка. Приятно было Ичану вот так перед сном увидеть часть небесной синевы с мерцающей звездочкой; в это отверстие, в крохотную эту дырочку устремлялось воображение, уводя его из тесного, замкнутого помещения в громадный, беспредельный мир и унося в его необозримые пространства. Поэтому, ремонтируя кровлю, он никогда не закладывал эту дружественную ему дыру над кроватью, эту крохотную отдушнику – непременно ее обходил. А когда другие указывали ему на нее, думая, что он позабыл или недосмотрел, Ичан лишь небрежно махал рукой: «Пускай, пусть и она существует!»… Улегся, следовательно, Ичан и во хмелю, переходившем в сон, подумал, какую он совершил удачную сделку, подумал о своем красивом поросенке, которого он сторговал, и от этого небольшого чувства удовлетворения и хмельной обессиленности и от покачивания словно на качелях стало у него на сердце как-то тепло и приятно. Все больше подчиняло его вино, а также давно знакомое хорошее чувство, какой-то неопределенный оптимизм, какая-то ленивая ублаготворенность, которая всегда овладевала им, когда он напивался, и ради которой он, должно быть, и напивался. При таком его состоянии и беды притупляли зубья свои и лезвия, хотя и тогда Ичан понимал, что в жизни всякое бывает: человек страждет и томится, спотыкается то и дело, и валится, и падает, – однако тем не менее казалось ему все-таки, что все на круг «выходит хорошо» – какое-то обтрепанное и кривое, ленивое и безвольное «хорошо», которое одно только и мерцало в одурманенном вином мозгу, какое-то «хорошо», которое родственно забвению и достигается лишь на пороге полной потери сознания. Эх, вино, вино! – безразлично, прозрачное оно или мутное, скисшее или играющее, – матерински доброе вино, в котором утопают все тяжести и все желания, в котором растворяются все мысли и все беды, к которому прибегают и в радости, и в печали, которым сопровождают и рождения, и погребения и в котором, наконец, исчезают подряд эти серые отрезки повседневности – дни нашей жизни.
Ичан уже храпел. Старая Вайка шепотом позвала невестку:
– Мария! Укрой его, простудится!
В таких случаях они на цыпочках ходили вокруг, балуя его, как больного ребенка.
С тех пор Мигуд воцарился в доме Ичана и стал как бы его столпом. И каким бы ни возвращался хозяин из своих поездок, пьяным или злым, усталым или промокшим, валился в постель, не отужинав, не спросив домашних ни о здоровье, ни о делах по дому, единственная мысль стояла у него в голове, перед тем как он смыкал веки:
– А Мигуда накормили?
– Да, да, не беспокойся! – успокаивали женщины. И только тогда он спокойно засыпал.
Слабость его к Мигуду была известна. Даже старая попадья, придя с решетом выпросить чашку-другую гороха (который, сварив, она будет разогревать и есть четыре дня), знала, с какой стороны к нему лучше подкатиться, и обязательно всякий раз спрашивала:
– Ну, Ичан, как там твой Мигу́д?
А Ичан отвечал добродушно, с чуть заметной улыбкой в уголках рта, вызванной тем, как старуха – кто знает почему – подчеркивала это имя, и вместе с тем учтиво поправлял ее в своем ответе:
– Хорошо Ми́гуд! Хорошо, что ему сделается!
Однако наступил момент, когда вдруг показалось, что весь труд, все заботы о поросенке окажутся напрасны и что все полетит к черту. Когда кастрировали Мигуда (а выхолащивал его Ристо Милич, известный мастер своего дела, занимавшийся им в пятом поколении), рана засорилась, началось воспаление, и уже думали, будто спасения ему нет. Два дня Ичан бродил, не находя себе места, всякое перепробовал, бросал все безнадежно и снова принимался искать все возможные и невозможные средства. Встречавшие его односельчане, выражая сочувствие, интересовались здоровьем Мигуда. И старая попадья, когда однажды Ичан прошел мимо ее дома, спросила его в окошко, на сей раз без всякой мысли о горохе, просто из чувства человечности:








![Книга Обмен мнениями [=Симпозиум] автора Милан Кундера](http://itexts.net/files/books/110/no-cover.jpg)