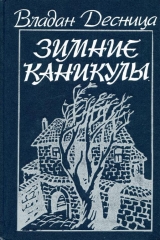
Текст книги "Зимние каникулы"
Автор книги: Владан Десница
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 28 страниц)
– Да-да, все это очень хорошо, но intanto[86] она еще лежит наверху! – возразил шьор Карло, указывая перстом на дом.
– Сам знаешь, люди на работе, кто там, кто сям…
– Какое там на работе, сколько, господи милосердный, нужно, чтоб отвезти ее на кладбище – полчаса туда и обратно! – поддержал некто, у кого не было ни лошади, ни телеги.
Под сурдинку вывел Ичан свою вчерашнюю мелодию:
– Да и меня бы, брат, не надо было просить, если б весной моя кляча не пала!
– Эх, чего тут! Если б и мою Талия не взяла, не понадобилось бы сейчас никого искать! – сказал Миле, не желавший отставать от Ичана.
Дело не двигалось с мертвой точки. Миновало, наверное, часа два, как послали Гличу по домам, и он покуда не возвращался.
– Ты гляди только! И выбрали самого дурного Гличу народ искать! Ну умники!
– Чего ж ты сам не пошел?
– А вот так не надо, не надо!
Наконец почти в полдень явился Глича. Он спешил, утирая платком лоб, взмокший от деятельности.
– Обошел я и село и поле – ничего! У Мията кони пашут, в самых Гредицах, у Николы тележка сломалась, у Стевана его Лис хромает на заднюю ногу – повредил пару дней назад, когда котел перевозил из Поседара. Стана Тодорова без мужа не смеет, а тот спозаранку на велосипеде в Бенковац уехал – сказывали, там он лемех сумеет найти.
– Сообразил бы к Лукачу.
– Спросил и у него. Говорит, своего рыжака бы дал, да упряжки нету – одолжил Давиду на мельницу съездить.
– А Петрина?
– А Петрина еще вчера укатил в Сукошан за известкой, к ночи только вернется.
– Да, что ж теперь делать? – вырвалось у кого-то, выражая общую заботу.
Но шьор Карло воспринял это почему-то в свой адрес.
Более всего шансов оставалось в расчете на Мията. Послали мальчика в поле к нему за лошадьми. Кое-кто отправился обедать и уже вернулся на свой камень перед задругой, а мальца – ни слуху, ни духу.
– Что с ним стряслось, отчего нету его? – осведомился тот, чей выпал черед, потому что до тех пор он не произнес ни слова.
– Кто знает? Должно, с ребятами в поле разговорился и позабыл, за чем пошел, – подобрал отнюдь не самое утешительное объяснение хромой Тривун.
– Ну что?
На пороге появились Лизетта с Анитой.
– Да ну… – шьор Карло только рукой махнул.
Женщины молча исчезли в доме. Создавалось такое впечатление, будто они молятся там о благополучном свершении.
К счастью, около двух часов затарахтела телега… Все поднялись и, любопытствуя, вытянули шеи. Это возвращался из Сукошана Петрина; стоял в телеге, полной негашеной извести, и бешено гнал – в приличном, конечно, подпитии. Кто-то замахал, чтоб он остановился, однако тот не совладал сразу с разгоряченными лошадьми, прогромыхал мимо и остановился подальше. Люди подбежали к нему. Растолковали, в чем дело, говорили разом о том, какая незадача случилась с похоронами. Когда назвали попадью, он почесал за ухом, словно бы что-то припоминая.
– Давайте я ее свезу, если никто не хочет, маму вашу! Вы двое, – он ткнул пальцем в парней из группы бездельников, – берите лопаты и мигом на кладбище, копайте могилу, а я выгружу известь, погружу старую и буду следом за вами.
С собой он прихватил прочих бездельников помогать ему при разгрузке извести; от этого им увернуться не удалось. Только теперь шьор Карло и Эрнесто решили пойти перекусить наскоро, а оттуда прямо во двор к Петрине. Известь разгрузили, Петрина сказал: «Я мигом» – и скрылся в доме. Они терпеливо ждали, довольные, что хоть эдак вышло. Однако Петрина тем временем без спешки обедал. Шьор Карло окликнул его через полчаса. «Вот он я мигом, вот он я мигом!» – послышалось в ответ. Они прохаживались по двору, разглядывая какую-то замызганную курицу с абсолютно голой шеей.
– Петрина говорит, что не отдаст ее за десять других, – сказал кто-то.
Но им вскоре наскучила и замызганная курица. Шьор Карло посмотрел на часы, потом на солнце, потоптался.
– Эге, Петрина-а-а!.. – крикнул кто-то из мужиков, посочувствовав этому его волнению.
– Тут я, тут, иду мигом!..
Минут через десять он появился, вытирая ладонью губы.
– Вот теперь мы айн-цвай!
Гроб погрузили без особых осложнений. Сзади на бортик телеги сели шьор Карло и Эрнесто, Ичан опустился на днище. И Петрина припустился, будто сватов вез на свадьбу. Снизу, вздымаясь, известковая пыль щипала глаза. Горожане хотели было хлопнуть Петрину по плечу, чтоб ехал помедленней, но Ичан, подмигнув, махнул им рукой: дескать, гиблое дело, он по-другому не умеет, или так, или вовсе никак.
Пожав плечами, они смолкли.
На каком-то узком и тесном повороте попалась навстречу телега из другого села, возвращавшаяся от помола, с мукою. Еле разъехались. Телега с мукой встала; ехавший на ней старикашка – видно, глуховатый – смотрел им вслед, раскрыв рот.
– Помолол, а, дед? – гаркнул Ичан.
– Помолол. А вы с чем?
– С попадьей.
Старик молча глядел на них, не понимая. И приставил к уху ладонь.
– По-па-дью! – раздельно повторил Ичан, но грохот колес уже заглушал его, и старик понял еще меньше, чем прежде. В глаза ему бросилось, что у них ослаб тормоз, опустившись, со звоном громыхает по камням на земле.
– Тормоз у вас ослаб! – крикнул он им вдогонку, показывая кнутом – без всякой, впрочем, уверенности, что его услышат.
Ичан понял его, но снова махнул рукой: «И так сойдет!»
Теперь они пустились прямо по перепаханному полю. Нива эта принадлежала старому Василию Дупору, который со своей старухой покуда томился в лагере за то, что оба его сына ушли к «лесовикам», а односельчане, развалив его загородку, проложили прямой путь на кладбище. Стебли высоко скошенного ячменя хлестали снизу по днищу телеги; ехать теперь было мягче, меньше трясло. Врезались в невысокий кустарник, проехали прямо через него, он тут же выпрямился и остался позади, приходя в себя.
– Э-э-э-х! – крикнул Петрина и остановился.
Они были на кладбище. Могила была готова; оба копальщика сидели в ней, опершись на свои лопаты, и курили. Все вместе, вшестером, они сняли с телеги гроб и опустили в яму, перекрестились, бросили по горсти земли, затем копальщики вонзили лопаты в кучу выброшенной земли и стали зарывать.
– Постойте-ка! – крикнул им Петрина.
И достал из-за пазухи письмо, которое недели две назад передали ему на почте в Жагроваце для попадьи, а он позабыл отдать. В письме этом дирекция дома умалишенных в Шибенике сообщала матери, что во время последней бомбардировки был разрушен один из корпусов, и среди пятидесяти шести погибших душевнобольных был и ее сын Милутин М. Радойлович.
Петрина спустился в могилу и просунул письмо внутрь гроба, сквозь щель между двумя досками, как в почтовый ящик.
– Что там? – поинтересовался кто-то.
– Ничего, это мы одни с нею знаем! – ответил Петрина, переводя дело в шутку.
Вскоре могилу закопали.
– Вот и все. Довольно она пожила! – произнес Ичан, почувствовав, что на прощанье следует сказать нечто утешительное.
Однако горожанам эти его слова, должно быть, показались несколько циничными, ибо они переглянулись между собой.
Лопатами обровняли холмик. Когда и с этим покончили, Ичан опять сказал:
– Теперь успокоилась.
Копальщики забрались в телегу к Петрине. Горожанам захотелось вернуться пешком; Ичан присоединился к ним. Солнце опускалось. Огромный багровый шар, не излучавший тепла, медленно погружался в темные облака, и длинные тени ложились на дорогу.
– Cosi finiremo tutti![87] – сказал шьор Карло, обращаясь к Эрнесто по-итальянски каким-то доверительным тоном, словно бы это относилось только к ним двоим или словно это касалось их каким-то особенным образом, а остальным этого знать не полагалось.
Проходя мимо недавнего жилища попадьи, они посмотрели на дом. Лишь теперь он показался им пустым, окончательно, полностью опустевшим. И эта опустелость его была видна снаружи: словно ею, как белыми плакатами, были оклеены стены.
XXI
Весь ноябрь и первую половину декабря стояла теплая осень. Блистали сухие и тихие солнечные дни – изредка только поддувал короткий несильный ветерок, словно лишь для того, чтобы поддержать хорошую погоду. В абсолютно прозрачном воздухе контуры вещей были четкими и ясными; вплоть до самой линии горизонта – нигде ничего размытого или окутанного дымкой, нигде никаких смутных пятен, при виде которых в сердце могло бы возникнуть зернышко грусти: все казалось открытым, лишенным каких-либо тайн. И ясные дали становились удивительно близкими, своими, вполне просветленными и доступными глазу.
Беженцы все еще бродили по селу в старых сандалиях и в несколько более толстых, чем обыкновенно, чулках, в спортивных майках под заношенными осенними пиджаками. Одежду получше они приберегали для светлого дня возвращения в город. И только шьор Карло поддерживал свой наряд на должном уровне: он по-прежнему носил воротничок, правда без галстука (он рассудил, что эта полумера более всего соответствует жизни в деревне), и часы его по-прежнему висели на серебряной цепочке, которую он не пожелал менять, подобно Нарциссо Голобу, на какую-то веревочку. А женщины все держались аккуратно; Анита ни на йоту не отступила от своей городской ухоженности, поддерживаемой с тем же неизменным заботливым вниманием к собственной личности, которое столь характерно для красавицы на отдыхе. Они часто готовили еду на открытом воздухе, во дворе на треноге, чтоб избежать нестерпимого дыма «теплого дома».
В подобных обстоятельствах их пребывание в Смилевцах приобретало нечто скаутское и было достаточно терпимо, так что шьор Карло назвал это «зимними каникулами». Название было принято всеми, а у Лины даже вызвало несоразмерно большую радость: непосредственность ее реакции свидетельствовала о том, что она, вероятно, впервые наслаждается прелестями оксиморона[88]. Ичану также, можно сказать, название пришлось по душе, ибо позже, совсем без всякой связи, он иногда вспоминал его и улыбался: «Как это сказал шьор Карло: ни зима, ни лето – как-то очень смешно».
Погожими днями они сидели на солнышке, воспринимая подставленными сгорбленными спинами чудесное тепло, которое излучала хмурая стена Ичанова жилища. Правда, перед наступлением сумерек рождалась какая-то грусть: солнце перед закатом как-то увеличивалось, становилось огромным, багрово-красным и погружалось в далекую, едва различимую мерцающую пучину моря, исполненное будто бы некоей твердой решимости потонуть навсегда. Озаренный пламенем запад долго остывал и опять вспыхивал; может, именно медленность этого угасания вызывала ощущение невозвратимого. В такие минуты особенно Лина становилась болезненно печальной; она не сводила рассеянного взора с этого заката, безмолвная, словно утратившая всякую связь со своим другом Альдо Голобом, который продолжал, беззаботно сидя на корточках, развлекаться, дразня соломинкой муравьиного льва. По проселочной дороге накатывалось густое и вялое облако пыли, укрывавшее собою стадо овец: из него доносился приглушенный мелкий топот тысяч копытец и вырывалась вонь нечистой овечьей шерсти. Блеяние, уносившееся к этому пылавшему западу, было каким-то жалостным, оно также как бы исполнено было тоски по исчезающему светилу.
Контакты с хозяевами иногда бывали более сердечными, иногда более холодными, но никогда – напряженными или обостренными. Если отмечались признаки некоторого их ухудшения, горожанки несколько глубже отступали на позицию «каждый за себя», и рано или поздно, неизбежно наступал момент возрождения отношений более теплых. И те и другие были внимательны к детям и всегда, даже в более сложные периоды, бывали с детьми более открытыми и сердечными. Таким образом, дети представляли собой как бы мост для выравнивания отношений между взрослыми. После нескольких дней омрачненности Ичанова Мария, например, приносила только что снесенное, свежее яичко для Капелюшечки, За этим, естественно, Екина и Йово получали по два-три печенья из пайка, который Эрнесто привозил из города. Горожане аккуратно платили за жилье, за молоко и прочее. Однако сельчане плату принимали без удовольствия и долго держали деньги на ладони, молча подчеркивая тем самым слабую их силу и ограниченные возможности употребления. Особенно они нуждались в одежде и всегда просили «что-нибудь потеплее», но в том же самом и горожане ощущали нужду и мало что могли выделить из тех лохмотьев, которые сумели извлечь из-под развалин своих жилищ. Подарят, скажем, ребятишкам два разноцветных чулка или дамскую шляпку, которую те нахлобучат на голову и дня два расхаживают в ней по двору, а на третий, глядишь, шляпка эта – на навозной куче.
Но все спасал Ичан своим счастливым характером и своим ленивым, умиротворяющим жестом. Он словно бы мягким прикосновением руки все сглаживал и решал без труда все вопросы с позиций какой-то высшей, ясной несущественности. Неприятные повороты реальной жизни толковал и сопровождал своими беззаботными, незавершенными изречениями: «Да все это, знаешь…», «Не тревожься, дай только бог здоровья – и всего найдется». Что заключалось в этом его «знаешь» и когда и кому «найдется» – оставалось неразъясненным, но именно в этом и заключалась широкая умиротворяющая благостность его слов. Он смягчал любую ситуацию самим своим присутствием, подобно тому как близость моря смягчает и жару, и лютые морозы. Особенно мил и расположен он бывал немного подвыпив, он стучался тогда вечером в дверь к Доннерам и разговаривал с Эрнесто и шьором Карло до поздней ночи. А когда уходил, они всякий раз комментировали:
– Воистину хороший человек!
С другой стороны, шьор Карло мало-помалу и у крестьян приобрел уважение и симпатию, и они считали его главой и старейшиной всех беженцев.
– А ей-богу, душевный он мужик, по человечеству мужик! – так отзывался о нем старый Глича в каждом случае.
И пока горожане оставались у Ичана, у него не возникало перебоев с куревом, а Мигуду доставались не только помои, но и водянистый горошек, и зачервивевшие макароны, а такие частенько оказывались в пайках, получаемых из города. Даже Анита с Линой большую часть отбросов тайком приносили Мигуду, тем самым, с некоторыми, правда, угрызениями совести, сокращая долю поросенка, принадлежавшего вдове Калапач. А Ичан, со своей стороны, возвращал чем мог, и в минуту душевной растроганности, сообщая о том, «чем расплатится Мигуд», неизменно заканчивал: «Ну вот, ежели господь даст, найдется окорочек и для Капелюшечки!»
XXII
Аниту беспокоила Лина. Девушке было скучно. Она бродила по селу, от одного знакомого дома к другому, в поисках каких-нибудь развлечений. Или, бросившись на постель, лежала часами, неподвижно глядя на закопченный потолок и фантазируя. А затем вдруг вскакивала, подхваченная очередным приступом жажды деятельности, и вновь угасала со своими неосуществленными замыслами и бесполезной активностью. Поводы для тревоги давало и состояние ее хрупкого здоровья.
Тревоги Аниты стали тревогами всей «группы Ичана». Они с радостью искали любого повода, чтобы развлечь девушку. Поэтому как-то в воскресенье, уступая ее просьбам и вопреки собственным желаниям, они согласились подняться в верхнее село, где жили Видошичи. А придя туда, узнали, что уже неделю назад те уехали в Италию.
Домой возвращались угнетенными.
– Только представьте себе, никому не сказали, ни с кем не простились!
– Может быть, тот визит на похороны попадьи они сочли прощальным – помнишь, поминали тогда Италию?
– Господи, какие эгоисты есть на свете!
– Таковы все, у кого нет детей и кто думает только о себе! – вырвалась у Лизетты неосторожная фраза.
– Пардон, у меня тоже нет детей, – вмешался шьор Карло, – а я, однако, иного сорта… то есть, я по крайней мере полагаю, что это так!..
– Помилуйте, о чем вы, шьор Карло! – поспешили разрядить ситуацию Эрнесто и Лизетта. – Вы же нечто совсем другое!..
– Да, шьор Карло нечто совсем другое! – с умеренной вескостью подтвердила Анита, отставшая от них.
В следующее воскресенье, чтобы сбалансировать неудачу, решили отправиться в более длительную экскурсию: на Градину.
– Непременно надо туда сходить, пока мы здесь! Жаль было бы упустить.
Все были единодушны. Договорились с Моричами и с Голобами, рано пообедали и отправились на Градину, античный римский Brebentium.
Ичан нес на руках Капелюшечку. Лина была вне себя от радости, излучая ликование в своей широкой соломенной шляпке, Анита же с охотой примирилась с подъемом, утешая себя мыслью, что это обрадует Лину. Ибо еще в прошлом году врач рекомендовал девушке хорошо питаться и больше находиться на свежем воздухе, причем по возможности побыть где-либо в среднегорье. Несколько встревоженная подобными медицинскими рекомендациями и многословными объяснениями Аниты, Лина первое время точно следовала предписаниям – с опаской, точно ходила по натянутой проволоке. Она проявляла по отношению к самой себе известное уважение, словно, обнаружив в своем организме хворь, открыла тем самым и некое неведомое до тех пор достоинство. У нее было ощущение, будто она таит в себе хрупкую драгоценность: какой-то тонкий стеклянный шар, который может лопнуть при неосторожном прикосновении, неловком движении, даже кивке головой или громко произнесенном слове. С той поры обеих их подчинил фанатизм питательности и свежего воздуха. Яйцо, масло, молоко возникали перед Линой на подносе внезапно, по щучьему велению, в любое самое неподходящее для еды время суток, и она все это поглощала набожно, почти не жуя, по возможности так, чтобы не почувствовать вкуса, каким-то особенным образом, будто отправляя все непосредственно в легкие, а не в желудок. «Свежий воздух» превратился в нечто дистиллированное, без запаха и вкуса, нечто подобное бессолевой диете, не дающей удовольствия, но концентрирующей здоровье, нечто, что из-за этой своей концентрирующей чистоты принимают с ложечки, как лекарство, что проглатывают с серьезным выражением лица и что погружается глубоко вовнутрь нас, проникая до мозга костей, до самых пяток, подобно животворной «пране». Причем это всасывание (самое важное!) нужно делать собранно, ибо, если дышать рассеянно, не будет никакой пользы: несобранное и случайное дыхание почти такую же представляет ценность, как если вообще не дышать. Анита радовалась каждому с муками добытому продукту, каждому глотку «свежего воздуха», который она была в состоянии дать дочери. И вот подобный удачный случай представлялся именно благодаря экскурсии на Градину, расположенную как раз в среднегорье. Ибо если три или четыре месяца, проведенные там, приносят исцеление, полное исцеление сразу – то несомненно, что и каждый отдельный кусок и каждая отдельная порция неизбежно способствуют постижению соразмерной части этого исцеления. В таком случае и это нужно добывать, насколько можно и насколько люди «средней руки» только и добывают – то есть мучительно и с жертвами, как и все остальное в жизни, долями, порциями, рядом терпеливых мелких устремлений, самопожертвований, усилий. Разложив подобное «лечение» на тысячу мелких добровольных фактов, внимания и жертв, которые она ежедневно нанизывала на нить непрекращающейся заботы, Анита одновременно и свое жаркое желание, чтобы Лина выздоровела, разменяла на сдачу многочисленных мелких радостей и удовольствий. Она излучала счастье исполненного долга при каждом поглощенном вздохе, в каждый миг, радостный для Лины, в хорошем ее настроении, что проявлялись в подозрительном румянце щек и блеске глаз – в той воспаленной эйфории, в том задыхающемся восторге, который Анита воспринимала как пробуждение и пыл счастливой юности, как признак жизненной сопротивляемости молодого организма.
И сегодня, под впечатлением оживленной веселости и счастливой улыбки дочери, она смотрела на вещи вовсе оптимистично. Видя ее, тонкую и беленькую, здесь, на солнце, на воздухе, она более примиренно относилась к хрупкости ее здоровья (которое, по сути дела, все заключается в том, что ей необходим воздух среднегорья), и почему-то ей казалось, что это, при ее блондинистости и легкости, как бы дополняет исконный нордический тип Лины.
Около двух часов уже достаточно ощутимо припекало на солнечной стороне. Ичан предсказывал, что это конец хорошей погоды, скоро начнутся дожди. Поднимаясь кверху, они все довольно-таки сильно задыхались; а у Лины, которая бежала впереди, размахивая каким-то сорванным мимоходом сухим стебельком так, словно она штурмовала эту высоту и при этом кричала и пела, вовсе не хватило дыхания, и в какой-то момент ей стало почти плохо. У нее тяжело вздымалась грудь, а на висках и белесых волосинках над верхней губой появились мелкие горошинки пота. Но шьор Карло быстро пришел ей на помощь, показав, как в таких ситуациях необходимо освежаться и охлаждаться. Он смочил ей вены на руках водой из термоса – и все вновь пришло в норму. Он объяснил, что так делают в жарком поясе в колониальных войсках. Все сразу убедились в точности его слов, ибо в памяти были смутные воспоминания фильмов об Иностранном легионе. Правда, опыт был бы гораздо эффективнее в июле или августе, но что поделаешь – так или иначе, хорошо было и так; нужно удовлетворяться тем, что есть – в этом вся философия жизни. Перехитрить зло – всюду, где оно возникает, и постольку, поскольку оно возникает, – для шьора Карло в этом заключалось удовлетворение и наслаждение. А если зло проявляется лишь в ограниченной мере, если оно не больше, чем есть (и если, соответственно этому, и его действие необходимо ограничено и невелико), то это не его вина.
Ибо шьор Карло не принадлежал к числу тех людей, кто желал бы просто-напросто стереть зло с лица земли. Нет. Он стоял за свободное соперничество между добром и злом, будучи убежденным, что в конце концов должно победить добро, на которое, по причине все большего технического прогресса, работает время. Верно, зло существует, но существует и скорое, точно определенное противодействие ему – и это, на его взгляд, гораздо более совершенно, более прогрессивно, чем простое отрицание самого факта существования зла.
Накрыть зло специально придуманным средством – хоп! – как точно пригнанной крышкой или сачком для бабочек – вот это да! Пусть человек порежется при бритье – но пусть рядом немедленно окажется останавливающий кровь карандаш! Пусть укусит ехидна – но вот он, шприц с противозмеиной сывороткой… В этой вечной борьбе между богом тьмы и богом света, между тупо-ограниченным, упрямым злом и научно обоснованной, упорной методичностью добра, в том, чтобы каждую минуту, на каждом шагу болезнь опровергать лекарством, зло побеждать добром – в этом стремительном состязании, в этом непрерывном преследовании видел он победу культуры над аморфною природой, победу обдуманности, техники над слепыми силами естества.
Наверху, на Градине, они не обнаружили ничего, кроме нескольких поваленных каменных глыб, потонувших в земле. Чабаны, находившиеся здесь со своими овцами, не умели ничего ответить на их расспросы, кроме того, что эта Градина находится здесь издревле – еще с турецких времен! – и показали камень, на котором, по их словам, турецкий паша рубил головы: в этом и заключалась вся живая местная традиция древнего Brebentium’а. Им сообщили также, что раньше здесь был еще больший камень, на котором паша тоже отрубал головы, но его уволок в прошлом году Шпиркан Алаваня, когда строил хлев.
Взамен на эти скудные археологические сведения они обнаружили, что сверху, с Градины, открывается единственный в своем роде вид на море, на острова перед Задаром, на заходящее вдалеке солнце и что внизу, в низине, Задар виден «как на ладони».
Они возвращались усталые, но переполненные той тихой радостью, свойственной людям, у которых в душе осело приятное воспоминание. Ибо многое и совершается ради того только, чтобы сохранилось приятное воспоминание. Вещи сами по себе, лишенные какого-либо значения и веса, какого-либо содержания радости и счастья, со временем становятся подобными «приятными воспоминаниями», от которых у нас иногда увлажняются глаза. «Есть цветы, которые благоухают только тогда, когда они засушены…»
Наши экскурсанты, следовательно, возвращались в отличном настроении и в беззаботной радости. Лина сплетала веночки из каких-то бледно-фиолетовых цветов и надевала их себе на голову, Анита растроганно искоса на нее посматривала.
Шьор Карло, Эрнесто и Ичан, приотстав, погрузились в серьезный мужской разговор. Горожане поместили Ичана в середине – может быть, хотели подчеркнуть, что не делают никакой разницы между собою и им. Шьор Карло повернул беседу на жалкие условия жизни в этих селах и рассказывал о более пристойном существовании крестьян, живущих в иных, развитых странах.
– А как вы думаете, шьор Карло, будет ли когда-нибудь и у нас здесь, в этих наших селах, получше? Будем ли когда-нибудь и мы здесь чуточку лучше жить, а? Тут кое-кто из наших… – Горожане мгновенно поняли: он имеет в виду тех, кто ушел в лес. – Кое-кто толкует: «Держитесь, дескать, потерпите еще немного, и все станет по-другому, все переменится». И я сам много раз хотел вас спросить: что вы об этом думаете, выйдет из этого что-нибудь?
Шьор Карло и Эрнесто мельком переглянулись у него за спиной. «Хитрый мужик! Никому из них нельзя верить!» – означал этот взгляд. Шьор Карло отвечал дипломатично:
– Все будет хорошо, если люди хорошо и честно думают. Если уважают власти, если каждый делает свое дело, если крестьянин есть крестьянин, чиновник – чиновник, офицер – офицер, а поп – поп, то все в порядке. Но если все мы захотим командовать, если все мы станем вмешиваться в высокую политику, то, ей-богу же, я считаю, получится тогда сумасшедший дом, в котором неизвестно, кто играет, а кто за музыку платит, и тогда всем выйдет нехорошо.
– Да я и сам в таком роде думал, – поспешил согласиться Ичан. – Где ж такое видано, чтоб плуг писал, а перо пахало! – Однако этими словами ему не удалось смягчить уже зародившееся недоверие.
Они проходили мимо дома Миленко Катича и свернули к нему. Гостеприимно и любезно он принял их, показал свое хозяйство, ухоженный сад, молодой виноградник, а потом повел в большую комнату на втором этаже – своего рода гостиную для торжественных случаев, – где красовалось на стенах несколько священных и патриотических олеографий, а над столом висела керосиновая люстра. Горожане осматривали все с удовольствием, радуясь, что им удалось обнаружить в этом селе столь цивилизованный уголок. Миленко хлопотал вокруг стола и подливал им «желтенького»; оно было мутновато и чуточку подкисло, но, впрочем, еще лучше утоляло жажду. Все похвалили это «настоящее домашнее вино», так что в конце концов и самому Миленко пришлось сдаться и со скромной сдержанностью присоединиться к их похвалам.
– Верно, собственно говоря, если уж сказать по правде: если б чуть не подкисло, то такого во всей общине б не нашлось.
Под такое винцо завязалась беседа вообще о жизни.
– А скажите вы мне, шьор Карло, вот вы человек, повидавший мир и науки прошедший, откуда эти войны, эти безобразия, эти ожесточенные люди? Отчего это все? Почему люди не могли бы жить по-хорошему, каждый у себя, на своей земле, заботиться о том, чтобы, как знает и умеет, свою жизнь сделать получше, беспокоиться о своей пользе и в чужие дела не вмешиваться? – одолевал вопросами Миленко, не сводя приторных глаз с лица шьора Карло.
Да и у того во взгляде появилась влага от такой доброты человека, и он вдохновенно поддакивал:
– Верно, Миленко, верно! Так говорят все честные люди, где б они ни были! Все спрашивают: почему война, почему такая напасть? – И в конце поделился с ним своим твердым убеждением, что в окончательном результате все-таки победит «партия честных».
Лине захотелось послать открытки. Миленко и тут пришел на помощь и разыскал несколько карточек с репродукциями картин «Рабы Герцеговины» и «Восстание в Такове», довольно засиженных мухами. Все тут же написали знакомым, рассеянным по Италии, на какие-то совершенно неверные адреса, и шьор Карло взялся доставить эти открытки на почту в Жагровац, сунув их в карман.
Простились самым сердечным образом. Миленко, провожая до ворот, долго тряс им руки своими мокрыми ладонями и растягивал какие-то невнятные, бесконечные прощальные приветствия, наподобие целой речи. Хозяйка по его знаку сунула в сумочку Лизетте несколько свежих яичек для Капелюшечки. Горожане долго махали ему руками, оглядываясь, а Миленко от ворот отмахивал им шапкой.
Все пришли к выводу, что Миленко – несомненно самый лучший человек на селе, лучше даже Ичана, ибо у него более широкие горизонты и более прогрессивные устремления.
У Лины от выпитого полстакана вина кружилась голова. Оба юных Голоба собирали в картуз улиток. Эрнесто, натыкаясь на придорожные камни, пел какую-то очень смешную песню, которой раньше никто не знал, и все заливались смехом; выяснилось, что и старый Морич, вообще человек серьезный, знал тысячу забавных трюков: умел шевелить ушами, а движениями морщин на лбу опускать на глаза шляпу и сдвигать ее на затылок. Нарциссо Голобу тоже захотелось что-то изобразить: он отлично кукарекал, однако жена тут же его одернула, и он подчинился. Так и шли, пошатываясь, подогретые зимним солнцем и подкисшим винцом; к чулкам их приставали какие-то мелкие колючки и семена, и они жалели лишь о том, что не взяли с собой фотоаппарат – увековечить этот день. Анита сильно устала, однако не показывала этого, чтоб не портить удовольствие другим. Однако от глаза шьора Карло это не ускользнуло: он предложил ей свою руку и поддерживал в трудных местах. Поэтому они несколько отстали от других, и спутники их время от времени останавливались, поджидая и обмениваясь многозначительными, но добродушными взглядами.
Стемнело, когда вернулись в село. Тепло простились друг с другом и довольные улеглись спать. Раздеваясь, Лизетта закончила день глубокой мыслью:
– Вот и без Видошичей можно даже очень хорошо жить!
XXIII
В субботу (на следующий день после прогулки на Градину) пришла весть, что в Жагровац прибыл Воевода Дуле со своими четниками и велел всем жителям села утром прийти на митинг – худо тому, кто уклонится!
Для горожан возникла проблема, нужно ли идти им. Конечно, их все это мало касалось – они, собственно, и не знали, что такое эти убогие четники, но опасались, как бы не оскорбить кого-нибудь своим отсутствием, как бы это не восприняли словно демонстрацию. Все утро прошло в дискуссиях. Наконец одержало верх мнение, что идти нужно; шьор Карло толковал, что с их стороны – пришельцев и в некотором роде иностранцев, – никоим образом это нельзя воспринимать как поддержку политики четников, но лишь как акт определенного внимания, к чему их обязывает право предоставленного убежища, которым они пользуются. Дело еще и в том, что праздник, стоит хорошая погода, поэтому можно считать это простой прогулкой, нечаянно совпадающей по времени и месту с митингом. А поскольку и в Жагроваце существует группа беженцев (им, правда, вовсе незнакомых), то в самом худшем случае свое появление они могут объяснить желанием навестить сограждан.








![Книга Обмен мнениями [=Симпозиум] автора Милан Кундера](http://itexts.net/files/books/110/no-cover.jpg)