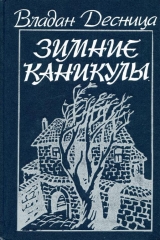
Текст книги "Зимние каникулы"
Автор книги: Владан Десница
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 28 страниц)
И в самом деле, помогло. Поначалу он все реже и реже вспоминал о монахе, потом и вовсе выбросил его из головы. И миновало, вероятно, месяца два, а он и думать о нем позабыл – и во сне, и наяву. Но в один прекрасный день, без всяких предчувствий, он перевернул листок календаря – и монах оказался на месте. С тех пор он чаще стал его посещать. Особенно если взгляд его падал на календарь. Все, что являлось календарем, с этих пор словно оказывалось связанным со всем, что являлось монахом, – одно приклеилось к другому, точно две карамельки в пакетике, согревшиеся в кармане: все, что было связано с календарем, напоминало ему о монахе, а все, что было связано с монахами, церковью, алтарем и тому подобным, приводило к календарю и к монаху. Стоило встретить похоронную процессию – и на́ тебе, монах! Попадался на глаза в книжной витрине «Сельскохозяйственный календарь» – и опять монах. Если, пока он ждал в приемной подписи начальника, взгляд его случайно падал на стенной календарь, или просто на стенные часы, или даже на барометр, то мгновенно возникал монах. Во сне, правда, он стал являться реже, но зато через более правильные, почти определенные промежутки. И ему казалось, будто он уже точно предчувствует очередной ночной визит, точно знает «монашеский день», как точно же знает постоянный день посещения прачки или налогового инспектора.
Некоторое время так и шло. Но тут в действие вступает логика – та самая чертова логика, которая возникает ради того, чтобы в конце концов испортить то, что не удалось погубить алогичности: теперь он по утрам больше не задумывался над тем, видел он во сне монаха или нет, и больше этому не радовался – ему стало безразлично. Он понял, что между «Я видел монаха» и «Я монаха не видел» разница заключается лишь в «да» и «нет», поскольку в обоих случаях слово «монах» присутствует неизменно. Он вспоминал, что прежде, бывало, бреясь, он наивно радовался при мысли «Смотри-ка, я его не видел!» или «Смотри-ка, я о нем не думал!», и горько теперь усмехался: «Насколько же глуп ты был, братец! Ведь думать о том, что ты не видел монаха, и означает, что ты о нем думал!» Это скептическое напоминание мгновенно сокрушало все: «Подумать только! Словно какой-то метастаз монаха, ибо хочешь не хочешь, во сне или наяву, днем или ночью – монах тут как тут!» И ему вдруг стало ясно, что все это время, с самого начала, и в период следствия, и всю пору до появления фатального листочка в календаре, монах, невидимый, продолжал существовать, где-то здесь, за занавеской. И однажды утром, бреясь, он замер и крикнул, стоя в одиночестве посреди пустынной белоснежной ванной комнаты: «Ох, если б забыть, только б забыть!..» Он несколько раз провел лезвием по щеке и опять застыл. «Но что есть забвение? И как может человек быть совсем спокоен? Даже если это спокойствие наступит, откуда знать, полное ли оно, это забвение, окончательное или только временное? На основании чего я с уверенностью могу считать, что однажды какая-нибудь случайная встреча, пустяк – что угодно! – неожиданно, и тем сильнее, вновь не пробудит мысль о нем?» Он положил бритву на холодное молочное стекло над умывальником, не сводя взгляда со своего осунувшегося лица с глубоко запавшими глазами, и произнес вслух, обращаясь к зеркалу:
– Нет мне спасения! – И от звука собственного голоса у него пошли мурашки по спине.
Но человек – силен. Человек – существо выносливое, упрямое, живучее. Человека так просто не возьмешь. И он попытался защищаться с помощью той самой «логики», которая все погубила. Он рассуждал: по сути дела, «думать о монахе» не совсем то же самое, что «думать о своей мысли о монахе»; правда, на первый взгляд это может показаться одинаковым, но это вовсе не одно и то же: тут есть маленький нюанс! В первом случае монах есть нечто, что стоит надо мною, нечто, что терроризирует меня, нечто, что владеет мною, повелевает; тут хозяин он, я лишь повинуюсь. Во втором же случае, наоборот, он подчинен мне, он мне повинуется, повинуется моей мысли. Здесь еще по-прежнему хозяин я! «Да, я хозяин!» – произнес он громко, опять глядя в зеркало.
Вот так, и это был шанс. Еще один шанс. Может быть, последний. И человек действительно пришел в себя и приободрился. Постепенно к нему возвратилась воля к жизни. Когда светило солнце, он отправлялся на прогулку в зоопарк. И даже вес его увеличился на несколько килограммов, а это был несомненно благоприятный, весьма благоприятный признак. С тех пор он стал регулярно взвешиваться, каждую субботу. И думал о монахе без тревоги, без всякого душевного волнения, почти равнодушно. «Со временем все выветрится», – внушал он себе. И благодаря именно тому факту, что монах перестал что-либо значить, само собою стало так, что он все реже думал о нем. «Это как у влюбленных: стоит только убедиться, стоит уловить первые признаки взаимности, как немедленно начинаешь воображать, позволяешь себе роскошь уже не так часто о ней думать, даешь себе немного отдохнуть от нее. И во всем так. Всегда главное – кто сильнее. Кто сильнее – тот хозяин: ты или она, ты или монах».
Как-то в субботу он правил на ремне бритву в ванной – и вдруг услыхал свой собственный свист. «Давненько я не свистел», – подумал он. А после полудня отправился в кино. Глупости все это! Примитивная лирика, томление духа, чушь собачья! Достойная девчонок из кондитерской или парикмахерш. Вечером, когда он раздевался перед сном, какой-то предмет выпал у него из кармана и упал на коврик перед кроватью. Он нагнулся – это был талон автоматических весов. Он разглядывал его с немалым удовольствием – вес возрастал. Лукавая улыбка появилась у него на лице, и он потер руки: «Теперь, кажется, я и в самом деле от него избавился».
Однако той же ночью он опять его увидел. Монах как будто похудел. И кисло ухмылялся, подмигивая левым глазом и грозя пальцем: «Ошибаешься, мой друг, ошибаешься! Хочешь не хочешь – а я в тебе. И ты никогда не сумеешь удалить меня из своей души!»
И тут – тут уже в самом деле не было больше никаких шансов.
1955
Перевод А. Романенко.
ВОСТОЧНЫЙ МУДРЕЦ
В научной экспедиции профессора Робине долго ожидали ответа от мудрого Салеба Хакима Шешама. И ответ этот наконец пришел. Он гласил:
«Дорогому брату и премудрому господину, познавателю французских великих школ и мудрейших наук, от меня, Салеба Хакима Шешама, муфтия Момкир-Ахиба, привет и уважение.
Я получил, дорогой брат и почитаемый господин, то послание, что ты отправил ко мне со своими помощниками и сотрудниками, которые благополучно прибыли в наши края после четырнадцати дней пути через пустыню в сопровождении наших людей, которых мы выслали им навстречу с верблюдами и мулами, дабы на рубеже пустыни те встретили их и счастливо к нам доставили. Я прочитал все, о чем ты пишешь в своей грамоте, и вот сел отвечать тебе.
Твои слова о том, что страна наша малоизвестна и неизучена и что о ней нет никаких сведений, а ты бы лично с охотой сюда приехал, дабы ее изучить и исследовать, весьма меня радуют. Приезжай же, дорогой брат! Ты будешь дорогим гостем в домах моих, ты найдешь мягкие подушки в садах моих и беседках, и уже в нетерпении перебирают копытами мои мулы и верблюды, которым предстоит пронести тебя по путям твоим. А пока же отвечаю тебе по порядку и без спешки, насколько сумею и смогу, обо всем, что милое твое сердце желает знать о нашей стране и о ее народе – и о временах минувших, и о животных и растениях, и обо всем ином, живом ли, мертвом ли, что в ней есть.
Что касается, как ты пишешь, истории – то этого, дорогой брат, у нас нет. Это такое дело а-ля франка, которое в наших краях неведомо. Я о ней немного знаю только по слухам: слыхал от путников, в местах далеких побывавших, что такие вещи существуют во Франции и в других Европах, но опять же чистосердечно тебе скажу, что у нас такого не водится и никогда не водилось.
Спрашиваешь ты меня о событиях минувших и временах давних, что в них происходило и достопримечательного случалось; отвечу тебе: происходило, дорогой брат, всякое, бывало и так и эдак, туда и сюда, но чтоб случалось что-либо – увы, ничего. С незапамятных времен все было, как и поныне. Так рассказывают старики, соответственно тому, что в детстве запомнили и сами слыхали от своих родителей. Неверно, говорят они, будто мир старится и меняется: испокон веку, говорят, и сто лет назад, и десять раз по сто, все обстояло точно так же. И тогда тоже были молодые и старые, и тогда тоже одни уезжали, а другие приезжали, и тогда тоже прорастали и поднимались молодые деревья, а старые падали. По утрам вставало солнце, а по вечерам опускалось, зимою стояла зима, а летом – лето, именно так, как и нынче. Жили, умирали люди, а потом появлялись другие, которые тоже жили и умирали, и всегда было так, без перерыва. Но чтоб случалось что-либо, то ничего. Потому нынче люди ничего и не ждут. Не знаю, может быть, когда-то, в давние времена, и ожидали, будто что-либо случится, – так по крайней мере говорится в одной нашей повести. Ждали и ждали, а когда увидели, что ничего не случится, должно быть, и надоело им ждать. Как бы там ни было, только ныне у нас никто ничего и не ожидает.
Спрашиваешь ты, как люди в минувшие времена жили и чем занимались. Призна́юсь тебе, ответить на это мне одновременно и тяжко и легко. Как же тебе сказать? Впрочем, сказать только и можно: вертелись, крутились, садились, ложились и вставали, женились и выходили замуж, рожали от себя других – и в конце концов неизбежно умирали. И так все чередом, одни на смену другим, как у колодца. Окапывали свою кукурузу и поливали свои сады, а приустав, усаживались на пороге перед домом на солнышке или, если оно слишком припекало, в саду. В радости радовались, в горе горевали. Кто-то был счастлив, а кто-то нет. Конечно, больше было тех, кто нет, нежели тех, кто да. А иные и да, и нет. А кто-то да, а все-таки как-то и нет. А кое-кто нет, а опять же как-то выходило, что да. Но об этом трудно сказать что-либо верное. Ибо, по нашим обычаям, есть вещи, о которых считается нехорошо или не полагается самому о себе говорить, и такие вещи всегда только или другие о нас, или мы о других говорим. Так, например, не водится у нас, чтобы герой сам о себе толковал, какой он герой, или, скажем, чтобы женщина, которая отдается в комнатах или под кустом, сама себя называла гулящей. Вот так обстоит дело и со счастьем: это тоже такая вещь, о которой только в отношении других и можешь сказать. Поэтому на нашем языке и нельзя сказать «я счастлив», но только «ты счастлив» или «он счастлив», и из этих двух фраз выбирай. Некий путник, который когда-то давно побывал у нас, растерянно качал головой, когда мы разъясняли ему эту особенность нашего языка. «Гм, это признак того, что с вами неладно», – отвечал он. Однако наши старики и мудрые люди полагают, что не прав он был, ибо так всюду по всему свету, где живут люди, и что людской породе сие вообще свойственно. Следовательно, вот так люди жили. Что еще тебе сказать? Зимою они спасались от холода, а летом укрывались от зноя и от мух, жаждали и искали воду и закрывали глаза ладонями от песков пустыни. С радостью и с песнями плясали и новорожденных младенцев пеленали (а после многие из них о том жалели), в печали горевали и причитали, с воплями хоронили тех, кто либо от хвори, либо от раны неисцелимой, либо от старости, либо по иной какой причине погибал. И наконец, всегда и без исключения умирали и сами. Вот так бывало. Но опять-таки, говорю тебе, ничего не случалось. «Но ведь не веками же они вот так только на пороге сидели, валялись в постели да умирали!» – возразил мне намедни твой юный помощник, тот юркий, с тонкими усиками и стеклышками, на серебряной проволочке за ухо зацепленными. «Ну конечно, нет, само собой разумеется, что нет», – возразил ему я. Ясное дело, не всегда они только отлеживались да на перинах возились. Отбивались, оборонялись, как могли и умели, чтоб прожить, прикидывали, чтоб вышло получше, а не оказалось бы похуже. Подчас, известное дело, и маялись, мучились, терзались. И страждали, крепко страждали. Иногда до невыносимости. И страдание их порой становилось настолько огромным, что они теряли от него рассудок, и тогда уже не перед домом на солнышке или в саду в прохладе посиживали, но от боли великой на обнаженные сабли голой грудью кидались, сами себе жилы в запястьях перерезали или же очертя голову в колодцы сигали. И сам, надо полагать, знаешь – так и по сей день бывает.
А временами – и такое бывало! – налетали иноплеменные орды, и они кое-как оборонялись и защищались, и при том и те и другие гибли. А когда наши инородные племена нападали, то те, другие, опять-таки оборонялись и защищались, и с обеих сторон люди гибли. И те и другие считали себя правыми, полагая, будто только на их стороне истина. Разница была лишь в том, что наши в самом деле были правыми и что их истина в самом деле была истиной, в то время как другие только так думали. Но поскольку и те, другие, твердо полагали, что именно они на самом деле правы и что их истина подлинная, а наши только так думают, то настоящего и длительного мира никогда не было. И оттого они взаимно истребляли друг друга, сажали друг друга на кол, у живых вырывали сердце или заживо сдирали кожу или даже маленькими кривыми ножичками отрезали веки и тут же в пыль на дорогу их швыряли, и те падали, словно выплюнутые шкурки красноватых мелких слив.
Так что, как видишь, всегда было так, как и ныне, и уж тут никакой истории нет. Бывало и бывало – а нет, чтоб случалось что-либо. И таким образом, говорю тебе, люди образумились и с тех пор ничего не ждут и ни на что не надеются. Впрочем, у нас и нет точного слова для обозначения понятия «надежда»; по надобности употребляем словечко сваан, чужеземного происхождения, обозначающее одновременно и «надежду» и «печаль».
Вот так, значит, обстоит у нас дело с историей. Однако (может быть, тебе любопытно будет послушать) вместо истории и вместо всех других ваших наук, вместе взятых, существует у нас одна мудрость или, как вы это называете, наука: это – муйрук-буйрук. В переводе на твой язык это означало бы примерно (я говорю примерно, потому что слова и выражения нашего языка вообще с трудом поддаются точному переводу на другие языки): «наука (или наука наук) о том, что существует, и о том, чего нет». Чтобы ты лучше мог меня понять, приведу тебе (разумеется, и тут лишь примерно переведенных) несколько основных и главных муйрук-буйруков. Например: «Все и есть, и нет», «Я для себя то же, что и ты для себя, а ты мне то же, что и я тебе». Или вот: «Свасна (слово «свасна» одновременно означает понятия «мир», и «жизнь», и «все», «всеохватность», «круг всего сущего и несуществующего»), свасна состоит из двух половин: из того, что должно быть, и из того, чего быть не может». И еще: «Напрасно что-либо объяснять: истину может понять лишь тот, кто ее и без того знает». Или примерно то же, но чуть иначе: «Люди или понимают, или не понимают: тех, кто понимает, зовут бала, тех, кто не понимает, зовут набала; объяснять бале излишне, объяснять набале напрасно. Бала для набалы кажется такой же набалой, подобно тому как набала бале кажется набалой. Поэтому: молчи, а про себя думай что угодно!» (Здесь я должен предостеречь тебя, что неточно, с грубой приближенностью, можно переводить, как это пытались сделать твои помощники, «бала» и «набала», просто как «мудрец» и «дурак»; нашему языку вовсе неизвестны слова столь резко отрицательные, как «дурак». Поэтому будет точнее, если мы переведем их сочетаниями слов «человек, который понимает» и «человек, который не понимает» или, пожалуй, еще точнее: «человек, которому доступно» и «человек, которому не доступно».) Впрочем, одному Аллаху ведомо, кто есть «бала», а кто – «набала»!
Другого, милый брат и дорогой друг, я не сумел бы тебе сказать, но горячо приветствую тебя и жарко ожидаю в нашей стране. Селам!
P. S. Изнемогаю при мысли, что, возможно, не ответил я на все, что ты хотел знать, и так, как ты хотел. Люди, тебя сопровождающие, твои помощники и сотрудники, передавшие мне свою грамоту, побуждают меня написать тебе несколько «конкретнее», как они говорят, дать тебе «больше конкретных фактов» и «реальных обстоятельств». Поначалу я не слишком понимал, что они при этом имеют в виду, однако они не пожалели труда, дабы мне это объяснить, и теперь, кажется, я кое-что уловил. Коль скоро мы этого коснулись, то вот скажу тебе нечто, что я и сам прежде давно замечал: люди в Европах, да и сыны наших мест, едва оденутся а-ля франка, тут же начинают искать нечто «конкретное». Искренне тебе скажу, сдается мне, что вы слишком много важности придаете этому, а местный наш народ над этим потихоньку посмеивается. Когда приезжают люди а-ля франка, всегда спрашивают: когда точно это произошло, где точно это произошло, как это произошло? Как звали человека, который это сделал, где и когда он родился, где и когда умер, кто были его отец и мать, дядька и тетка – и так далее, без конца и края. Это они и называют «конкретным». Более того, они называют это «историей» и даже «правдой». Мне, однако, кажется, что они ошибаются: не это правда, или по меньшей мере не только это вся правда, но помимо этой правды (не хочу сказать – поверх этой правды) существует еще одна правда. Существуют, следовательно, в самом приемлемом случае, две правды: та, назовем ее «а-ля франка правда», и наша, другая правда. А какая из них весомее и значительнее и какая из них обеих настоящая правда – об этом, опять-таки, ведает Аллах!
Спрашивали меня затем твои помощники и сотрудники о наших славных мужах, прославившихся деяниями и после себя великую память в народе оставивших. И вновь – когда они жили и где умерли, и так далее по-обычному, чередой. Ну ладно, попытаюсь и об этом кое-что сказать, что знаю.
Жили у нас в давние времена три родных брата, три знаменитых мудреца, три князя премудрости. Должно быть, именно они и заложили основы муйрук-буйрука. Книг они не писали, а изустно народ просвещали и учили мудрости. Звали их Айшам, Майшам и Байшам. А учили они примерно так: «Всякое происходит, но ничего не случается», «Зимою зима, а летом лето», «Всегда как-то было и всегда как-то будет; а по-иному никогда не было, да и никогда не будет; поэтому не надейся ни на что другое или на лучшее, чем это; не бойся, никогда не будет ни больше, ни меньше нынешнего», «Всегда солнце утром всходило, а вечером заходило. Поэтому понапрасну не спрашивай, как было или как будет. Ветер всегда был ветром, а песок всегда оставался песком. И ветер без устали играл песком, однако ни ветер весь песок не перевернул, ни песок ветер не утомил. И это называют свасна, и это называют истиной». Вот так примерно в главных своих ростках гласила наука Айшам-Майшам-Байшама. «Что ж это за «наука», что ж это за «истина», черт возьми! – воскликнул этот твой юркий сотрудник едва ли не с яростью. – Да это ж вовсе и не «наука», это просто-напросто тавтология, и ничего больше!» А я ему мягко отвечал: «Брат мой юный и зеленый мой господин, я тебе не смогу сказать, есть ли эта, как ты говоришь, тавтология или нет. Нам «тавтология» вовсе неизвестна, ничуть не менее, чем «история». Я знаю лишь, что три родных брата, три князя мудрости, Айшам, Майшам и Байшам, так учили. И что многие люди науку их поняли и приняли как подлинную, сердцем ее почувствовали и разумом постигли, и из благодарности ее «наставницей жизни» назвали. А есть ли это их поучение «тавтология», или же «тавтология» есть эта ваша «история», и эти ваши «конкретные факты», и эти ваши «реальные обстоятельства» – сие, я тебе в третий раз говорю, один Аллах ведает!» Вот так ответствовал я сотруднику твоему зеленому.
А теперь, дорогой брат и высокочтимый господин, познаватель школ великих и наук мудрейших, прими привет от меня, Салеба Хакима Шешама, муфтия Момкир-Ахиба, и глубокое мое почтение. Желаю вскоре видеть тебя милым гостем в стране нашей. Мои люди встретят тебя на рубеже пустыни и с честью ко мне проводят. Только приезжай, дорогой друг! Поджидают тебя мягкие подушки в садах моих и беседках, и в нетерпении уже перебирают копытами мои мулы и верблюды, украшенные серебряными бубенцами и разноцветными шелковыми кистями, и животные эти пронесут тебя по путям твоим, когда лишь пожелает твое милое сердце, вдоль и поперек по земле Айшама, Майшама и Байшама. Селам!»
1955
Перевод А. Романенко.
СВЯТОЧНЫЙ РАССКАЗ
Уже явственно пахло войной. Люди прониклись молчаливой тревогой, трезвой опасливой обеспокоенностью, пробиравшей до костей, подобно ознобу в сумерки. Замкнулись в себе, стремясь делать вид, будто не замечают очевидного, предпочитая ни во что не вмешиваться и помышляя лишь о работе. Даже недавние крикуны решили, что так будет лучше. Каждый раздумывал, как бы ему спасти шкуру, и выискивал свой верный способ избавления, словно эти ухищрения могли обеспечить благополучный исход дела, который стал бы наградой за изобретательность. Многие в строжайшей тайне возводили какие-то укрытия, где намеревались отсидеться, «пока гром не отгремит» (без сомнения, все отгремит скоро, и главное – пережить первый удар). Люди побогаче выстроили себе «стопроцентно надежные» убежища, провели туда свет от аккумуляторов, безотказных даже в случае бомбардировок авиации, запаслись мясными консервами, которые могли бы удовлетворить притязательный вкус любого гурмана – туриста, обеспечили себе и прочие удобства; в такие убежища звуки разрывов должны были доноситься бархатисто-приглушенными. Некоторые соорудили жилища в местах отдаленных, на берегу моря и готовились провести там несколько недель на манер робинзонов, коротая время за партиями преферанса и обильными рыбными трапезами, приготовленными по-простому, как у рыбаков. В этой ситуации даже серьезные деловые люди были нарочито веселы, словно школьники, узнавшие об отмене занятий из-за эпидемии скарлатины; было в их поведении что-то по-детски беспечное.
Начали пополнять войсковые части, формировать новые и прочее в том же роде – иными словами, проводить «тайную мобилизацию», так это называлось. Мужчины, причем очень многие, получали повестки на военные сборы и для регистрации на случай войны. По лицу человека можно было определить, что утром ему преподнесли сюрприз, которого он ожидал столько времени. Мне пришло предписание явиться в какой-то «рабочий батальон» в Северной Далмации. Я побросал в чемоданчик самые необходимые вещи, пачку писчей бумаги, две или три книги, распрощался со знакомыми и поехал.
Штаб батальона размещался в заброшенном полуразвалившемся доме священника в селе Пужаны, на склоне одного из голых отрогов Велебита, которые тянулись от главного хребта к морю, снижаясь и постепенно переходя в Которскую равнину. Вокруг поповского дома было разбросано с десяток крестьянских дворов. На взгорке, открытая всем ветрам, особняком стояла недостроенная школа, крытая, однако не оштукатуренная, без дверей и окон; среди серого пространства она выглядела несуразной, лишней, будто оказавшейся тут игрой случая.
Все в этих местах казалось чрезмерно обширным, пространным и запустелым. Церковь, тоже обветшавшая, обшарпанная, находилась в противоположном конце села, в двух-трех километрах от поповского дома, там, где начиналась Которская равнина. Под штаб батальона выбрали заброшенный поповский дом, очевидно, показалось, что в доме сохранились остатки тепла, а в школе поселились двое молодых унтер-офицеров и несколько солдат, пока холод не выжил их оттуда; остальной личный состав разместился в крестьянских домах и сараях, кто как сумел.
Я прикатил в своей машине, не без боязни, что мне поставят в вину этот «господский» поступок. У меня был старый «форд», расхлябанный и побитый, сменивший уже пять или шесть владельцев. На его выпуклом багажнике городская ребятня выводила пальцами «Микки-Маус» или «Пайя Патак». Я не слишком следил за внешним видом автомобиля, никак не маскировал его «возраст», наверно, была в этом и какая-то бравада. Вообще-то машина служила мне отлично, для нее не существовало непроезжих дорог и непреодолимых подъемов, она безотказно таскалась по колдобинам и вообще по бездорожью. Поскольку у нее не работали замки капота, обе створки его при тряске подскакивали вроде крыльев чайки, и эти короткие взмахи как бы выдавали намерение машины взлететь. За эти особенности друзья прозвали ее «ни колдобины, ни лужи», или, сокращенно, «николдоб». Под этим именем она стала известна даже за рубежом; на одном конгрессе я подвозил зарубежных коллег-журналистов, и они не преминули вспомнить о моем авто в открытке, которой выразили свою благодарность за содействие и воздали должное «à ce vieux gaillard»[45]. Опасения мои улетучились, когда я узнал, что на предыдущие сборы один инженер приехал в машине куда элегантнее моей и никто ему не высказал никаких претензий, более того, командиры часто и охотно пользовались автомобилем для служебных поездок. Я поставил машину на то же место, где, как говорили, раньше пребывала машина инженера, – под шелковицей перед крестьянским двором, – закрыл двери на ключ, положил его в карман и направился в штаб.
Штаб состоял из штабс-капитана Драгослава Зарича, еще одного офицера, командира взвода, у которого хватило сообразительности вырваться из этой дыры и устроиться на курсы, где обучали защите от боевых отравляющих веществ, а также Вуядина, несуразно высокого, угловатого младшего-унтер-офицера с длиннющими курчавыми волосами, которые он весь день без устали боронил частым гребнем, и если вдруг борона застревала, на его лице появлялось страдальческое выражение. Человек примитивный, к тому же неврастеник, он был одержим стремлением всюду навести порядок, и неврастения доводила его одержимость до крайней степени. Во время коротких передышек, когда усталость убеждала, что он достиг совершенства в разлиновывании бумаги и выравнивании покрывал на столе и на железной кровати, оставалось только потуже перетянуть обмотками худые голени от огромных башмаков до коленей, а когда и это обретало безукоризненный вид, он, удовлетворенный, ложился поперек постели (шевелюра его на фоне стены напоминала распушенный павлиний хвост), звал солдата и посылал за литровой бутылкой вина, потом брал в руки гусли, наигрывал и пел, пел, прерываясь лишь для того, чтобы прокашляться и сплюнуть куда попало на эти декорации мучительно созданного порядка и размазать плевок ногой.
Капитан Зарич был замкнутым, жестким, повидавшим всякое фронтовиком, который заработал свой офицерский чин, пройдя две войны. По штабу он разгуливал в джемпере, с трубкой в зубах, что дополняло его образ, придавая его строгости какой-то спортивный и флегматичный вид.
– Куда тебя девать? – обратился он ко мне, с удивлением взирая на мою одежду: достаточно поношенное клетчатое пальто и линялые фланелевые брюки. Я скромно пожал плечами.
– Какой у тебя чин?
– Я рядовой, господин капитан.
– Кто по профессии?
– Журналист, господин капитан.
– Гм, журналист. Ну и что ты умеешь делать?
Я опять пожал плечами.
– Коли журналист, значит, грамотный.
Я не сказал, что одно не обязательно является следствием другого, и опять пожал плечами.
– Ну хорошо, оставайся тут, в штабе, все равно у нас нет писаря.
На следующий день младший унтер-офицер Вуядин обрел в моем лице верного помощника в графлении бумаги. Мы расчерчивали листы от зари до зари, неутомимо, беспощадно, со спартанской выносливостью. С моим приходом унтер словно ожил. Иногда после нескольких часов сравнительно немногословной работы он прерывался, вставал и, расставив ноги, потягивался так, что трещали суставы, при этом еще всласть крякал, будто хотел обхватить руками весь мир. Потребность физического напряжения изменяла ход его мысли, порой в самом неожиданном направлении. Ему приходило в голову, например, следующее:
– Как ты думаешь, может, нам передислоцировать канцелярию в заднюю комнату?
– Ну-у-у… Не знаю… – блеяла за меня консервативная лень. Кроме того, задняя комната, насколько я мог судить, не давала нам никаких преимуществ по сравнению с той, где мы располагались. – Она захламлена, там стены грязные, – находил я удачные контрдоводы.
– Ничего страшного, побелим. Известка есть, возьмем двух солдат – и будет порядок.
– …да и стекло там разбито, – добавлял я.
– Об этом не беспокойся, вставим картон – и будет – о-го-го! Как игрушка!
Он брал рулетку и уходил в заднюю комнату измерять ее. Я ждал с опаской. Возвращался он хмурый.
– Черт побери, слишком мала, не поместятся столы, кровать и шкаф!
Мрачный садился на кровать. У меня было такое ощущение, словно и я повинен в том, что задняя комната убоялась сомнений и уменьшилась в объеме. Я равнодушно поглядывал в окно. Вуядин вскакивал, хватал рулетку и опять уходил измерять комнату, не иначе, что-то новое пришло ему в голову. Возвращался бодрым шагом, сияющий.
– Порядок! Все уместится, только, когда будем открывать шкаф, придется отодвигать стул. Но ведь шкафу и положено стоять закрытым. – И сразу же за дело, к окну: – Эй вы, двое, топайте сюда, да побыстрей!..
Грохот башмаков по лестнице, бренчание ведер. Разводят известь, белят комнату, прибивают жесть или картон к оконной раме. В чистую, еще сырую комнату переносят жестяную печку, громоздят столы, шкаф, кровать, набивают дровами и неимоверно накаляют печь, чтобы поскорее просохли стены. Все недоделки драпируются прямо-таки с непозволительной роскошью новыми одеялами со склада. Ими покрывают столы, наполовину занавешивают, чтобы не дуло, окно, над дверью вешают нечто напоминающее шторы, на дыры в полу одеяла набрасываются вместо ковров. А несколько раз сложенное одеяло превращает солдатский стул в удобное кресло.
Или вдруг ни с того ни с сего ему приходит в голову:
– Ей-богу, лампа что-то мигает и коптит, черт бы ее побрал! Наверняка засорилась, мигает, ведь правда?
Я вроде бы теряюсь:
– Как она может коптить, если вообще не горит!
– Ну и мудрец! Ну, писатель! Я и сам вижу, что сейчас она не коптит, не слепой! Но когда ее зажигают, коптит.
И принимается разбирать лампу, протирает зеркальце отражателя, все части промывает или старательно смачивает в керосине, потом с удовольствием разглядывает дело рук своих.
– Взгляни-ка теперь! Как солнце, верно?!
Двое младших унтер-офицеров водили солдат на работы. Копали глубокий и широкий ров, вроде для того, чтобы не прошли танки; рыли под наблюдением капитана и на его ответственность, согласно чертежам, которые он хранил у себя и над которыми частенько ломал голову. Ров извивался, то ли потому, что так было предусмотрено в чертежах, то ли по иной причине – этого нам не дано было знать, – в одном месте он сужался, в другом расширялся, как удав, когда сквозь его тело проходит пища, глубина тоже была разная. Поуже и мельче ров был там, где натыкались на скалу, и, наоборот, в мягкой почве все с лихвой восполнялось – копали глубже и шире предусмотренного. Спрятавшись от ветра в глубокой части рва, солдаты отдыхали, опираясь на лопаты, поглядывали вокруг и говорили с усмешкой – наверно, про танки: «Если здесь пойдут, хана им, это уж как пить дать!»








![Книга Обмен мнениями [=Симпозиум] автора Милан Кундера](http://itexts.net/files/books/110/no-cover.jpg)