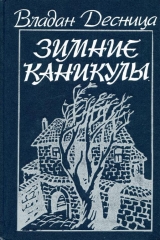
Текст книги "Зимние каникулы"
Автор книги: Владан Десница
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 28 страниц)
Он направился за город, в поля. Его терзала мысль, что позволил себя облапошить. «В бутыли четыре с половиной литра, не меньше, – подсчитывал он, – а в обеих бутылках и двух не наберется. Да еще бутыль досталась ему!»
Он прошагал ровно час. В ближнем селе ударил колокол, напомнив ему о службе божьей. Он заспешил назад и поспел на мессу как раз вовремя. После долгого перерыва в церкви снова гудел отремонтированный орган; за ним сидел старый, полуслепой плотник Меме Гамбароша. Господин Миче предался благостной молитве. На душу его стал нисходить покой. Мысли потекли утешительным током, восстанавливая душевное равновесие. Сперва он подумал о том, что масло ему налито сверху, совсем чистое, а Юрице досталось пусть с небольшим, а все же с осадком. Это незначительное и пусть весьма спорное преимущество развеяло его грусть. А что до бутыли, так ведь это скорее обуза, нежели прибыток – от такого свидетеля лучше отделаться, выбросить его на помойку. И если Юрице досталось чуть больше масла (больше, чем надо по совести и справедливости) – что ж, пускай ест, пускай подавится (жадность к добру не ведет!); сам он держится правила – лучше меньше, да с чистой совестью, по крайней мере никто не позавидует, никто не проклянет. А господь все видит!
Пробиваясь сквозь витражи, в ноги ему падал разноцветный сноп солнечных лучей; жмурясь от яркого света, Миче словно осязаемо вдыхал исходящее от него тепло.
– А мне достались две его бутылки! – возликовал вдруг он. – И не ворованные, как его бутыль. Честные. Он мне их сам дал!
Маленькая радость, зато чистая. Нечаянную прибыль послало ему небо в награду за его христианские мысли, в воздаяние за смиренное приятие несправедливости, словно милость божью, которая нас поддерживает и укрепляет.
Забренчал колокольчик. Он наклонился и, зарывшись лицом в яркий сноп лучей, перекрестился. По спине разливалось тепло, словно на нее снизошла благодать господня.
1950
Перевод И. Макаровской.
ФЛОРЬЯНОВИЧ
Сухопарый господин дремал в полумраке пустого купе и проснулся, только когда металлический стук колес изменил ритм. Он открыл глаза и обнаружил, что поезд подошел к станции. За окном тянулись приземистые станционные постройки; широкие окна, обрамленные красным кирпичом, проплывая мимо вагона, растягивались, словно в гаденькой улыбке или в зевке. Косые, мятущиеся полосы далекого зеленоватого света высоких фонарей торопливо пересекали пол купе, ломались в углу и, карабкаясь по ногам и телу, точно незримые прутья, хлестали его по груди и заспанным глазам. Поезд остановился. Вылез проводник с фонариком в руке и громко объявил о прибытии.
Господин взял лежавший подле него на скамье портфель, не спеша сложил и сунул в карман газету и встал у окна, ожидая, когда выйдут пассажиры. Взгляд его был обращен к городу, раскинувшемуся у подножия холма, на котором возвышалась старая крепость; здесь двадцать пять лет назад начал он свою службу. В гавани дымили два-три маленьких пароходика, а дальше, в открытом море, там, где зашло солнце, еще догорал закат. Пассажиры обходили клумбы с ирисом, окаймленные свежевыкрашенным бордюром, и исчезали в станционном здании. Он подождал, пока попутчики, видно, возвращавшиеся с работы мастеровые, вынесли из вагона свои нескладные чемоданы с инструментами, и вышел на перрон чуть ли не последним.
Он прошел через зал ожидания третьего класса, через который пропускали всех пассажиров. Солдаты, направлявшиеся к месту назначения, расстегнув рубахи и выпростав из башмаков натруженные ноги, устроились на своих ранцах или брошенных на пол шинелях; в ожидании ночных товарных составов они ублажали свои желудки холодными мясными консервами. Крестьянки, повязанные черными платками, с больными младенцами на руках, сидели, притихшие, на скамейках и узлах. В помещении царил дух терпения и кислятины, похожий на запах блевотины с примесью серы, исходящий от плохого домашнего угля.
Зато на улице на него дохнуло ароматом весенних сумерек. Только что зажглись уличные фонари, они отбрасывали небольшие круги жиденького в сером сумраке света. От штабелей еловых досок возле станции шел, сливаясь с теплым вечером, разбуженный весной запах леса.
Город начинался не сразу от станции. По пути ему встречались крестьяне – они шли с поля, погоняя скотину, нагруженную сухой лозой и синими лейками для поливки виноградников. Возле оград и лавчонок сидели сгорбленные старики в жилетах, они обменивались с припозднившимися виноградарями приветствием и ленивым словцом. Сухопарый господин остановился перед большим массивным зданием суда, какие по всему Приморью понастроила Австрия. Возвышаясь над провинциальной округой, оно как бы отстранялось от нее. К его ограде из тесаного камня, с большими каменными шарами по углам, примыкали полуразрушенные низенькие неоштукатуренные ограды. У табачной лавки напротив здания суда сидели женщины; к ним жались разморенные весенним вечером полусонные дети: волоча по пыли ноги и положив отяжелевшие головенки на колени матерям, они время от времени прерывали их болтовню своим бесполезным хныканьем. На близкой станции, пыхтя и отдуваясь, словно разъяренные привидения, маневрировали паровозы: раздавался протяжный и печальный писк, и снова шумное движение машины.
Приезжий стоял, задумчиво глядя на здание суда. Одно окно на фасаде было освещено. Кто может быть в этот час в канцелярии? Вдруг его кольнуло предчувствие, он решился и зашагал к дому.
Тренькнул звонок, когда он отворил дверь и вошел в вестибюль. Откуда-то сбоку послышался ворчливый мужской голос, и появился привратник в расстегнутой рубашке, он что-то дожевывал. Из глубины помещения ударил запах вареных овощей и постного масла: там у маленькой плиты стояла женщина и деревянной ложкой помешивала на сковороде что-то скворчащее. За столом посреди кухни учили уроки лохматый мальчик и девочка в очках, с завязанной полотенцем щекой (видно, болели зубы). Все трое уставились на посетителя в полумраке вестибюля.
– Здравствуйте, Шарич!.. – сказал он привратнику.
– О-о, так это вы, господин советник!.. – обрадовался тот бывшему начальнику и торопливо вытер рот. – Вот не ждали!.. Марица, пришел господин советник Раше…
Женщина отставила сковороду с ложкой, вытерла руки о фартук и поспешила навстречу гостю. Она сердечно пожала его высохшую руку. Дети по-прежнему таращились на него с любопытством.
– Кто в такую пору там, наверху? – спросил Раше, положив конец восторгам встречи.
– Господин советник Флорьянович, он частенько приходит вечером…
– Вот как?..
Выходит, предчувствие его не обмануло.
– Не желаете ли подняться к нему?.. Ежели желаете, я вас провожу…
– Спасибо, не надо, я сам. Он в какой комнате?
– В сорок седьмой, на третьем этаже.
Раше стал не спеша подниматься по каменным ступеням. Звонкое эхо шагов разносилось по пустой лестнице. Ему показалось, что наверху тихо притворили дверь. Приглядываясь к номерам над дверьми, он наконец оказался перед той, которую искал. Постучал. Никто не ответил. Он немного подождал и постучал снова. Опять тишина. Он легонько надавил на ручку. Дверь была заперта. У него было такое ощущение, что за дверью, отделенный от него этой тоненькой деревянной перегородкой, затаив дыхание и дрожа всем телом, стоит человек.
«Значит, мы здесь!..» – сказал он про себя, повернулся и спустился к привратнику.
– Он куда-то вышел, сходите поищите его.
Раше слышал шаги привратника на лестнице и в коридоре, слышал короткий разговор на третьем этаже. Когда он снова поднялся наверх, оба стояли перед комнатой Флорьяновича.
– Пожалуйста, пожалуйста, проходите!.. – пригласил Флорьянович, здороваясь с ним за руку. – Я ненадолго выходил, вот мы и разминулись… Проходите, пожалуйста!..
Лицо его показалось Раше одутловатым и усталым; под глазами набухли темные мешки. Он знал его еще с университета, хотя встречались они редко. Пути их не соединялись и не скрещивались. Целсо Флорьянович был несколькими годами старше его, любил острые ощущения, не чуждался авантюр и развлечений, посещал шикарные рестораны и водил дружбу с богачами; он же питался в столовых и харчевнях, после скудного ужина одиноко бродил по городу в своей черной хламиде, которую ему мать купила «по случаю», когда наследники какого-то каноника распродавали по дешевке ненужные им вещи. Проходя мимо дорогих кафе, он поднимался на цыпочки, чтобы бросить завистливый взгляд через занавеску в сверкающие душные залы. Потом, будучи чиновником, он издали следил за карьерой Флорьяновича, которая казалась ему более завидной, чем его собственная, и незаслуженно удачной. И лишь недавно, когда стал советником апелляционного суда (Флорьянович по-прежнему сидел в окружном), он вдруг почувствовал какое-то запоздалое и – в его-то годы – пресноватое удовлетворение, не приносившее теперь особой радости. Даже сейчас, несмотря на страдальческий вид, Флорьянович казался ему не по годам молодым и хорошо сохранившимся; лицо гладко выбрито, а непокорная прядь, как и прежде, придавала ему молодецкий шик. А он был в заношенном костюме, рукава обтрепались и лоснились на локтях, да еще никак не удавалось привести в порядок три щербатых зуба, из-за чего он шепелявил.
Флорьянович сел за письменный стол, предложив ему кресло напротив.
– В последнее время к нам поступило много жалоб на работу вашего отдела… – неуверенно начал Раше, – жалобы на некоторые погрешности… Меня послали проверить… – говоря это, он достал из бумажника предписание и положил на стол перед Флорьяновичем; но тот даже не взглянул. – Так вот, идя со станции, я заметил свет в вашем кабинете и подумал: не лучше ли сегодня вечером, в спокойной обстановке, нежели завтра, в присутственное время….
– Ради бога, мне все равно, как вы сочтете нужным… – довольно спокойно ответил Флорьянович.
– Начнем с реестров?
Флорьянович достал из ящика стола реестры и стопкой сложил их перед инспектором. Протирая носовым платком очки, Раше спросил:
– Может быть, вы хотите о чем-нибудь меня уведомить заранее?
– Нет, ни о чем. Пожалуйста, проверяйте.
– Хорошо. В таком случае я вас выслушаю потом.
Раше надел очки и открыл реестр.
На дворе почти стемнело. Вдали с высоты третьего этажа виднелась над волнорезом полоса света на горизонте. Мимо открытого окна, сверкая, точно перламутровые стрелы, стремглав пролетали юркие ласточки и с оживленным предвечерним щебетом исчезали в гнездах за оконным наличником.
На столе горела лампа, затененная зеленым абажуром. Раше, склоненный над реестрами, находился в освещенном круге, за пределами которого царил мягкий полумрак. Флорьянович сидел в своем кресле – заложив ногу на ногу и чуть отстранившись от стола – вне круга света и как бы в стороне от происходящего. Неслышно постукивая пальцами по ручке кресла, он неотрывно смотрел в окно, в сгущавшуюся темноту.
Стало быть, свершилось! Когда прошла растерянность, он вдруг ясно понял, что уже давно готовился к этой минуте, давно неосознанно ждал этого человека. День за днем сидел он в комнате, сам не зная зачем, долгие безмолвные вечера проводил он здесь, засиживаясь до позднего вечера, в сущности, в ожидании того, что произошло. Он почувствовал, что давным-давно внутренне пережил всю эту мучительную сцену, с начала до конца, с мельчайшими подробностями, что с незапамятных времен исподволь, маленькими глотками отхлебывал из той чаши, которую ему теперь предстояло испить до дна, до последней капли. Он не мог отделаться от ощущения, что присутствует на собственной панихиде – его ничего не удивляло и не волновало. И потому он был спокоен. Его удел терпеливо и покорно ждать неспешных открытий инспектора, открытий, которые он не только предугадывал, но и знал наперечет, пункт за пунктом, и в хронологическом порядке, и по степени важности. Итак, когда прошел момент растерянности, он впал в прострацию, и какая-то неодолимая дистанция отделила его от того, что здесь происходит.
Уже в двадцать лет, студентом университета, Флорьянович был убежден, что не для него заурядная жизнь, лишенная красоты и «высоких устремлений», какую вели большинство окружавших его людей. Как и в чем должен был воплотиться его идеал жизни, он толком не знал, но чувствовал, что просто не вынесет жалкого, убогого и тусклого прозябания. Его не покидала уверенность, что если он в силу обстоятельств будет поставлен в эту «обычную» колею, то, не жалея сил, любой ценой из нее выберется. Он твердо верил, что добьется своего, что жизнь его будет озарена радостью, исполнена удовлетворением нескончаемой вереницы тех подчас скромных и невинных желаний, которые непрестанно возникают в душе, она будет вечной погоней за удовольствиями. Жизнь без наслаждений казалась ему бессмысленной, пустой и ненужной. Личное счастье было для него смыслом существования, богом, которому он поклонялся. В нем он видел красоту жизни и служение красоте. Весенними вечерами, торопясь окунуться в ритм шумной и освещенной части города, обуреваемый сотней неясных желаний, словно зачарованный, шагал он по каштановой аллее, в плаще нараспашку и со шляпой в руке, навстречу вечернему ветру, обдувавшему веки и остужавшему лоб. Его смятенность, сродни чутью, не давала ему покоя, заставляя за каждым углом ждать встречи с неожиданным, а на каждом пороге счастья. Он ни на минуту не сомневался в том, что с ним непременно произойдет чудо, какое и представить-то невозможно, – оно до основания перевернет его жизнь, сделав ее сказочно красивой и безоблачной. Ему казалось естественным, что в один прекрасный день он вдруг наступит на улице на полный кошелек, и это раз и навсегда решит все его жизненные проблемы, или припадет к груди Волшебницы, которая только того и ждет…
Молодой человек с красивым, открытым и исполненным обаяния лицом, светившимся неукротимым стремлением к радости, он в любом обществе был желанным гостем, везде ему оказывали радушный и сердечный прием. Легкость в общении с людьми приносила ему всеобщие симпатии и открывала перед ним даже такие двери, которые для других студентов оставались наглухо закрытыми. Ему прощали скромное происхождение, потому что в затхлые и мрачные гостиные он вносил струю светлого настроения и своим безудержным жизнелюбием буквально выдворял из них неврастеническую скуку. Со старыми дамами он играл в пикет с улыбкой на лице, а страдающих ломотой в костях «дядюшек» смешил забавным анекдотом. Ловкий, находчивый, предупредительный, сын служителя гимназии из маленького приморского городка, он сумел стать приятнейшим гостем многих аристократических салонов, где без него уже не могли обойтись. Его наперебой приглашали на рауты, балы, охоту. Свою роль сыграло невероятное везение в картах. Он постепенно обзавелся платьем, столь необходимым для светского образа жизни. Подолгу мог гостить в поместьях своих новых друзей. Денежные дела его мало-помалу изменились настолько, что он уже не зависел от скудного содержания, высылаемого ему ежемесячно отцом. Однако, несмотря на свой успех в обществе, он не запускал ученье и сдавал экзамены с небольшим опозданием. И что самое поразительное, его светская жизнь не отвратила от него друзей-земляков, ибо со всеми он был неизменно приветлив, не помнил обид, держался просто и скромно и охотно приходил на помощь каждому, если только это не шло в ущерб его собственным удовольствиям.
Целсо Флорьянович познакомился с дочерью бывшего приморца, который в свое время переселился в Чили, там разбогател на селитре и женился на креолке. Долорес, избалованная дочка переселенца и креолки, с милыми странностями и по-своему сентиментальная, хрупкого сложения, с оливковым лицом и осиной талией, приехала в Европу изучать историю искусства. Владелец селитровых рудников, как говорится, «не жалел денег на воспитание своего ребенка». Помимо экзотической внешности и причудливой смеси двух языков, Долорес привезла с собой два сундука туалетов и шалей, какие якобы носят женщины у нее на родине; в них она танцевала cuecu и cucarachu[30] перед собиравшейся у нее богемно-студенческой компанией, после чего всю веселую братию потчевала mate[31] в расписных грушеобразных тыквах, который тянули через bombille[32].
Раше помнил Долорес в годы своего в общем-то ничем не примечательного студенчества. Он издали смотрел, как она, высоко вскинув голову, проходила под руку с Целсо, и, может быть, бродя тихими улочками в своем балахоне с плеча каноника и грызя каштаны, втайне по ней вздыхал. Флорьянович женился еще студентом и закончил юридический факультет с опозданием в несколько лет. Жили они в той самой живописной мансарде, где висели копья и украшенные разноцветными птичьими перьями рубахи туземцев, в которых она некогда танцевала для него cucarachu. Угрюмый владелец селитровых рудников поначалу противился, не давая согласия на брак, но потом примирился и стал регулярно высылать им суммы, вполне достаточные, чтобы прожить. Закончив университет, Флорьянович вернулся в Далмацию, где в одном приморском городке несколько лет практиковал, неизменно пользуясь щедрой поддержкой старика, а затем получил свое первое место в уездном суде в Ралевацах.
Но и тогда все шло гладко. Целсо по-прежнему преодолевал трудности с невероятной легкостью. Заботы, словно напуганные птичьи стаи, разлетались от небрежного взмаха его руки с крупным топазом на пальце. За Ралевацами последовало еще несколько провинциальных городов. Но, куда бы ни заносила его судьба, он везде умел обставить жизнь со вкусом, со множеством цветов, с какаду в клетках в виде пагоды, с полками, уставленными кактусами, и с занимавшими полкомнаты большими фикусами. Он организовывал пикники, дирижировал кадрилями, устраивал концерты, где старые девы бренчали на рояле и молодые учителя, не совсем забывшие, чему их учили в учительской семинарии, пиликали на скрипках. Словно вихрь, разгонял он сонливость, пробуждая провинциальное чиновничье общество к интересной, достойной жизни, вводил приемы, увеселения, танцы. Среди зимы, в самом сердце Загорья, в каких-то там Ралевацах или Брекановаце, умел он превратить вульгарнейшую общинную управу в красивый танцевальный зал, где словно бы ощущалось дыхание весны – так искусно он был украшен веточками цветущего миндаля, которые несколько дней допоздна мастерил вместе с Долорес и каким-то тщеславным молодым служащим налогового управления или парикмахером-мандолинистом, приклеивая к веткам диких вишен или груш бумажные лепестки. В Ралевацах до сих пор помнят один из устроенных Флорьяновичем «Fête des fleurs en hiver»[33].
На третий год службы в Ралевацах у них родилась крошка Зое. Роды были трудные: Долорес из-за узкого таза три дня промучилась. В последнюю минуту, после тревожных телеграмм, суматохи, ночной гонки в автомобиле, ее доставили в город, где она наконец благополучно разрешилась от бремени.
Жизнь на одном месте надоедала Флорьяновичу, и он употреблял все силы, чтобы вырваться из наскучившего ему города. И Целсо, и Долорес со своей стороны буквально засыпали отчаянными письмами влиятельных знакомых, жалуясь на «совершенно невыносимую» жизнь в такой дыре, и дело, как правило, кончалось счастливо: он получал перевод. И все начиналось сначала: концерты, пикники, танцевальные вечера с котильоном, костюмированные балы и новые разочарования, томительная скука, жалобы, письма и телеграммы – и новый перевод. Каждое лето совершали они поездки по Италии, чтоб увидеть настоящую жизнь и набраться впечатлений и воспоминаний на весь предстоящий год в Ралевацах или Дуброваце. Один день из первого путешествия, еще до рождения Зое, запомнился ему навсегда. В маленьком итальянском городке, усталые от хождений и осмотров, сидели они с Долорес в гостинице на какой-то пьяцце и писали знакомым трогательные открытки. Перед ними величественно возвышался собор в притушенных коричневых тонах, площадь была залита солнцем, и глаза невольно щурились от яркого света. В тени, под слегка колышущимся полотняным тентом, они, словно жучки или ящерицы, естественно и бездумно наслаждались теплом ясного дня. На столе – небольшой кувшин белого вина, легкого, но коварного, жаркое и еще влажный салат с пучком красной редиски. Посреди площади восьмиугольная чесма, почерневшая от воды и обросшая бархатистым мхом, выбрасывала серебристую струю в простершееся надо всем светло-голубое небо – ни облачка, ни птицы, такое бескрайнее и светлое, что казалось, оно никогда не темнеет. Разморенные усталостью, солнцем и вином, они долгими, неспешными глотками пили тот короткий миг, который по какому-то волшебству вдруг остановился. Внезапно Долорес преобразилась, лицо ее просияло: она была беременна и в эту самую минуту впервые почувствовала, как ребенок шевельнулся в ее чреве. Потом Флорьянович довольно часто возвращался мысленно к тому дню; та минута навсегда осталась для него предвестием счастья, видением края, где царит блаженство и где солнце никогда не сходит с неба.
Через пятнадцать лет, проведенных в провинции, Флорьянович был направлен в город, в окружной суд. Дон Педро все еще регулярно посылал им денежные переводы. Они со вкусом обставили квартиру, завели свое постоянное общество, в которое входили морской офицер средних лет и зубной врач с женой-немкой, русская эмигрантка, пожилая барышня с двойной фамилией, дававшая уроки иностранных языков, художник, рисовавший Зое, когда ей было три года, и с которым велись переговоры о новом портрете в бальном платье, учительница музыки, получившая образование в Праге, и, наконец, один иностранный консул, холостяк. Так прошло пять-шесть лет, не замутненных многосложными заботами. В первый четверг каждого месяца они устраивали журфиксы, а субботние вечера вся компания проводила во «Французском клубе», где Флорьянович был одним из основателей и членом суда чести. Зое постоянно брала книги в библиотеке Клуба; по окончании гимназии она собиралась поступить в университет на отделение французского языка и литературы; Флорьяновичу не раз говорили как о деле, уже решенном (хотя сам он об этом никогда речи на заводил), что она получит стипендию французского правительства. Кроме того, Зое училась играть на фортепиано и посещала школу ритмической гимнастики. На одном из вечеров в Клубе Зое играла в скетче Анри Лаведана. Партнером ее был молодой инженер Андре, недавно приехавший в качестве служащего компании «Bauxites réunies» и назначенный техническим директором небольшого бокситного рудника в Драчеваце. Тоненькая и смуглая, вся в мать, она только что распустилась. Правда, личико у нее было совсем детским, а вокруг еще не сформировавшихся губ, беспокойных и изменчивых, словно дрожащая на ветру роза, играла трепетная улыбка. Лоб обрамляли зачесанные кверху волосы, все в мелких кудряшках – ну как есть барашковая шапка. (Эти непокорные волосы она унаследовала от отца, и Флорьянович не без тайной гордости любовался ею на танцевальных вечерах, когда она пудрила вспотевший носик, а кавалер шептал ей комплименты.) С тех пор как она выросла, Целсо и Долорес словно бы расширили свой маленький круг, обретя в ней наперсницу. Они сходились решительно во всем: во вкусах, склонностях, желаниях; называли себя «наше трио», говорили друг другу ласковые слова и придумывали милые прозвища. В семье неукоснительно отмечались все дни рождений и именин. Тогда двое удивляли третьего приятными сюрпризами и подарками. «Мы еще молоды, а у нас уже взрослая дочь. Разве это не прекрасно?» – говорила Долорес мужу, держа его за руки и все еще влюбленно глядя ему в глаза. Она появилась на пороге их счастья, когда им вовсю светило солнце, и вот теперь они втроем славили жизнь, озаренную радостью и счастьем. О крошка Зое! Она была величайшей радостью, сладчайшим восторгом в его жизни! Все в ней было удивительно и бесподобно! Ради нее он готов был на любые трудности, на любые расходы – она того стоила! Никакая обязанность не была ему в тягость, любая жертва доставляла удовольствие. Да и какая это жертва, если даешь цветку те две-три капли росы, которые так нужны ему, чтобы расцвести еще пышнее, до конца раскрыть свою чарующую прелесть? Разве не грешно лишать его самого необходимого? И разве, наконец, не долг отца дать ребенку радость, удовольствие, счастье? Разве мог он экономить, торгуясь с самим собой из-за ее маленьких прихотей, из-за туалетов, которых ей так хотелось! Экономить на крошке Зое, которая даже в самой скромной оправе засверкает ярче всякой другой!.. В понятие счастья теперь входило и чувство долга к своему ребенку.
Тем временем из Чили стали доходить тревожные вести. Сначала косвенные, потому что старик писал редко. Флорьяновичи поняли, что дела его пошли под уклон, а он не сумел сохранить достаточно хладнокровия и самообладания, чтоб в своем падении за что-нибудь уцепиться и спасти то, что еще можно спасти. Импульсивный и необузданный, он повел крупную игру, ввязался в какие-то безнадежные спекуляции, разорившие его дотла. Поговаривали, будто он угодил в сети шайки ловких мошенников, которые обвели его вокруг пальца и дочиста обобрали. Тут его настигла и смерть жены. Долорес, хотя и понимала, что все ни к чему, рискнула написать старику. В своем письме она советовала даже на самых невыгодных условиях реализовать остатки имущества и приехать к ним – вырученных денег ему с лихвой хватит на спокойную и беззаботную старость в родном Приморье, откуда он уехал восемнадцатилетним юнцом. Но старик обиделся и разозлился. Свалившиеся беды до крайности обострили его самолюбие и присущую ему раздражительность; теперь его задевала и малейшая тень сомнения или недоверия к новым сумасбродным планам и затеям. «Знаете, – раздражался он в ответ, – я за свою жизнь трижды разорялся в пух, последнюю рубашку снимал, и всякий раз сам, без посторонней помощи вновь вставал на ноги. Верьте моему слову, так будет и на этот раз!» Чем стремительнее он летел в пропасть, тем более страстно мечтал расширить свое дело и тем покорнее поддавался своим безрассудным идеям. Судя по письмам, которые – видимо, из потребности хоть перед кем-то покуражиться и помахать кулаками – он присылал теперь чаще обычного, он страшился своего неминуемого взлета, который будет означать тем больший успех, чем меньше в него верят другие, и который будет поражением, чем-то вроде заслуженной кары для всех, кто по малодушию поставил на нем крест. В разгар этих лихорадочных бредней его хватил удар. Старый «солитеро», как им после его смерти писала родственница его покойной жены, с которой он, похоже, сошелся, последние два месяца просидел в кресле, с вытаращенными глазами и отвисшей губой, по которой текла слюна, и только бредил своими рудниками и фантастическими сделками. Под конец она сообщала, что после его смерти кредиторы растащили последнее, что у него было, и ей оставили лишь кое-что из домашней утвари, так, «разный хлам», на который Педро еще при жизни выдал ей дарственную.
Таким образом, у Флорьяновича внезапно иссяк источник и вместе с ним испарилась надежда на наследство. Однако Целсо не впал в уныние. Слава богу, как-нибудь проживет на собственные средства! Было б здоровье и хорошее настроение! Все остальное образуется! Когда ему казалось, что Зое грустна, он думал: «Бедняжка! Уязвлена ее гордость». Растроганный, он брал ее за узкие плечи, привлекал к себе и говорил: «Не печалься, у тебя будет все. Запомни, душенька, главное – не вешать нос. Посмотри на нас – мы с твоей мамой никогда не падали духом и не предавались отчаянью. А ведь поначалу и у нас бывали трудные минуты. Мамин отец очень рассердился, когда мы поженились, никак не мог простить нам этого. Нам было трудно и помощи ждать неоткуда, – (он забыл, что такое положение длилось каких-нибудь три-четыре месяца), – но мы не теряли мужества и с уверенностью смотрели в будущее, мы просто не хотели думать об этом…»
Между тем было очевидно, что Андре всерьез увлекся Зое. Каждую субботу он приезжал в город на танцы или на встречи в Клубе. По мнению Целсо, при теперешних обстоятельствах Андре был наилучшей партией для Зое. Он мог надеяться на хорошую карьеру, отличался безупречной изысканностью манер, безукоризненно одевался, был легок в общении. Обладая большим вкусом, он на редкость удачно составлял различные комбинации из того, что было в его не слишком обширном гардеробе. Пиджак в красно-коричневую клетку с бриджами придавал ему вид делового человека, когда он по утрам приезжал из Драчеваца, чтобы взять в банке деньги для выплаты рабочим. Тот же костюм, только без портфеля и с пуловером, превращал его в заядлого спортсмена, ассоциируясь то с гольфом, то со светло-желтой гоночной торпедой, а то и с самим Сент-Гюбером[34]. В том же клетчатом красно-коричневом пиджаке и в серых фланелевых брюках он выглядел аристократом с головы до пят, привыкшим менять костюмы по нескольку раз на день. Серая фланелевая пара выдавала в нем утонченного эстета, который неплохо разбирается в искусстве и в красивых вещах вообще. Даже последний, неиспользованный вариант – клетчатые красно-коричневые бриджи с серым двубортным пиджаком, – пожалуй, подошел бы для какого-нибудь скетча, которые разыгрывались в Клубе, для комического персонажа, не умеющего одеваться; на танцы, увеселения или на празднование дня 14 июля[35], когда консульство рассылало приглашения, сообщая, что в этот день «Arborera son pavillon»[36], он неизменно являлся в смокинге; фрак не надевал даже на балы, считая, «que ça vieillit»[37].
Андре, деятельный, живой и подвижный, был невысок, но хорошо сложен, с прямой, как доска, спиной. (Несмотря на эту прямизну, а может быть, именно благодаря ей приходила мысль, что природа пыталась сделать его горбуном.) Когда он широко улыбался, открывались бледно-зеленые десны, кромка которых, точно игла-рыба, тесно облегала зубы, а между деснами и губами спускалась какая-то бахрома, наподобие фестончиков в театральных ложах – это несколько портило его и без того не безупречную наружность. Что касается Флорьяновича, то он, пожалуй, предпочел бы побольше размаха у своего будущего зятя; Андре казался ему вскормленным скорее строгим порядком, нежели изобилием, а в его бодрости как бы угадывалась силой воли побежденная хилость. «Что поделаешь, таков теперешний тип мужчины, – утешал себя Флорьянович, – вкусы меняются».
Однажды Андре пригласил все семейство на пикник в Драчевац и послал за ними автомобиль. Это была расхлябанная служебная машина, и они втроем с трудом уместились на задневливаться, чтобы что-м сиденье. Радиатор дымился на крутых подъемах; шоферу пришлось несколько раз останато поковырять в моторе, а когда он садился за руль и автомобиль трогался, на дороге оставалась лужица вытекшего из мотора машинного масла. Андре предложил им холодные закуски и выставил дюжину бутылок фруктовой воды, разноцветью которой Зое радовалась, как дитя; осуществилась ее давняя, еще детская мечта – пить фруктовую воду так, как ее пьют на учениях взмокшие от пота солдаты – прямо из горлышка, жадно, с громким бульканьем, выпивая все до последней капли. Ее забавляло, как у них прыгал кадык и в бутылках опадала подкрашенная жидкость. Целсо предпочел бы запить еду рюмкой вина или пивом, но ничего не сказал, а Андре словно вскользь заметил, что пикник на чистом воздухе никак не вяжется с алкогольными напитками.








![Книга Обмен мнениями [=Симпозиум] автора Милан Кундера](http://itexts.net/files/books/110/no-cover.jpg)