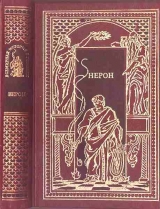
Текст книги "Нерон"
Автор книги: Висенте Бласко
Соавторы: Вильгельм Валлот,Д. Коштолани,Фриц Маутнер
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 38 страниц)
Император сердечно рассмеялся и обещал запомнить этот урок…
Так через какой-то безымянный переулок достигли они улицы Горшечников и подошли к главному входу Академии. Мощная колоннада, на ступенях которой расположились сотни служащих, вела ко входу. По обе стороны стояли статуи греческих философов и поэтов.
Свита вступила в здание и, из зала в зал то тот, то другой профессор давали объяснения.
Как специалист-библиотекарь, только для этого приехавший в Александрию, ходил Юлиан повсюду; там вытягивал редкий экземпляр, там карабкался по удобной лесенке под самый потолок, чтобы убедиться в справедливости какой-нибудь справки, или усаживался с роскошным свитком Гомера за один из маленьких столиков, чтобы прочитать несколько строчек.
Уже греческие поэты задержали императора на целый час, с философами же он просто не мог расстаться. С Платоновским диалогом о государстве в руке, он завязал оживленную беседу о воспитании и продолжал ее, уже вступив в математическое отделение.
Здесь он откровенно сознался в своем невежестве и разрешил хранителям отделов в быстрых докладах обрисовывать современное состояние своих дисциплин. Свита совершенно измучилась, и престарелый президент уже дважды осмелился пригласить императора к небольшой закуске, приготовленной в великолепной приемной. Император не желал ничего слышать. Кто хочет ему служить, тот должен уметь жить так же скромно, как он сам.
С Теоном, знаменитым механиком, начал император разговор относительно конструкции новой осадной машины. Император выказал необычайные познания и дал ученому мысль, как удвоить метательную способность старой машины. Казалось, однако, что Теону, исполнившему для императорской артиллерии уже много научных и практических работ, сегодня как-то не по себе. Наконец император заметил это.
– Что случилось, милый Теон? Я знаю вас, как одного из вернейших приверженцев нашей римской религии. Я рассчитывал на вас. Вы знаете, что значит для меня этот поход. Вы знаете, что я должен со славой закончить эту персидскую войну, чтобы затем в долгом мирном царствовании искоренить внутреннего врага, – это новое галилейское безбожие, поднимающее свою голову против нашей религии, против богов и престола. Разве вы не собираетесь помочь мне в этом?
Теон, видный мужчина немного старше сорока лет, склонился, как бы желая поцеловать руку императора, и тихо сказал со слезами на глазах:
– Простите, ваше величество, никогда не перейду я к христианам. У римских богов нет слуги вернее меня. Но сегодня ночью – сорок дней тому назад моя молодая жена подарила мне ребенка – сегодня ночью моя жена умерла, оставив меня одного с ребенком… Сегодня ночью!.. Мы с ребенком одиноки теперь…
Император пожал руку.
– Простите меня! Оставайтесь рядом со мной!
И в нервной поспешности, не оглядываясь и не отдыхая, заторопился император в следующую залу.
Был седьмой час, когда император вступил в новое здание, первое отделение которого заключало в себе иудейскую Библию в бесчисленных еврейских экземплярах, в переводе семидесяти толковников, а также бесконечное число комментариев и вспомогательных сочинений. Уже несколько часов ожидали здесь раввины и христианские священники, чтобы предоставить свои познания в распоряжение императора. С шутками и насмешками расспрашивал император иудеев в происхождении их священных книг и прочел главу из Семикнижия. В виде доброго предзнаменования главный раввин предложил ему место из истории завоевания Ханаана.
– Ваши Моисей и Иисус были слишком хорошими солдатами, чтобы сделаться сносными философами. Они дали слишком много законов. Но я всегда чувствовал уважение к древности этих книг. Я вспомню о вас в Азии, если найду что-нибудь по-еврейски. Я прикажу все переписать… на свиной коже.
В третий раз выступил архиепископ, чтобы в заранее приготовленной речи выяснить значение еврейской библии для новой христианской религии. На этот раз ему удалось заговорить.
– Иисус Христос отменил обрядовые законы, справедливо кажущиеся его величеству лишенными смысла; и если его величество соблаговолит пройти в следующую залу, то он найдет там прекраснейшее собрание замечательных трудов христианских философов.
– Прошу вас, господа, не беспокойтесь! – воскликнул император насмешливо, – отправляйтесь к вашим христианским философам и поститесь там, если желаете, как ваши новые благодетели человечества – монахи! При мысли, что христианские философы могут стать моей духовной пищей, я внезапно почувствовал голод. Решите сами, господин архиепископ, что вам предпочесть – стакан вина или главу из Оригена. Этот святой учитель должен был быть особенно аскетичным! – Император взял Теона под руку, и, посмеиваясь над Оригеном, последовал в большую парадную залу, где стояло три грандиозных обеденных стола и куда императорская свита ринулась, забыв о всяком порядке. Император с намеренной скромностью взял немного хлеба и стакан вина, тогда как офицеры принялись за добрые припасы горячее, чем это было в придворных обычаях. Даже пришедшие сюда против воли христианские священники забыли за едой свои обиды и свои заботы. Только евреи не касались ничего.
Император снова заговорил с Теоном об улучшении осадных машин. Теон должен похоронить и оплакать свою жену, а затем попробовать осуществить задуманное сооружение. Теон только что выпил стакан арабского вина и охотнее, чем раньше, собрался поправить некоторые вычисления императора, как вдруг внимание последнего привлек громкий шум на улице. Мгновенно откинул император портьеры балкона и вышел, чтобы самому посмотреть, что случилось.
– Все-то он должен сам видеть, – прошептал Иосиф соседу.
Внизу на улице Горшечников собралась тысячная толпа, образовавшая, казалось, две партии, ожесточенно спорившие друг с другом. Никто не заметил появления императора. Он послал вниз узнать, что случилось, но раньше чем возвратились посланные, Теон был на балконе и бросился к ногам императора.
– Спасите моего ребенка, государь! Они хотят крестить его!
Император возвратился в залу. Жилы на его лбу напряглись. Офицеры столпились вокруг него. Таким был он, когда в битве при Страсбурге измена императора Констанция чуть не привела его к гибели, и только его личная храбрость воспрепятствовала победе швабов.
Император потребовал объяснений; насколько можно было понять, союз христианских подмастерьев решил воспользоваться суматохой в Академии, чтобы, против воли отца, окрестить дочь Теона. Кормилицу христианку подкупили и план мог бы удаться, если бы этого не заметил какой-то еврей из слуг библиотеки, закричавший о помощи. Собравшаяся теперь на улице толпа состояла, с одной стороны, из молодежи союза подмастерьев, находившейся в подчинении архиепископу, а с другой – из греков и евреев. Кормилицу с ребенком оттеснили в здание Академии и провели в парадную залу к императору.
– Государь! – воскликнул Теон, – еще прежде чем ребенок родился, надоедали они моей жене просьбами посвятить его новой вере. Потом они не давали покоя больной и непрерывными угрозами, без сомнения, убили ее. Теперь им вздумалось окрестить бедняжку Марией, чтобы на старости лет у меня в доме вместо любимого ребенка был враг – христианка!
Император подозвал няньку и взял у нее ребенка из рук. Дитя тихо спало на своей подушечке и только немного шевельнуло хорошенькой головкой, когда император, склонившись, коснулся белого лобика своей жесткой бородой. Мертвая тишина царила в зале.
– Нас обоих не взять им, бедное созданье, – прошептал император, – ни меня, ни тебя. Это так же верно, как то, что меня зовут Юлиан.
– Эй! – крикнул он вдруг так громко, что ребенок проснулся и раскрыл удивленные черные глаза, – у меня сейчас есть дела поважнее расправы с изменниками!
Но я говорю мм, что персидская война будет только началом той, которую я замышляю против внутреннего врага моего государства. Этого ребенка я беру под свое покровительство. Все громы преисподней и все молнии небес поразят дерзкую руку, которая осмелится сделать знак креста над моей крестницей. Марией хотели они окрестить тебя, бедное творенье, и убить в тебе душу живую, как стремятся они уничтожить душу мира. Радость жизни хотят они уничтожить, как на долгие годы лишили они Грецию всякой радости и всякого счастья. Проклятье, архиепископ! Бойтесь моего возвращения. Пускай же этот ребенок не носит никакого кроткого христианского имени. Я посвящаю ее первому богу на небе Зевсу Гипату, высочайшему Зевсу, и называю ее Гипатией.
Обеими руками поднял император ребенка тем же движением, каким греческие жрецы в священных мистериях совершали жертвоприношение невидимому богу.
Мир и покой были на его лице.
– Вы, древние боги! Если вы еще живы, если вы меня любите и если вы не хотите допустить галилеянина в ваши жилища – сохраните мне этого ребенка! Никогда более не будет у меня ни жены, ни детей. Служащий вам должен отказаться от личного счастья. Я беру этого ребенка, как своего. И если вы, боги, хотите сохранить красоту и правду Греции и радость Греции вопреки галилеянину и его священникам, сохраните мне этого ребенка и ведите меня к победам для меня и для моей страны!
Тихий плач ребенка нарушил тяжелое молчание, последовавшее за словами императора. Юлиан передал ребенка отцу и решительно подошел к архиепископу.
– До свиданья, – сказал он, сжав с угрожающим видом кулак, – до свиданья – после победы. Сперва персы, потом галилеянин! Мне еще только тридцать лет и если в моем распоряжении будет еще десять – мир навсегда запомнит это! Пора, мы отплываем.
И, не теряя больше слов, Юлиан быстро сошел с лестницы. Офицеры последовали за ним. Внизу стоял на страже отряд морских солдат. Под их охраной достиг император со свитой гавани, где бесчисленные толпы народа встретили его приветственными криками. Греки, иудеи и все, оставшиеся верными старой вере египтяне знали о его походе против духовенства и устроили ему восторженную встречу. Одушевление и счастье светились из глаз императора. Остановись перед маленькими мостками, ведшими на адмиральский корабль, он выпрямился во весь свой рост, и звонким повелительным голосом крикнул так, как будто весь город мог его слушать:
– Видите Вы солнце, которое красное, раскаленное спускается там в море? Вы думаете – оно мертво, вы думаете – старые боги умерли? Но завтра утром, когда наши верные корабли понесут нас навстречу войне и победе, завтра утром, как с начала времен, поднимется оно в блеске первого дня и будет светить нам, как и каждому созданию! Знайте же, наш высочайший бог, наш высочайший Зевс, или бог иудеев или ваш бог-Серапис – это Солнце, которое сейчас уходит на отдых, но завтра воскреснет и никогда не умрет. Бог мой, бог мой, благослови меня на прощанье и благослови мое дело и дай победить ночь галилеян! – Еще один широкий жест, словно как жрец хотел он благословить покидаемый им город и кроваво заходящее солнце, – и Юлиан вскочил на свой корабль; якоря были вытащены под тысячеголосые крики и, медленно отчалив от берега и величественно пролагая себе путь среди других кораблей, с распущенными парусами, казавшимися красными в лучах заката, отплыл корабль из гавани.
Птица-философ оставила крышу Академии и плавными кругами последовала за своим императором. Долго, долго парила она над мачтами, затем тяжелыми резкими ударами крыльев вернулась назад, и встала, поджав под себя ногу, на одной из балок Академии, где давно уже снова спала крестница императора. Марабу царапал себе голову левой лапой, стучал клювом и озабоченно закрывал глаза.
– Солнце! Солнце! О мой победоносный император! Оно не ласково, оно сурово, как боги! Конечно, оно дает нам жизнь, но оно нас не любит. Оно любит пустыни, не любит жизнь. Оно – Молох – убийца – опустошитель.
Камни создает оно, камни вместо хлеба!.. Бедный император, бедный ребенок!..
И долго еще бодрствовала птица-философ на каменной балке над кроваткой Гипатии, хотя Александрия уже спала и, кроме древнего марабу, бодрствовал только архиепископ со своим секретарем, писавшие письма в Рим, Константинополь и в Персию ко всем врагам императора Юлиана.
1. Юность Гипатии
Под надзором верной кормилицы, честной смуглой феллашки, достигла Гипатия первой годовщины со дня своего рождения, и в этот день собралось к ней много коллег Теона и много чиновников из города с красивыми и дорогими подарками. За прелестной крестницей императора, серьезно и безмятежно лежавшей в своей колыбели, ухаживали, как за дочерью императора. Греческие колдуны, египетские жрецы, еврейские кабалисты предсказывали малютке блестящую будущность. Маленькая Гипатия получила сотню непонятных подарков и среди них много таинственных средств от нужд и болезней, много амулетов, в которых такой счастливый ребенок не должен был никогда нуждаться. А цветы священного лотоса, которые крылатый философ после долгого полета собрал для нее в сокровеннейших садах Аммонова храма, чтобы с восходом солнца разбросать перед люлькой, были растоптаны беззаботными посетителями.
Во время своего продолжительного путешествия за священным цветком узнал печальный марабу дурные известия от других далеко летающих птиц, от орлов и коршунов. Однако он молчал, так как ему бы все равно никто не поверил. И так, дни и ночи он сидел озабоченный, не обращая внимания на самых лакомых рыб. Через шесть недель ужасная новость достигла до Александрии, новость такая невероятная и боязливая, что городские партии стояли друг против друга без слов и без действия. Император Юлиан умер.
Месяц спустя, сомнений больше не оставалось. В раскаленных пустынях по ту сторону Тигра римское войско таяло в борьбе с враждебной природой. Юлиан был, может быть, хорошим солдатом, но великим полководцем он не был. Или персы получали указания из императорской свиты. Ничто не удавалось, нигде враг не останавливался для битвы, персидская армия и персидский народ со всем скотом и всеми запасами уходили дальше и дальше в глубь страны, оставляя императорское войско одиноким в пустынях. Если занимали город, в нем через несколько часов со всех сторон вспыхивало пламя.
А затем наступил ужасный день, когда цезарь, вступивший со своим арьергардом в узкое ущелье, был внезапно атакован громадными отрядами неприятеля, как бешеный бросился навстречу врагу и откуда-то сбоку получил смертельный удар. В предсмертный час при нем оставался ученый Либаний, и его записки сохранили миру последние слова последнего римского императора. Юлиан хотел рукой остановить хлынувшую кровь, но скоро он отбросил ее к небу, как бы принося самого себя в жертву гневу нового бога. Затем он откинулся назад, смертельная бледность покрыла его лицо, и он прошептал: «Теперь ты победил, галилеянин!».
К своему письму Либаний прибавил проклятия по адресу убийц своего повелителя.
На трон вступил новый император, а скоро затем другой. Но в Александрии их знали только по именам и все еще хотели угадать имена убийц императора Юлиана. Говорили, что персидский царь обещал целое богатство тому из своих солдат, который поразил римского императора. Но ни один перс не заявил о своем праве на награду. Рассказывали, что там, откуда получил император роковой удар, не было персов. Два дня не осмеливался александрийский архиепископ покидать свой дом, так как чернь угрожала побить его камнями и громко называла его убийцей императора. Но вот снова из Константинополя пришел корабль с золотом для александрийских церквей и новыми посланиями, называвшими императора Юлиана отлученным и богоотступником. Тогда архиепископ выступил открыто перед всем народом в своем соборе и отслужил обедню; александрийская чернь собиралась на улицах к насмехалась над бедными солдатами, возвратившимися из несчастливого похода больными, ранеными и искалеченными.
Один из возвратившихся солдат, разжалованный знаменосец какого-то Дунайского кавалерийского полка, долго исповедовался в приемной архиепископа Афанасия. Никто не знал ни его, ни величественную белокурую женщину, бывшую рядом с ним; однако его называли убийцей императора и не желали терпеть в городе. Но старый солдат, горделиво откинув черные косы и упрямо гладя заплетенную бороду – молился во всех церквах и разыскивал приют для жены, привезенной из Германии. Наконец он нашел его в доме, покинутом людьми, но населенном привидениями, в доме, похожем на замок, стоявшем за городской стеной между египетскими парками и кладбищем, между храмом Сераписа и городом мертвых.
Маленькой Гипатии казалось одинаково забавным и то, что выстукивал марабу под ее окном, и то, что снова и снова печально повторял отец у ее колыбели. «Ты победил, галилеянин!» Она улыбалась, когда отец стоял рядом с ней, и смеялась, когда птица-философ безбоязненно влезала в ее окно.
Пусто стало в Академии со дня смерти императора. Несколько месяцев трепетали ученые перед надменностью архиепископа Афанасия, но из Константинополя пришел приказ ничего не менять в существующем, предоставив учителей-язычников медленному вымиранию.
Тогда стало уныло и пусто в залах и дворах знаменитой школы. Снаружи заново воздвигнутый и раззолоченный крест собора возвышался над крышей обсерватории.
Как раз под обсерваторией находилось маленькое служебное помещение Теона. Его соседом был математик. Теон жил и работал в своей рабочей комнате; спальню он передал ребенку и его няньке – смуглой феллашке.
Еще одно молодое человеческое существо жило там в нескольких шагах от маленькой Гипатии. Исидор, неуклюжий, смуглый, черноволосый и длиннорукий семилетний уродец, получил разрешение спать и учиться, жить и умирать в передней математика. Никто не знал наверное, чей был этот робкий и в то же время беззаботный мальчик. Слуги Академии рассказывали об этом невероятные истории. Его отцом являлся якобы обреченный на безбрачие египетский жрец, матерью – служанка, родственница архиепископского секретаря. Египетская и сирийская кровь – недурная смесь! Ребенка выбросили из архиепископского дворца и какая-то добросердечная служанка отнесла его в Академию. Служители анатомического отделения утверждали, что Исидор уже мертв, однако, мальчика удалось вернуть к жизни. В маленьком городке( которым являлась Академия, нашлось место для сироты. Как сорная трава прорастала между камнями в углах двориков, так рос мальчик, которого и били, и кормили, как полудикую собаку. И если никто не знал, чьими заботами пользовался Исидор, кто его одевал и кто его кормил, то и сам мальчик мало интересовался этим. В полдень он съедал, что попало, присев на ближайший порог; обрывки платья носил, пока они не превращались в лохмотья, а его познанья – да, с его познаниями дело обстояло не просто!
Когда Исидору было около пяти лет, по всей Академии распространился слух о появлении чуда природы. Теон и математик увидали, как Исидор воспользовался посыпанной песком дорожкой к колодцу третьего двора, чтобы вполне правильно вычертить схему трудно вычисляемого лунного затмения. В результате общего удивления и расспросов выяснилось, что мальчуган то через открытое окно, то спрятавшись в самой аудитории – слушал все лекции по математике и астрономии и среди студентов давно уже слыл забавным собранием всяких премудростей. Дальнейшее расследование показало, что Исидор знал наизусть все формулы и длинные ряды чисел и чувствовал их внутреннюю зависимость, обычно, однако, ничего в них не понимая.
По желанию старого математика, Исидора устроили в детскую школу. Там, в четыре месяца проглотил он то, с чем другие ученики справлялись в несколько лет. С этого времени он получил разрешение спать в передней математика, и даже в Константинополь до императора дошла весть о чудесном ребенке.
Такое был сосед Гипатии.
Несмотря на близость отца, девочка росла в довольно неученом обществе. Ее кормилица вела небольшое хозяйство и была для ребенка единственной воспитательницей. Добрый марабу прилетал проводить все свое свободное время около Гипатии, но в его природе было больше склонности к созерцанию, чем к поучениям, да к тому же девочка не понимала щелканья его клюва, так как не получила никакого образования. Отец любил своего ребенка больше всего на сеете, но он почти не видел его, если не считать нескольких минут каждое утро, когда он выдавал феллашке изрядную сумму на хозяйство и удивлялся, что кормилица всегда жалуется на недобросовестность рыночных торговок; это называлось: проверять счет.
Такой способ вести хозяйство не повредил маленькой Гипатии. Феллашка всегда была в состоянии закармливать красавицу всяческими лакомствами, одевать ее в платьица из наилучших тканей, а время от времени предохранять от болезней амулетами жрецов или старух.
Так росла Гипатия, и ее ученого отца ни разу не коснулась забота о ребенке. Гипатии шел седьмой год, когда в ее жизни произошла первая перемена. В одну теплую и светлую майскую ночь Теон проверял в обсерватории точность новоизобретенного измерительного прибора. Ему вновь удалось установить еще одну ошибку Птоломея, ошибку в расчете движения какой-то планеты. Перед восходом солнца вернулся он в свое жилище и был поражен, найдя там в облаках курительного дыма старых ведьм и жрецов.
Около полуночи Гипатия опасно заболела, и старая феллашка не могла придумать ничего лучшего.
Теон подошел к кроватке ребенка, лежавшего в лихорадке с горящими щечками и черными глазами, устремленными кверху. Отца она не узнала. Несколько мгновений стоял Теон, беспомощный от изумления и горя, затем он бросился к одному из лекарей, не столько за помощью, сколько для того, чтобы пожаловаться на судьбу. Математики считали медицину знанием, не проверенным и не надежным. Однако врач, хорошо знавший прекрасного ребенка академических двориков, сейчас же последовал за Теоном в его помещение. Колдунов прогнали, а кормилица со слезами на глазах обещала следовать всем указаниям врача.
После пяти тяжелых дней и ночей ребенок был спасен. Но Теон, беспомощно и чуждо просидевший все время около постельки больной, узнал, к своему огорчению, в каком пренебрежении оставалась духовная жизнь девочки. Конечно, она не умела ни читать, ни писать. Но даже по-гречески не умела она говорить правильно, она – дочь греческого ученого и крестница императора. С кормилицей и со сверстницами она болтала на египетском разговорном языке, а для утренних приветствий отца хватало нескольких дюжин греческих слов. Вместо стихов Гомера она знала наизусть десяток египетских поговорок. И ученый должен был говорить на отвратительном народном наречии, чтобы быть понятым своим больным ребенком.
Пока Гипатия медленно оправлялась от тяжелой болезни, Теон советовался с врачом, со своим соседом математиком, как изменить свою жизнь для осуществления разумного воспитания. Нужно было найти надежную и образованную женщину, нужно было отыскать подходящего для ребенка учителя. Однако, когда врач по прошествии нескольких недель объявил, что Гипатия совершенно выздоровела, и освободил ее от своего надзора, Теон вздохнул облегченно и взял в руки новый прибор, чтобы дойти до конца вычисления, начатого в теплую майскую ночь.
Еще незадолго до заболевания Гипатии, неутомимо прилежный Исидор совершенно не интересовался своей соседкой. Его занятиям не нужно было сотоварищей, а девочек он слишком презирал, чтобы замечать что-либо подобное. Невежественный ребенок был к тому же на шесть лет моложе чудесного мальчика Академии. Но незадолго до заболевания Гипатии в маленьком долговязом ученом произошла серьезная перемена.
С тех пор как он обратил на себя внимание, из жадного до знаний юнца вырос ненасытный книжник. Учителя болтали с ним, старшие студенты позволяли ему помогать им в их работах; от всего этого росла его гордость. Только в залах библиотеки, среди неистощимых книжных сокровищ, надеялся он научиться чему-нибудь новому.
Его непосредственным руководителем должен был быть один старый монах, готовивший в монахи около тридцати юношей. Но то, что нужно было здесь учить, Исидор знал лучше своего учителя, так что и мальчик и монах были рады не встречаться друг с другом. Без учителя, без друга пустился чудесный мальчик в свой собственный путь. Он поставил своей задачей прочитать все двести тысяч томов библиотеки. Внезапно к жажде знания присоединилось тщеславие. С наиболее редкими книгами, с невероятными фолиантами рассаживался он в большой зале, точно выгоняя оттуда и студентов, и ученых. Юношу показывали проезжающим иностранцам, осматривавшим библиотеку. Строго одетый, порывистый, как цирковой наездник, достиг Исидор тринадцати лет в тот самый теплый месяц май, когда заболела Гипатия.
В это время молодой ученый начал задумываться. Он почувствовал, что бесчисленные изученные им вещи противоречат друг другу. Так, значит, не все авторитеты должны быть одинаково достоверны! Все учителя Академии давали ему уроки, ни один, однако, не говорил о загадках, которые теперь начали вставать перед ним. Юноша мечтал об учителе, тосковал о друге. Ему хотелось отдаться в руки столетнего жреца и безмолвно следовать за ним.
В таком-то душевном состоянии находился Исидор, когда однажды, в начале мая, перед заходом солнца сидел он, читая в зале второго двора. Недалеко от него играли маленькие девочки сперва в цветы, потом в прятки. Ему никогда никто не мешал. Внезапно одна девочка, как вихрь, кинулась к нему и притаилась, плутовски улыбаясь, за его громадным фолиантом.
– Не кричать, – сказала девочка.
В первый момент Исидор хотел оттолкнуть ребенка, затем, с сознанием собственного достоинства, решил он отыскать более тихое местечко со своим фолиантом; наконец, он соблаговолил снисходительно, как это пристало его возрасту, посмотреть на детскую игру. Но и этого не смог он. То, что притаилось между его коленями и фолиантом… Что же это было такое? Почему показалась ему откровением маленькая, разгоряченная беготней и тяжело дышащая Гипатия, так доверчиво и в то же время боязливо смотревшая на него? Разве на свете бывают такие глаза? Обыкновенно глаза – это маленькие красные отверстия, через которые человеческий дух может видеть буквы. А эти глаза…
Исидор не мог постигнуть, почему из его собственных заблестевших и покрасневших глаз потекли слезы. Чтобы совладать с собой, он положил дрожавшую руку на локоны девочки и улыбнулся ей приветливо.
Детей скоро позвали домой. Стало темно, а Исидор еще долго сидел в зале. Громадная книга лежала на земле, а он мечтал. Еще ни разу, с тех пор как он себя помнил, не мечтал он так. Еще никогда не думал он часами ни о чем, кроме учителей и писателей, задач и их решений. Сегодня с ним случилось нечто новое, нечто, что казалось фантазией и заставляло его думать о человеке, да, кроме того, о ребенке, с удивительными черными глазами, о крестнице императора. Может быть, Юлиан не умер, может быть, он тот человек, который, возвратясь, сможет разрешить все сомнения и соединить философию и веру. Может быть, император Юлиан возьмет когда-нибудь ученого Исидора за руку и введет его в сияющий храм, где пламенными буквами на золотых досках открыты тайны вселенной; может быть, император даст Гипатию в жены ученому Исидору и сделает его цезарем и императором.
Исидор провел ночь среди вздохов и судорог и выглядел безобразнее обыкновенного, когда с восходом солнца вновь вошел в залу, ожидая Гипатию. Сегодня у него в руках была любовная греческая трагедия Эврипида; он стал читать ее и испугался, так как он не заметил ни грамматических форм, ни особенностей слога, а упивался сладким языком и прекрасным содержанием стихов.
У Исидора не было никого, с кем он мог бы поговорить о своих новых муках; Гипатии он не дал ничего почувствовать, и только пугал ее своими злыми глазами, когда она проходила вблизи. Но он мог подолгу следить за ее играми и по ночам он бродил под ее окнами, завидуя нахальному марабу, устроившему гнездо под ее комнаткой: целую ночь стояла птица, поджав одну ногу, на часах, а когда всходило солнце, и Исидор уходил к себе, марабу насмешливо щелкал клювом.
Ни учителя, ни ученики не подозревали, что происходило в душе Исидора, когда вскоре после этого Гипатия заболела. Сон не сходил на его веки, в одном из погребов Академии совершал он мрачные заклинания, чтобы сохранить жизнь ребенка, тайком заказывал в церквах молебны о здоровье больной и дал обет не принимать пищи, пока Гипатия не будет спасена.
Когда, наконец, крестница Юлиана, с прозрачной бледностью на щечках, с еще шире раскрывшимися удивительными глазами, вновь появилась во дворе, высокая, стройная, и, не то от усталости, не то вследствие каких-то перемен, не захотела больше играть со своими сверстницами, Исидор предложил себя в учителя ребенку. Неловко улыбаясь, явился он к Теону и рассудительно объяснил ему, что он слишком велик, чтобы быть учеником, и слишком молод для учителя, и ему полезно бы было попрактиковаться для начала на образовании маленькой Гипатии. Исидор побледнел еще более обыкновенного, когда его предложение было принято без всякого возражения.
С этого дня Исидор сделался учителем маленькой Гипатии. Никто не интересовался ей, даже собственный отец. Один Исидор узнал, что в Академии росло новое чудо. Но Гипатия была не похожа на него. Ему было тринадцать лет, и он ни разу еще не произнес «почему». Он измерял мыслью подземные и небесные пространства, узнал всех поэтов и всех богов, изучил книги критиков и атеистов; одного за другим отбросил и поэтов, и богов, и критиков, и атеистов. И ни разу не сказал «почему?». А эта маленькая чудесная девочка, с ужасными черными глазами, спросила: «Почему?» в первую же минуту первого урока, когда Исидор, нарисовав на доске букву, сказал: «Она означает „А“». – Почему? – Счастливые часы! Счастливые годы!
Скоро все привыкли ежедневно в хорошую погоду видеть Исидора со своей маленькой ученицей в лавровом саду первого дворика. Только для учителя и его маленькой ученицы их жизнь не казалась однообразной. Исидор не знал, как учат детей. Он не учился этому и не видал, как делают это другие. Да если бы он и знал это, крестница императора шла своим собственным путем. Она хотела знать все и ничего отдельно от остального. Только через два года научилась она бегло читать и писать, но к этому времени уже целый мир был в ее маленькой головке. Она не соглашалась написать ни одной буквы, не узнав смысла ее знака и наиболее красивой ее формы и ее истории. Исидор должен был мучиться, чтобы научить девочку азбуке так, как она сама этого хотела. Гипатия хотела знать то, над чем никто не задумывался, а Исидор согласился бы скорее откусить себе язык, чем хоть раз ответить ей: «Этого я не знаю». В книгах и у египетских жрецов узнавал он все, чего ему еще не хватало, чтобы удовлетворить ребенка. Вооруженный новыми знаниями, вступал он в садик или в комнатку и, как сверстник, выкладывал все, что приносил с собой. Ему приходилось рисовать иероглифы, из которых возникли греческие буквы, и латинскую форму, принятую римлянами. Это была дивная игра: один за другим рисовать, читать и писать три знака, а затем идти в город мертвых, рвать там цветы и разбирать надписи на гробницах, болтая о божественных бессмыслицах, в которые верили египтяне; или бежать к двум великим обелискам и говорить о древних египетских царях, воздвигших эти камни в знак своего господства над миром и все-таки побежденных затем нами – греками. Прекрасно было целый месяц бродить по дельте Нила и удивляться мудрости, с которой составитель египетского алфавита позаботился о том, чтобы со знаком буквы дельты можно было связывать нечто более глубокое. Прекрасно было узнавать чудеса Нила, сказки о его разливах и обмелениях, о богах, высылавших его для оплодотворения страны, о Ниле и его шестнадцати детях, безграмотных, но все же таких хитрых и хранивших такие прекрасные тайны, что Исидор часами мог говорить, а Гипатия часами могла слушать, – оба одинаково неутомимо. Это была школа! В одном углу кушетки сидел Исидор, направив свои болезненные глаза на ребенка, и говорил, говорил все, что узнавал для нее одной, а она в другом углу старалась впитать в себя все своими огромными глазами, так же как она впитывала ими солнечный свет. Когда ей хотелось вставить одно из своих вечных «почему?», она вскакивала перед учителем и, потянув платьице на коленях и расставив ручонки, кричала: «Как так?», или «Почему?» или даже «Я этому не верю!». Тогда выскакивал учитель и грозил ее наказать, а она бегала вокруг стола и, хлопая в ладоши, кричала: «Я этому не верю, я этому не верю!». Тогда он брал грифельную дощечку и чертил или писал ей сказанное, и девочка, положив дощечку на ковер и подперев головку руками так, что справа и слева между пальчиками струились черные кудри, долго, долго рассматривала и читала в безмолвном внимании. Наконец, успокоившись, она вставала и говорила только: «Дальше!». Тогда Исидор был счастлив и рассказывал ей в награду прекрасную сказку из Одиссеи, чтобы, наконец, не говорила она своего вечного: «Почему?».







