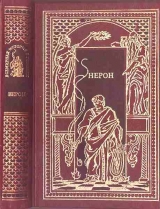
Текст книги "Нерон"
Автор книги: Висенте Бласко
Соавторы: Вильгельм Валлот,Д. Коштолани,Фриц Маутнер
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 38 страниц)
XXVIII. Невинный
У Дорифора почти не было работы. Император не давал ему больше стихов для переписки. Вместо гекзаметров Дорифор теперь переписывал счета по устройству празднеств. Они часто возвращались обратно казначейством, так как казна была пуста.
Игры и бега поглощали все государственные средства, а доходы, притекавшие из провинций, в несколько недель пожирались голодной столицей.
Нужны были большие суммы, но их неоткуда было раздобыть. Храмы Малой Азии и Греции были уже давно разграблены войсками; налоги были взвинчены до последнего предела, вызывая стоны у богачей и бедняков.
Народ, рукоплескавший императору, теперь голодал; хлебные грузы не прибывали вовремя в гавани.
Толпами бродили безработные.
В один прекрасный день на Капитолии был поднят кровавый флаг, обозначавший войну: провинции заволновались. Первой восстала Британия, под предводительством могучей, белокурой женщины, вооруженной копьем.
Бурра не было больше в живых; он скоропостижно скончался. Септоний Павлий был разбит мятежниками, совершенно уничтожившими девятый легион. Лишь постепенно с трудом удалось восстановить порядок.
Писец сидел в канцелярии императора. Он знал обо всем происходившем, но ничто его не интересовало. Он поднял усталые глаза с рукописи и устремил их на дворец, где жила Поппея.
Чувство, запавшее однажды в его душу, пустило глубокие корни. Он был озарен смелыми, неосуществимыми мечтами. За день в его воображении успевали разыгрываться счастливые и печальные события, милые раздоры и горячие примирения, в действительности никогда не существовавшие. Ими он обогащал свою жизнь. Он все продолжал гордо ткать свою волшебную ткань, ничего не требуя от действительности.
Один только раз говорил он с Поппеей; это было тогда в парке… Он больше не искал с ней встреч, боясь потрясения, испытываемого от ее близости. Он только гулял каждый вечер на берегу того озера, по достопамятной тропе, ощущая при этом сладостный трепет; это казалось ему ужасным грехом, достойным всеобщею осуждения. Поэтому он дичился людей и был скуп на слова. Он думал, что лицо его выдает его переживания и что все о них догадываются.
На самом деле никто ничего не подозревал. Поппея его едва помнила. Однажды ее пронесли мимо него в носилках, но она его даже не заметила. В другой раз она на него взглянула, словно спрашивая себя, кто этот незнакомец. Дорифор зарделся, чувствуя себя глубоко виноватым. Он торопливо прошел мимо, притворившись, что не видит ее.
Поппея скучала. Искушенная, изведавшая все, что может дать страсть, она больше не искала любви. Но этот юноша еще мог бы ее увлечь. Если бы она открыла то, что таилось в его сердце, возможно, что она окунулась бы в его стихийную весну, сомкнула бы очи и дала бы ему руку, чтобы он покрыл ее поцелуями.
Но молодость робка.
Дорифор долго, молча таил свое чувство.
Он держал себя надменно, словно никого вокруг себя не замечал. Целыми месяцами он не встречал Поппеи; наконец – не смог более совладать с собой. Игра воображения его больше не удовлетворяла. Он, которого стыдливая любовь наполняла страхом и заставляла, дрожа, избегать встреч с ней – на сей раз, незваный, явился во дворец.
Стражники, знавшие его, свободно его пропустили.
В ближайших покоях никого не было. Растерянно и грустно побрел он дальше. Он сам не знал своих намерений.
Он остановился в зале, где он когда-то, в присутствии Нерона, говорил с Поппеей. Каждый предмет оживлял в нем воспоминания этих минувших дней. Словно в поисках чего-то он стал переходить из одного покоя в другой. Наконец, достиг опочивальни, где Поппея обычно отдыхала.
Он на мгновение остановился; затем опустился перед ее постелью и горько зарыдал, словно у могилы своей возлюбленной. Все, что так долго накипало в его душе, вдруг вылилось в горячем потоке слез. Дорифор оставался на коленях без цели и без надежды.
Уже начинали спускаться тени. Смеркалось.
Вечером, войдя в опочивальню Поппеи, Нерон застал его около ложа.
Его гнев был короток, как вспышка молнии. Через мгновение два раба уже схватили юношу.
– Вот, – сказал Нерон невольникам с повелительным жестом.
Рабы дали что-то своему пленнику. Дорифор понял, поднес поданный ему яд к устам и жадно проглотил свою смерть. Он тотчас же упал у самой постели. Нерон привел Поппею.
– Кто это? – спросил он ее, улыбаясь.
– Не знаю. Какой-то юноша.
– Ты с ним незнакома?
– Нет.
– Вспомни.
– Ах, да! – что-то смутно промелькнуло в ее сознании, – это писец, который переписывал твои стихи. Я, кажется, с ним однажды разговаривала… в саду…
Она посмотрела на умершего. Взметенные кудри оттеняли молодой лоб.
Поппея внезапно прозрела. Она постигла то, чего Дорифор никогда не выразил словами.
– За что? – спросила она Нерона.
– Он самовольно сюда вошел.
– Бедный мальчик! – и в голосе Поппеи послышалось искреннее сожаление. Она с отвращением отвернулась от Нерона. Впервые он стал ей противен. До сих пор она его только презирала.
– Мне жаль его…
В ее словах звучала безутешность, которая передалась Нерону. Он хотел обнять Поппею, но она отстранилась и понурила голову.
Позже она много думала о Дорифоре.
Нерон чувствовал, что поступил опрометчиво и лишь нагрузил на себя лишнюю тяжесть. Случись это позже, он пощадил бы юношу.
– Впрочем, он дерзко поступил, – убеждал себя Нерон для собственного успокоения…
И вернулся к своим коням и колесницам.
Но успех стал изменять ему, и его постигали всякие неудачи: он плохо правил конями; однажды колесница его перевернулась; он разбил себе лоб и его освистали.
От соперничества других он отделывался весьма просто: повелительным жестом он останавливал гонки и провозглашал себя победителем.
Однажды он вернулся в мрачном настроении. Он последним подъехал к цели и судьи состязания при всем желании не смогли поставить его на первое место.
С отчаяния и гнева он велел снести все статуи победителей, украшавшие цирк.
Поппея в этот день упрекнула его за его постоянное отсутствие из дворца. Нерон не удостоил ее ответом и раздраженно ударил бичом по столу.
– Брось это, – настаивала Поппея. – Затея эта не для тебя.
Со скучающим видом она добавила:
– Тебя постоянно побеждают! Тебя! – отчеканила она, пренебрежительно кривя губы. – Это просто унизительно. Все над тобой смеются.
Нерон думал, что Поппея шутит и сейчас же возьмет свои слова обратно.
Но она лишь подкрепила их:
– Да! Все тебя высмеивают! – И она презрительно посмотрела на императора, сидевшего перед ней в наряде возницы и в доходившей ему до бедер обуви, подбитой железом. В руке у него был бич.
Она долго хохотала над его видом.
В отместку император перешел в наступление.
– Ты плакала?
– Нет.
– Но тебе грустно, – и он заглянул ей в лицо, – ты все думаешь о Дорифоре…
– Я? Ты заблуждаешься! Его больше нет в живых! Можешь быть спокоен.
Поппея была теперь всесильна. Она опять чувствовала рядом с собой невидимого союзника, мертвого Дорифора. Он протягивал ей на помощь руку, как когда-то мертвый поэт Британник.
Нерон метался между этими двумя призраками. Его обуял такой страх, что он перестал бывать в обществе. Во всяком человеке он усматривал шпиона, поставленного его тайным врагом. Он готов был сдаться, лишь бы его оставили в покое. Ему мерещилось, что за ним крадутся подозрительные личности. Он останавливался и с почти сладострастным содроганием ждал, чтобы они схватили его железными перстами и поволокли навстречу неизбежному. Но прохожие незлобиво брели мимо него.
Более всего он страдал от безмолвия Поппеи. Необходимо было задобрить ее. И он приказал убить Октавию.
Еще шестилетней девочкой Октавия была отдана в жены Клавдию Силанию. На двенадцатом году жизни ее выдали за Нерона. Она потеряла отца и брата, четыре года томилась в изгнании, дрожала и плакала среди чужих ей людей.
Когда ей исполнилось восемнадцать лет, ее безрадостная жизнь пресеклась на суровом острове от руки убийцы. Ее голову доставили в Рим. Поппея пожелала на нее взглянуть.
Лицо Октавии было печально. Черные кудри, как при жизни, мягко спускались на лоб. Глаза ее, от прикосновения, приоткрылись.
Поппея ответила на ее неживой взгляд долгим, исполненным ненависти взором.
Мертвая выдержала его несколько мгновений… Затем, словно утомленная борьбой, закрыла глаза.
Умерла вторично.
XXIX. Восстание
На Тибре готовилась к отплытию галера, нагруженная тканями, обувью, одеждой, утварью. Она должна была отправиться в Британию. Груз ее предназначался для поддержания нуждавшегося населения этой провинции, окончательно обнищавшего после неудачной борьбы с Римом.
Не успела галера выйти в море, как к гавани подъехало парусное судно, привезшее в бочках и мехах вино из Греции. Раздался гудок. Порт проснулся; закипело движение. Грузчики стали перетаскивать тяжести. Купцы, принимавшие свои товары, прикрикивали на рабочих.
Другая галера, прибывшая из Александрии с льняными тканями и африканскими пряностями, была выгружена при свете факелов.
Чужестранцы, приехавшие с востока, высаживались на берег, смотрели на простиравшийся перед ними город и пробовали объясняться с римлянами при посредстве переводчиков. Это была пестрая человеческая волна из провинций.
Спускалась ночь. Светилось лишь несколько фонариков и поблескивало змеевидное русло Тибра.
Позднее всех причалило судно с моряками Мизенумского флота.
С шумом, возбужденно споря, они в беспорядке высыпали на берег и группами в три-четыре человека направились в глубь города.
У них были обветренные, опаленные солнцем лица.
Два человека, одетые, как моряки, и скрывавшиеся ранее в портовых складах, притаились в ожидательной позе у мостков судна. Один из них был приземист, другой – повыше.
Эй! – окликнул более высокий одного из высадившихся моряков, – что нового? Ничего, – ответил тот и побрел дальше, обняв бледного болезненного мальчика, худенькую руку которого он крепко жал.
Тогда более приземистый из двух поджидавших остановил другого моряка, сошедшего с мостков судна.
Куда, друг? В город. Не спеши так! – и незнакомец взял его за руку. – Ты из Мизенумского флота? Да. Скажи, – перебил его более высокий, – что вам сегодня дали на обед.
Моряк поморщился.
Все то же: гнилую рыбу и овсяный хлеб. Но винца-то, небось, дали? Ишь чего захотел! Водицу хлебаем.
– А мяса дают?
Уже неделями куска не видели, кроме человечьего.
На сей раз рассмеялись все трое.
А денежки у тебя есть?
Моряк отрицательно покачал головой.
Как? Жалованья вам тоже не платят? Ну, и дураки же вы, если после этого служите императору!
Беседующих обступила гурьба матросов.
Более приземистый из двух агитаторов повысил голос:
– Что, друзья, хотите жрать и пить? Так вот вам каждому по золотому! Идите и веселитесь. Есть еще человек, который о вас печется. Его зовут Пизоном. Не забудьте этого имени: Кальпурний Пизон!
Второй агитатор обратился к другой группе: – Какое безобразие, что матросы голодают, в то время как Нерон веселится!
Моряки разбрелись по кабакам, а оба оратора тотчас же нырнули в глубину складочного помещения. В матросском наряде друг против друга стояли… Зодик и Фанний.
Седой воин, находивший подчас кое-какие крохи в своей котомке, неодобрительно качал головой, слушая мятежные призывы; он принадлежал еще к старому поколению и мысль о восстании не умещалась в его мозгу. Он слишком привык к своей солдатской жизни; с восемнадцати лет он был легионером и хотел служить и дальше, как его отец, отдавший все свои силы военной службе и взявший отставку, лишь когда совсем одряхлел.
Зодик был доволен результатами вечера. Он погрузился в лабиринт извилистых улиц. Рядом с ним шел Фанний. Оба они направлялись к сенатору Флавию Сцевинию, у которого ночью сходились заговорщики.
Зодик с важным видом сказал привратнику пароль и вместе с Фаннием прошел в большой зал. Как обычно, он остановился посреди зала, воздел правую руку и застыл как статуя.
Восстание! – вымолвил он наконец.
Раздались насмешливые ответные клики: – Кассий!
Под этим прозвищем Зодик был известен в кругу заговорщиков, относившихся к нему с пренебрежением. Фанний же получил кличку «Брута». Он носил на груди кинжал и, приходя сюда, извлекал его и любовался блеском лезвия.
Заговор! – прохрипел он. – Матросы голодают! – продекламировал Зодик, – надо действовать…
– За дело, друзья, – подхватил Фанний.
Им, впрочем, не уделяли особого внимания. Радикалы относились к ним с презрением и брезгливостью.
Заговорщики стали совещаться. Настроение у них было унылое. Глава заговора, Пизон, именитый и богатый патриций, вложивший уже в свою политическую авантюру несметные суммы, наблюдал исподлобья людей, с которыми он из честолюбия связался.
Он не был приверженцем республики, но ненавидел Нерона и был готов какой бы то ни было ценой свалить его. Однако кормило выскользнуло из рук Пизона. Он теперь не мог ни двинуться вперед, ни отступить. Он сам не знал, куда его несет течение.
Стоявшие за ним аристократы были его единомышленниками. Главным поводом их недовольства являлось ограничение власти сената. Они отводили душу, высказывая здесь то, чего не смели говорить открыто. Но после таких излияний – их силы и решимость сразу выдыхались.
Хозяин дома, патриций Флавий Сцевиний, был в высшей степени осмотрительный человек. Хотя он вполне соглашался с тем, что Нерона необходимо свергнуть, он был в постоянном страхе и взвешивал каждое свое слово. Он торжественно составил завещание, собираясь нанести власти открытый удар, который он, однако, бесконечно откладывал.
Незаменимыми оказались недавние друзья Нерона – Африкан, Квинктиан и Тугурин: они теперь доносили о всех новых и новых злоумышлениях императора. Все эти патриции и богачи втерлись в круг настоящих революционеров лишь для того, чтобы стать еще богаче и влиятельней.
Крайний фланг заговорщиков, состоявший из искренних защитников народа, стоял за немедленное и открытое действие и вступил в эту ночь в пререкания с сторонниками Пизона.
Революционеры обрушились и на самого Пизона за то, что тот неожиданно и нелепо провалил их план. После того как ему удалось, согласно уговору, заманить Нерона в Байю, где император посетил его без провожатых – Пизон тем не менее уклонился от исполнения данной им клятвы убить тирана. Он вдруг вспомнил, что Нерон его гость, а римский патриций не может переступить закона гостеприимства.
– Время еще не подошло, – робко защищался Пизон, – на что нам опираться?
– На собственные силы, – крикнул голос с другого конца стола, где революционеры оживленно обсуждали свои планы.
Там сосредоточились главным образом низшие военачальники, рядовые воины и граждане. Вождем их являлся Люций Силаний. С ними за одно были центурион Сульпиций Аспер, народный трибун Субрий Флавий и Фоений Руф.
Из-за стола встал бледный, взволнованный юноша. Это был Лукан. Заслышав о заговоре – он примчался из ссылки. Его тонкое лицо было измождено. Вера, когда-то так ярко озарявшая его, погасла. Но зато в нем горела ненависть, взывавшая к мести. Мечта о возмездии придавала ему силы и стала целью его разрушенной жизни. Он пылал негодованием, хотя и казался усталым.
Он закончил в ссылке большой труд: свою «Фарсалию». Начал он ее прославлением императора, а кончил превознесением Помпея; Цезарь же представлялся им убийцей, возвышавшимся над горой трупов. Поэт стал пылким республиканцем, тосковавшим об утраченной свободе.
– Солдат трудно будет поднять против правительства, – сказал Пизон. – Оно их слишком связало. Они безвыходно живут в лагере, с женами и детьми.
– А народ? – спросила женщина с энергичным голосом.
Это была вольноотпущенная Эпитария. Она была стрижена. У нее было свежее, открытое лицо и сильное тело. Она уже давно агитировала в Мизенумской гавани, рассказывала о мрачных злодеяниях Нерона и призывала моряков к бунту.
– Народ, – грустно ответил Пизон, – о нас и слышать не хочет. Он идет рукоплескать возницам, а не нам. Я обо всем хорошо осведомлен. Плотники, синильщики, ткачи, пекари, кондитеры, мясники, лодочники и паяльщики – работают, кое-как перебиваются и боятся в случае их выступления лишиться и этой скудной поддержки для своих семей.
– Но убийца матери должен быть убит! – вскричал Лукан.
– Народ не знает, что это – дело его рук, – ответил Пизон.
– Он поджег Рим! – с негодованием воскликнул поэт.
– Это преступление тоже скрывают от народа!
– Чего мы ждем? – спросил с ненавистью Лукан.
– Более благоприятного момента, – скромно сознался Пизон.
– Мы будем ждать, пока нас всех не перебьют! – крикнул Лукан и иронически добавил: – Да здравствует императорская республика! – Дрожа от гнева, он бросал вокруг себя дикие взгляды. – Если не найдется римлянина, решающегося на это, – я собственноручно проткну кинжалом жалкого стихотворца, – с воодушевлением заявил Лукан.
– Пришло время доказать на деле свои убеждения! – воскликнула Эпитария.
– За кого Сенека? Его следовало бы привлечь к нам! – заметил кто-то.
– Он болен! – раздалось в ответ.
– Удобная болезнь: он сидит дома и философствует, чтобы потом примкнуть к победившим..
Лукан вспылил.
– Молчите! – повелительно крикнул он. – Сенека – поэт. Никто и ничто его не касается! – и он побелел, испугавшись собственного повышенного голоса.
Ему было стыдно, что страсти бросили его из ничтожной и низкой придворной среды в эту, такую же никчемную и низменную аристократическую компанию. Лукан был подавлен.
Оба лагеря претендовали на сочувствие Сенеки. Имя мудреца, которого все одинаково ценили – переходило из уст в уста. Весь зал перешептывался о нем, отсутствовавшем и не поддержавшем никаких сношений с заговорщиками.
Лишь Зодик и Фанний молчали. Они удобно возлежали на мягких подушках и не без интереса следили за происходившим, хотя и не уясняли себе положение вещей. Поэтому они предусмотрительно воздерживались от каких-либо возгласов поощрения или протеста. Зато, лишь только пыл улегся, они уверенно и свободно вступили на родное им поприще. Обновленные «Кассий» и «Брут» расположились подле патриция Пизона и обрисовали ему свои праведные труды; они заранее сокрушались при мысли об огромных усилиях, которые придется еще приложить для «поддержания мятежного духа». Пизон поморщился, поняв, к чему клонят эти речи, и вынул деньги.
Собравшиеся ни на чем не остановились. Никто не знал, чего достиг своим приходом.
Когда уже начали расходиться, со двора вбежала любимая хозяйская собака. Это было огромное животное, вполовину человеческого роста; оно было покрыто рыжей шерстью, цвет которой заставил Лукана улыбнуться.
– Нерон! – воскликнул он.
Окружающие были восхищены его находчивостью и стали повторять новую кличку собаки, единогласно ими принятую. Это было единственное, на чем они сошлись.
Эпитарию еще в ту же ночь схватили в предместьи, где она снимала скромную каморку.
Она не оказала сопротивления; не проронила ни слова. Молчала и в тюрьме. Солдаты били ее по лицу, кровь хлынула у нее ручьем из носа и изо рта, тело ее истерзали, но не выпытали у нее ни единого слова. Огненные, мятежные уста, так неутомимо взывавшие к морякам, как будто внезапно устали. Переступив темницу, Эпитария словно поняла, что дело народа погибло, и онемела.
Все обнаружилось: привратник, впускавший заговорщиков, пошел к Эпафродиту, и по его доносу хозяин его, Флавий Сцевиний, был арестован. У него нашли завещание. После этого задержали всех заговорщиков. Пизон покончил самоубийством. Увильнули только Зодик и Фанний, вовремя стушевавшиеся.
На допросах изобличенные в заговоре патриции бормотали имя Сенеки. И теперь оно было у всех на устах. Философ считался другом императора и, упоминая о нем, заговорщики надеялись смягчить свою участь.
Привлеченные к ответу аристократы и патриции сваливали вину один на другого и с каким-то озлоблением опутывали друг друга клеветой.
Сульпиций Аспер, при последнем издыхании, бросил в лицо Нерону свое презрение.
Многие были прикончены на месте при аресте. К Латерию ворвались в дом и, не позволив ему даже попрощаться с детьми, задушили его на глазах у семьи.
Нерон неистовствовал. Заговор, одно упоминание о котором прежде бросало его в дрожь, внезапно оживил его. Ему доставляло явное удовольствие выносить якобы обоснованные смертные приговоры. Суровые приказы сыпались один за другим.
Его мысли словно прояснились: он, наконец, знал, как ему поступать.
Тюрьмы уже были переполнены, но аресты все продолжались. Город замер от страха. Средь бела дня в домах царила полночная тишина. Люди не решались разговаривать даже в запертых комнатах: стены и те имели уши. На улицах лишь изредка показывалась человеческая фигура. В ней можно было с одинаковой вероятностью заподозрить затравленного обывателя и страшного усмирителя; в каждом незнакомце запуганный народ видел либо доносчика, либо будущую жертву доноса; иногда они сочетались в одном лице.
Кто говорил – казался приспешникам Нерона неблагонадежным; кто молчал – был им еще более подозрителен. Слово, сказанное против императора, влекло за собой верную смерть; превозносить его – было тоже опасно: это могло быть истолковано, как хитрость.
Сотни людей погибли лишь за то, что у них на чердаке были найдены пыльные статуи Брута или Кассия. Некоторые были тут же заколоты, потому что якобы наклонили голову перед их изображениями.
Императору стало легче: он посвежел от кровожадного восторга.
Он готовился к своему наслаждению, растягивал его, упивался им маленькими глотками. Он возбудил процесс против сенатора Фразея, которого втайне ненавидел за непосещение театра в дни его выступлений. После долгого добросовестного разбора дела он неожиданно приговорил к смерти злополучного сенатора, на том основании, что он напоминал ему тип строгого школьного учителя.
Всякий его импульс должен был быть тотчас же осуществлен. Когда его любимая тетка Лепида, воспитывавшая его в детстве, заболела и попросила слабительного, Нерон вместо этого послал ей смертельный яд.
Другой его тетке пришлось умереть, дабы освободить свои виллы, соблазнявшие Нерона.
Один из его наместников, осмелившийся однажды выкупаться в императорском бассейне – поплатился за это жизнью.
Нерону доставляло удовольствие разглядывать мертвых. Покойники лежали перед ним рядами, и он пытался разгадать сокровенный мир, затаившийся в их раскрытых глазах. Но это ему не удавалось.
Однажды, беседуя с патрициями, он обратил внимание на своеобразную седину старика – Сциллы. Подстрекаемый любопытством, он пожелал поближе посмотреть на его голову – но… без тела.
– Какой он и сейчас седой! – изумленно воскликнул император, когда ему принесли голову.
При виде отсеченной головы Рубеллия Плавта – Нерон весело улыбнулся…
– У него был всегда большой нос, но сейчас он еще комичнее!
Император не мог устоять против своих кровавых затей, против своего огромного, неугомонного любопытства. Он не мог остановиться.
Каждый вечер он, как когда-то, в сопровождении телохранителя выходил на улицу и останавливал первого встречного.
– Умри, кто бы ты ни был! – восклицал он и вонзал ему в сердце кинжал. Незнакомец падал на пыльную дорогу.
– Я невиновен, – хрипел он, испуская дух.
– Тем интереснее, – отвечал император и жадно наблюдал его агонию.







