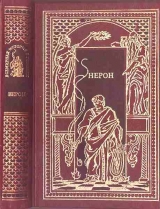
Текст книги "Нерон"
Автор книги: Висенте Бласко
Соавторы: Вильгельм Валлот,Д. Коштолани,Фриц Маутнер
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 38 страниц)
Вокруг его головы свистали метательные снаряды неприятеля. Почувствовав себя ослабевшим и одряхлевшим, он испустил вопль и, собрав силы, кинулся со стен, упав на останки Эросиона. Его голова, ударившись глухим стуком о камни, оставила на них кровавую полосу.
Почти весь день тянулась борьба. Сагунтцы, которые охраняли эту часть стены, слышали глухие удары кирок, стена, казалось, колебалась под их ногами и ничего не могли они поделать, чтобы помешать успехам неприятеля.
Постепенно защитники стали отступать. Актеон, опечаленный смертью своего соотечественника и убежденный в том, что бесполезно оставаться здесь, посоветовал сагунтцам отступать внутрь города. Он удалился с частью войска и, спустя несколько минут, стенная башня, подрытая в своем основании, закачалась и грохнула на землю, громко зашумев щебнем, который наполнил пылью воздух. За ней свалились еще две башенки и большая передняя часть стены, схоронив под мусором более упорных защитников, которые хотели оставаться на своем месте до последнего момента.
Грозный крик победной радости раздался среди неприятеля при падении стены. Сквозь открытую брешь с городских улиц видны были опустошенная местность и один край лагеря. Сверкало оружие в густом воздухе, покрасневшем от пыли щебня; виднелись приближающиеся темные массы и раздавался призывный рев рогов.
– Штурм!.. Карфагеняне входят!..
И со всех пунктов города сбегались вооруженные люди. Узкие улицы вблизи стен изрыгали группу за группой, которые являлись грозными, размахивающими мечами и факелами, с решительным видом людей, которые, обрекли себя на смерть. Перебравшись через груду щебня, они очутились у подножия пролома, и это открытое пространство, эта широкая рана, которая разрывала каменный пояс города, закрылась пестрой толпой, которая размахивала своим оружием, образуя плотную неразрывную массу.
Актеон находился в первом ряду. Подле него стоял Алько, который переменил свою палку на меч, и многие из тех спокойных торговцев, лукавые лица которых, казалось, облагородились героической решимостью умереть прежде, чем дать пройти врагам.
Ганнибал пеший вел войска, которые приближались с опущенными копьями или поднятым мечом. Пролом представлял собою узкое горло. Карфагенские войска, несмотря на свое численное превосходство, должны были суживать свой строй.
Войска Ганнибала взлетали, как ураган, на скат пролома и своим натиском приводили в движение толпу защитников; но никто не отступал: им оставалось умереть, не сходя с места, так как позади них находилась сплоченная масса людей, которая вынуждала их быть сильными, лишая возможности бежать.
Так длилось сражение несколько часов. Трупы нагромождались среди осажденных и осаждающих. Солнце начинало заходить, и Ганнибал чувствовал себя утомленным упорным сопротивлением, о которое разбивались все его усилия. Веря еще в свою счастливую звезду, он отдал приказ трубить для последнего наступления, но в то же самое мгновение произошло неожиданное.
Актеон не знал точно, откуда раздался голос.
– Римляне!.. – крикнул голос. – Наши союзники едут!..
Весть мгновенно распространилась. Из уст в уста переходил рассказ о том, что караульные башни Геркулеса увидели флот, направляющийся к порту, и никто не спросил, кто принес радостную новость к пролому стены. Все приняли ее, преувеличивая собственными новыми прибавлениями; и глаза загорались радостью, лица покрывались румянцем, и даже раненые, которые лежали среди мусора, воздевали руки, крича:
– Римляне!.. Уж едут римляне!..
Внезапно, без всякого порядка, охваченные одним инстинктом и точно побуждаемые невидимой силой, сагунтцы бросились из пролома вниз, кинувшись на осаждающих, которые выстроились для наступления.
Неожиданность нападения, сила изумления, крик: «Римляне! Римляне!», посеяли смятение в варварских народах Ганнибала. Не видя и не слушая своих полководцев, они обратились в бегство к своему лагерю.
Ганнибал бежал, крича от ярости, при виде, что осажденные во второй раз отбрасывают его войска. Ослепление его гнева было настолько сильно, что, не заметив, он очутился среди врагов и несколько раз был близок к тому, чтобы пасть под их ударами.
Спускалась ночь. Сражающиеся сагунтцы уже достигли лагеря, тогда как городская чернь разбрелась по полю, добивая раненых и намереваясь сжечь осадные машины. Все они были бы уничтожены, если бы не Марваал, наместник Ганнибала, который выступил из лагеря с несколькими когортами всадников. Осажденные, будучи не в силах сопротивляться кавалерии в открытом поле, стали медленно отступать. С наступлением ночи они снова заняли брешь, громко толкуя об этой победе, которая смягчила их уныние по поводу отсутствия римлян.
Актеон с несколькими сагунтцами из числа тех, которые более отличались в сражениях, принялся укреплять город. Он говорил старцам сената о той трудности, которую представляла продолжительная защита этой бреши. Невозможно повторить чудо этого вечера. И при свете факелов многочисленная толпа провела всю ночь, работая внутри пролома, разрушая черепичные крыши и разваливая ограды.
На следующий день, вечером, когда прекратились работы, неприятельская армия стала двигаться. Она шла в наступление массой, безмолвная и мрачная, со скрытым решением завладеть при первом же столкновении проломом, который накануне явился их позором.
Воины проходили под градом стрел и камней, которые осажденные пускали в них, и первые когорты, взобравшись на мусор, стали сражаться с отважнейшими сагунтцами, которые все еще отстаивали брешь. После недолгого сражения осаждающие завладели ходом в город и разразились победными криками.
Ганнибал отважно выступал во главе своих солдат, но, достигнув верхушки пролома, с досадой отступил на шаг.
Перед ним открывалось обширное пространство разрушенных домов, а дальше, за грудами щебня возвышалась вторая громадная стена, наскоро сооруженная, словно огромный веник смел к входу города все развалины, находившиеся внутри его. Большие камни, груды мусора, сломанные колонны, были нагромождены с тою же правильностью, как каменные плиты любой стены, а промежутки были заделаны ещё свежей глиной. Эта стена, воздвигнутая со всею поспешностью последними усилиями всего города, была более высока, чем прежняя, и, образуя кривую линию, соединялась с двумя куртинами передних стен, которые еще уцелели.
Аннибал побледнел от негодования, видя, что все его усилия привели к тому, что он завладел частью городской земли, покрытой развалинами.
Наверху новой стены видны были сагунтцы столь же решительные, как и накануне, и их стрелы и пращи задерживали наступление осаждающих, которые кончили тем, что начали отступать, оставаясь под защитой мусорных груд пролома.
Аннибал, очутившись за оградой города, размышлял, глядя на высоты Акрополя. Он предугадывал возможность постепенно потерять всю свою армию, если будет атаковать Сагунт со слабого и ровного места, где осажденные упорно защищали родную землю. И, позвав Марваала и Магона, он сказал им о необходимости занять возвышенный пункт и осаждать часть огромного Акрополя, чтобы оттуда производить осадные действия на город, вынуждая его сдаться.
Прошло несколько дней. Военные машины были перевезены к подножию горы и их метательные орудия били направлены против крайних стен Акрополя. Последние были стары и не восстанавливались из-за уверенности сагунтцев в неодолимости этой высоты.
Кроме того, численность защитников не была достаточна, чтобы растянуться на всем протяжении ограды Сагунта, тогда как неприятель располагал несметным войском, которое могло одновременно раскинуться в различных пунктах.
Однажды ночью Актеон встретил на Форо Соннику. Вместе с ней пришел Алько.
– Ты необходим старцам сената, – сказала гречанка. – Вот здесь Алько, который желает поговорить с тобой.
– Слушай, афинянин, – заговорил степенный сагунтец. – Дни проходят, а из Рима не прибывает необходимая помощь. Или наши послы не смогли прибыть, и Сенат Республики не знает о нашем положении; или в Риме предполагают, что Ганнибал снял осаду… Нам необходимо знать, что собственно мыслит о нас союзник; мы желаем, чтобы Сенат Рима подробно знал то, что происходит в Сагунте. Наши сенаторы, по моему указанию, остановились на тебе.
– На мне?.. Но чего же они хотят? – спросил Актеон, глядя на Соннику.
– Хотят, чтобы ты этой же ночью отправился в Рим. Вот тебе золото; возьми также эти таблички, которые послужат тебе, чтобы Сенат признал в тебе вестника Сагунта. Мы посылаем тебя не на празднество. Выход из города представляет собою большую трудность, но еще труднее будет встретить в этих опустошенных врагами берегах кого-либо, кто бы доставил тебя в Рим. Ты должен отправиться в путь этой же ночью; если возможно, сейчас же. Ты спустишься со стен Акрополя со стороны, противоположной той горе, где находится неприятель. Завтра, быть может, будет поздно. Спеши и возвращайся поскорей с желанной помощью.
Актеон взял золото и таблички, которые ему передал Алько.
– Никто лучше не сможет выполнить это, – сказал сагунтец. – Поэтому я и остановился на тебе. Ты провел всю жизнь, странствуя по свету; ты говоришь на многих языках и ты обладаешь хитростью и мужеством… Ты знаешь Рим?
– Нет; дед мой вел войну против Рима под командой Пирра.
– Теперь же отправляйся туда в качестве друга, как союзник, и да будет богам угодно, что наступит день, когда мы благословим минуту твоего прибытия в Сагунт.
Актеон, казалось, не решался ехать. Его останавливала мысль покинуть город в минуту опасности, оставить Соннику среди осажденной черни.
– Я чужеземец, Алько, – сказал он искренно. – Не боишься ли ты, что я сбегу, оставив вас, покинутыми?
– Нет, афинянин; я знаю тебя и потому поручился за твою верность перед сенаторами. Сонника также поклялась, что ты вернешься, если тебя не захватят враги.
Грек посмотрел на свою возлюбленную, как бы спрашивая ее, следует ли ему ехать, и она, принеся эту жертву, наклонила голову. Тогда Актеон стал решителен.
– Привет, Алько. Скажи сенаторам, что афинянин Актеон будет или распят в лагере Ганнибала, или же предстанет пред Сенатом Рима, чтобы поведать ему ваши скорби.
Он несколько раз поцеловал Соннику в глаза, и прекрасная гречанка, сдерживая слезы, пожелала проводить его с Алько до высоты Акрополя.
Они шли втроем во мраке, вначале по площадям старого города, затем по широким стенам Акрополя. Они погасили свой факел, чтобы не привлекать внимание осаждающих, и двигались, руководимые рассыпанным блеском звезд, которые, казалось, сверкали с большей силой, чем обыкновенно, из-за холода первой зимней ночи.
Когда они достигли стены, сагунтец нашел ощупью конец толстого каната, прикрепленного к амбразуре, и кинул его в пространство.
Грек медленно спустился по канату. Вскоре его ноги коснулись одной из скал, на которых покоилась стена. Он выпустил канат и, чуть ли не скатываясь, стал ощупью спускаться, почти падая, хватаясь за тощие оливковые деревья, которые росли на этих высотах.
У ног в черном безмолвии равнины сверкало несколько костров. Быть может, это были караульные лагеря, которые сторожили эту часть горы, или же мародеры, сопровождающие армию и расположившиеся здесь вдали от глаз Ганнибала.
Актеон достиг равнины и стал украдкой пробираться вдоль каменного косогора, приостанавливаясь много раз, чтобы прислушаться, сдерживая дыхание. Ему казалось, что его преследуют, что кто-то осторожно идет позади его. Он видел вблизи большой костер и выделяющиеся на его красном фоне силуэты мужчин и женщин.
Когда он приостановился, исследуя темные поля, чтобы найти путь, по которому мог бы уйти в сторону от костра, он почувствовал, что его хватают за плечи и осипший голос пробормотал ему на ухо, среди безумных взрывов смеха.
– Попался-таки!.. Напрасно прячешься!..
Актеон вырвался из этих рук и, вытащив широкий нож, который был у него за поясом, сделал прыжок, повернувшись лицом к неизвестному, чтобы защищаться. Это была женщина. Грек видел при мерцающем блеске звезд ее нерешительность и удивление.
– Ты не Херион, пращник? – проговорила она, протягивая свои руки к афинянину.
Они глядели друг на друга, почти касаясь в темноте один другого, и грек узнал в этой женщине несчастную волчицу, которая накормила его в первую ночь его прибытия в Сагунт. Она, казалось, была еще более удивлена этой встречей, чем афинянин.
– Это ты, Актеон?.. Кажется сами боги ставят меня на твоем пути, не взирая на то, что ты меня презираешь… Ты бежишь из города, не так ли? Тебе надоела богачка Сонника: ты не хочешь погибнуть, как все эти купцы, с которыми непобедимый Ганнибал покончит ножом. Ты поступаешь хорошо. Беги, ступай.
И она посмотрела с тревогой на соседний костер, как бы боясь приближения солдат, которые грелись вокруг огня, смеясь и выпивая вместе с группой волчиц порта.
Куртизанка, понизив голос рассказала греку, почему она очутилась здесь. Она была любовницей Хериона, балеарского пращника, который за минуту до того оставил своих приятелей, убежав от нее, чтобы не заплатить ей; ища его, она столкнулась с Актеоном. Но пращник может вернуться; могут приблизиться его приятели, привлеченные голосами, тогда будет плохо… Что он думает делать?
– Я хочу добраться до побережья – и вдоль его буду идти до тех пор, пока не встречу какой-либо лодки, которая возьмется доставить меня в Эмпорион или же Дению. У меня есть деньги, чтобы заплатить. Затем я поищу корабль, который сможет отвезти меня далеко, очень далеко отсюда.
Куртизанка, дав руку греку, повела его полями.
– Идем, – проговорила она. – Я провожу тебя до морского берега. Со мной подумают, что ты кельтиберский солдат, который ищет места, где бы провести ночь. Я накормила тебя в первую ночь твоего прибытия и спасу тебя в последнюю.
Они приближались к морю. Прошли вблизи нескольких костров, приветствуемые шутками солдат и женщин. Несколько кордонов стражи пропустили их без сомнения.
Все ближе слышался шум волн на песке морского берега. Они шли среди камыша, погружая ноги в тепловатую и липкую грязь солончаков.
Бедная волчица остановилась.
– Актеон, если желаешь, я последую за тобой, как раба. Но ты не хочешь… я знаю… Я ничем не могу быть для тебя. Ты уходишь навсегда, но я рада этому, так как ты бежишь от Сонники. Прежде чем уйти… поцелуй меня, мой бог… Нет, не в глаза… В губы… так…
И афинянин, тронутый добротой этого несчастного создания, поцеловал с нежным состраданием ее губы, сухие и вялые, которые издавали невыносимый запах вина балеарских пращников.
VIII. Рим
Жизнь Рима началась более чем за час до того, как первые лучи солнца обагрили стены Капитолия.
Римляне вставали при свете звезд. Катились в темноте по извилистым улицам деревенские тележки, проходили разбуженные пением петухов рабы со своими корзинами и продуктами хлебопашества; когда же начинало рассветать, все раскрывали свои двери, и горожане, не занятые в полях, отправлялись на форум, центр торговли и сделок, который начинал украшаться первыми храмами, сохраняя еще большие пустые пространства, на которых несколькими веками позднее воздвигались великолепные здания Рима, господина мира.
Актеон уже два дня находился в большом городе, поселившись вне городских стен, в трактире, содержимом греком. Он еще не мог отделаться от удивления, которое породила в нем эта суровая Республика, живущая почти в бедности, этот строгий народ земледельцев и солдат, который своей известностью заполнял мир и жил, более нуждаясь, чем любой поселянин окрестностей Афин.
Актеон надеялся предстать перед Сенатом в этот день. Большая часть Отцов Республики жила в деревне в сельских виллах, с простыми стенами и крышей из древесных ветвей, присматривая за работой своих рабов и, как Цинцинат и Камино, держа в руке плуг; когда же нужды страны призывали их в Сенат, они приезжали в Рим в своей тележке, запряженной быками, среди корзин с овощами и мешками с зерном, и с руками, намозоленными работой; перед въездом на форум они одевали тогу, проникаясь величием, которое им придавало это одеяние.
Грек пришел на форум на рассвете, застав там ту же многочисленную толпу всех дней. Здесь были почтенные римляне, облаченные в свою тогу и внушающие молодежи и своим клиентам, что умение выгодно поместить свой капитал, под хороший залог, это главная премудрость каждого гражданина; греческие педагоги, голодающие и пронырливые, всегда ищущие пристроиться у этого темного народа, более способного к борьбе, чем к знаниям; старые воины в сером платье, покрытом заплатами, думающие с тоской о минувших войнах с Пирром и Карфагеном и, несмотря на свои шрамы, которые покрывали их тела, преследуемые своими кредиторами оскорблениями и угрозами быть обращенными в рабство; тут была и чернь, без всякой одежды, кроме короткого плаща из грубого сукна, заканчивающегося остроконечным капюшоном, многочисленные римские плебеи, эксплуатируемые и угнетаемые патрициями, постоянно мечтающие, как об исцелении своих бедствий, о новых разделах общественных земель, более половины которых постепенно переходило в руки богачей.
На ступенях Комиций собирались, чтобы столковаться о завещании какого-либо родственника, который скончался. Подле трибуны для речей несколько заслуженных центурионов в бронзовых котурнах и шлемах, опираясь о палки из переплетенных виноградных лоз, служащих эмблемой их военного сословия, толковали об осаде Сагунта и о дерзости Ганнибала, выражая желание немедленно двинуться против карфагенян.
На больших глыбах лазуревого камня, которым мостили форум, продавцы горячих напитков уставляли свои большие чаши, ударяя по ним кастрюлями, чтобы привлекать народ; у подножья же ступеней храма Согласия несколько этрурских гаеров, в ужасных картонных масках, начинали представление своей смешной пантомимы, заставляя сбегаться со всех сторон детей и праздношатающихся.
Было холодно. Дул леденящий и влажный ветер понтийских лагун; небо было серо; от многочисленной толпы, собравшейся на форуме, исходил глухой гул, мрачный и непрерывный.
Актеон сравнивал эту площадь с веселой афинской Агорой, а также с Форо Сагунта в его мирные дни. Риму не доставало греческого веселия, сладостного и оживляющего легкомыслия народа-художника, который презирает богатства, и если занимается торговлей, то для того, чтобы лучше жить. Это был народ холодный и понурый, стремящийся к прибыли и бережливости, не знающий идеала, лишенный всякой промышленности, кроме земледелия и войны, действующий без инициативы и без молодости.
«Кажется, римлянину, – думал афинянин, – никогда не бывает двадцати лет».
И Актеон думал о том, что, с присущей греку наблюдательностью, он замечал здесь в течение двух дней своего пребывания: жестокая дисциплина семьи, религии и государства, которой подчинялись все граждане; полнейшее незнание поэзии и искусства; железное воспитание, основанное исключительно на долге, обязывающем каждого римлянина долго нести тягостное бремя повиновения, чтобы впоследствии самому подчинять себе других.
Отец, который в Греции был для детей другом, в Риме являлся тираном. Латинский город признавал лишь отца семьи: жена, дети считались почти наравне с рабами; они были орудиями труда, без воли и имени. Боги внимали лишь отцу семейства; в своем доме он являлся жрецом и судьей; он мог убить жену, трижды продать детей и его авторитет над потомством не исчезал с годами, заставляя трепетать победоносного консула, всесильного сенатора, когда они находились в присутствии своего отца. И в этом мрачном и деспотическом режиме, еще более печальном, чем спартанский, Актеон угадывал медлительно растущую таинственную силу, которая впоследствии прорвет свою оболочку, захватив мир своими железными объятиями.
Грек ненавидел этот мрачный народ, но и удивлялся ему.
Его грубость, воинственный и суровый дух расы ярко проявлялись на форуме. На высоте священной горы, на Капитолии, находилась настоящая крепость с голыми и мрачными стенами, лишенными тех украшений, которые придавали блеск вечных улыбок стенам Афин. Храм Юпитера Капитолийского еле выступал над стенами со своей низкой крышей и рядами крепких колонн, похожих более на башенки. Внизу на форуме та же тяжелая и мрачная уродливость. Здания были низки и основательны; они более походили на военные сооружения, чем на храмы богов и общественные здания. От форума расходились большие римские дороги, являющиеся единственным украшением, которое допускал Рим ввиду удобства, приносимого этими дорогами в военном и земледельческом отношениях. С форума виднелась идущая в прямом направлении дорога Апия, вымощенная голубым камнем, по обеим сторонам с рядами памятников, которые начинали возвышаться непосредственно за городом; она терялась среди селения по направлению к Капуе; с противоположного же конца шла дорога Фламиния, которая направлялась к морскому берегу. На огромном пространстве, точно волнистые красноватые ленты, выделялись первые водопроводы, выстроенные под наблюдением Апия, Клавдия, для снабжения города свежей горной водой.
За исключением нескольких грубых сооружений, этот громадный город, который мог выставить армию более, чем в сто пятьдесят тысяч воинов, производил грубое и жалкое впечатление.
Преимущественно стояли большие хижины с круглыми каменными или глиняными стенами и коническими крышами из досок и бревен. После того, как галлы сожгли Рим, город перестроился в один год, беспорядочно, с большой торопливостью. В некоторых кварталах настолько были стиснуты дома, что пройти между ними мог только один человек, в других же – они были раскинуты, точно деревенские виллы, находящиеся внутри городских стен и окруженные небольшими полями. Улиц не было, шли извилистые продолжения дорог, ведущих в Рим, артерии, образуемые случайно, применяясь к причудливым излучинам строений, и внезапно врезывающиеся в большие необработанные пространства, где нагромождались отбросы и нечистоты и по ночам каркали вороны, клюющие падаль околевших собак и ослов.
Суровая бедность этого города земледельцев, заимодавцев и солдат отражалась на внешнем виде его обитателей. Высокопоставленные матроны пряли у дверей своих жилищ шерсть и коноплю, одетые в тунику из грубой ткани и лишь с несколькими бронзовыми украшениями на груди и в ушах. Первые серебряные монеты были вычеканены вслед за войной с сашитами; медный ас, грубый и тяжелый, являлся ходячей монетой; роскошные же греческие предметы, доставленные легионами после сицилийской войны, пользовались почти поклонением в домах патрициев, причем на них глядели издали, как на талисманы, которые могли бы развратить добродетель суровых нравов римлян. Сенаторы, владевшие большими поместьями и сотнями рабов, проходили по форуму с гражданской надменностью, в тоге, покрытой заплатами. Во всем Риме существовала одна только серебряная столовая посуда, являющаяся собственностью Республики, которая переходила из дома одного патриция к другому, когда приезжали послы Греции и Сицилии или же какой-либо могущественный карфагенский купец, привыкший к азиатским утонченностям, и в честь гостей необходимо было устраивать пиры.
Актеон, привыкший к спорам философов афинской Агоры, к беседам греков о поэзии и о таинственных свойствах души, ходил по форуму со вниманием прислушиваясь к разговорам, ведущимся на латинском языке, который своею грубостью и негибкостью резал его утонченный слух афинянина. В одной группе шла речь о здоровье стад и о ценах на шерсть; в другой – заключалась сделка по продаже быка, в присутствии пяти совершеннолетних граждан, которые являлись свидетелями. Покупатель отсыпал в чашу весов бронзовые монеты.
Невдалеке легионер, с изголодавшимся лицом, брал заем у старика, предлагая ему под залог свой шлем и походную обувь.
Ему удалось встретиться с Катоном, который объяснил Актеону, что сенат не хочет помочь Сагунту.
– Ты достигнешь очень немногого, – сказал он. – Сенат страдает теперь одной болезнью: излишним благоразумием. Я не верю, чтобы Ганнибал был великим полководцем, раз он проявляет свою отвагу на осаде Сагунта, но я не могу равнодушно выносить трусости, которую в данном случае проявляет Рим. Он хочет употребить все усилия, чтобы поддержать мир; он страшится войны с Карфагеном, тогда как война неизбежна, Карфаген и наш город нельзя держать в одном мешке. Мир тесен для них двух. Я всегда повторяю одно и то же: «Разрушим Карфаген!», а надо мною смеются. Несколько лет тому назад, когда там разразилась война наемников, мы могли бы с большой легкостью уничтожить этот город. Если бы послали тогда в Африку часть легионов, восставшие нумидийцы и наемники покончили бы с Карфагеном. Но мы боялись. Рим после победы исключительно занялся врачеванием своих ран. Мы боялись ухудшить положение, допустить восторжествовать сброду солдат, и мы спасли Карфаген, пособив ему разбить восставших наемников.
– Теперь совершенно другие условия, – энергично заметил Актеон, – Сагунт союзник Рима и, если Ганнибал осаждает его, то исключительно потому, что досадует на город за покровительство Рима.
– Да, потому-то мы римляне, и интересуемся судьбою Сагунта, но большего ничего не ожидай от Сената. Его более волнуют пираты Адриатики, которые опустошают наши берега, а также восстание Деметрия Фаросского в Иллирии, против которого мы отправляем войска под покровительством Луция Эмилио.
– А как же Сагунт? Если вы покинете его, как выдержит он натиск Ганнибала, под командой которого соединились самые воинственные народы Иберии. Что скажут несчастные сагунтцы о верности, с которой Рим выполняет обязательства, принятые им на себя по отношению к своим союзникам?
– Постарайся убедить Сенат всеми этими доводами. Я вижу в Карфагене единственного врага Рима… Если бы все были таковы, как я!.. Я бы принял дерзкий вызов сына Гамилькара и объявил бы войну Карфагену, отправившись для борьбы на его собственную территорию. И свершилось бы то, что должно было бы свершиться, так как мы непобедимы. Италия представляет собою сплоченную массу и, как мы передовые караульные, у нас есть на востоке Иллирия, в части, глядящей на Африку – Сицилия, а на западе – Цердания; тогда как земли, которыми владеет Карфаген, образуют длинную ленту девятисот языков, которая тянется вдоль большой части морских берегов Африки всего побережья Иберии, но лента эта настолько узка, и населена такими различными народностями, что ее легко можно разорвать. Пусть Рим проиграет сто сражений, он всегда останется Римом; Карфагену же достаточно одного поражения, чтобы он распался, как народ.
– Если бы все думали, как ты, Катон!..
– Если бы Сенат думал, как я, римские легионы были бы в Сагунте.
Они побродили еще некоторое время по форуму, беседуя о нравах Рима, разбирая их и сравнивая с нравами Афин. Римлянину необходимо было еще повидаться с некоторыми патрициями, и он расстался с греком.
Оставшись один, Актеон почувствовал себя проголодавшимся. До наступления часа, когда он должен был отправиться в Сенат, еще оставалось много времени. Утомившись глухим волнением форума, он ушел оттуда, и, обогнув склон Капитолия, направился в улицу более широкую, чем другие, с каменными зданиями, сквозь открытые двери которых можно было заметить относительное благосостояние патрицианских семей.
Он вошел в булочную, кинув на пустой каменный прилавок ас. Из какого-то углубления, вроде погреба, раздался жалобный голос. Грек увидел в мрачной пещере жернов, размалывающий рожь, и раба, который с большими усилиями приводил в движение камень.
Раб вышел, полуголый, лоснящийся от пота, который струился со лба, и, взяв деньги грека, дал ему круглый хлеб.
Грек с аппетитом съел свой хлеб, проходя по форуму. Он ждал часа собрания Сената и, чтобы использовать свое время, поднялся на Палатинский холм, священное место, где была колыбель Рима. Здесь находилась пещера, в глубине которой волчица кормила грудью Ромула и Рема. У входа в узкую пещеру раскинула свои вековые, обнаженные вследствие зимы, ветви смоковница, знаменитое дерево, под тенью которого играли близнецы, основатели города. Возле дерева, на гранитном пьедестале, возвышалась волчица из темной и блестящей бронзы, творение этрусского артиста, с ужасной широко раскрытой пастью и с животом, покрытым двойным выменем, к которому жадно припали двое нагих малюток.
Актеон глядел с этой высоты на громадный город, волнообразно раскинувший среди семи холмов свои черепичные крыши. Невдалеке от Палатина возвышался Капитолий, недоступная крепость Рима, расположенная на Тарпейской скале. Грек направился с одной возвышенности на другую, чтобы увидеть вблизи храм Юпитера Капитолийского, более известный по своей славе, чем по красоте.
Он миновал мрачный храм Марса, который занимал самое высокое место Палатина, и, идя по тропинке между крутыми скалами, прошел к Капитолию. По пути он встретил жрецов Юпитера, которые шествовали с священной суровостью, как бы всегда совершая обряд жертвоприношения своему богу. Встретил весталок, закутанных в свои широкие белые ткани и идущих своей мужественной поступью. К храму Марса подымалось несколько воинов, с широкой, прикрытой медью грудью, с обнаженными, бедрами, на которые спускались с пояса шерстяные повязки; с рукой, опущенной на рукоятку короткого меча. Они с энтузиазмом говорили о близком походе в Иллирию, не вспоминая о тягостном положении своих иберийских союзников.
Актеон вошел в священную ограду Капитолия, окруженного темными стенами. Это была древняя Тарпейская гора, с ее двумя вершинами, соединенными большой площадкой лестницы. Самая высокая, северная часть, была занята арксом, укреплением Рима; на южной же части находился храм Юпитера Капитолийского, окруженный крепкими колоннами.
Грек вошел в крепость, прославившуюся своей несокрушимостью во время нашествия галлов. Перед храмами, которые высились в этом сильном укреплении, он увидел в лужице священных птиц: гусей, которые своим криком, среди ночной тишины, спасли Рим от завоевателей. Затем он прошел нижнюю площадь, которая как бы разделяла холм на две части, и приблизился к великому святилищу Рима.
Лестница в сто ступеней вела в храм, выстроенный во время последнего Тарквиния, в честь трех римских божеств: Юпитера, Юноны и Минервы. Знаменитый храм с тремя целлами[8]8
Та часть храма, где помещалось изображение божества.
[Закрыть] или священными приделами соединился тремя открытыми дверями под одним общим фронтоном. Центральный придел был выстроен в честь Юпитера, а два других по сторонам посвящены двум богиням. Тройной ряд колонн поддерживал фронтон, по углам которого стояли на дыбах каменные лошади грубой работы. Два ряда колонн тянулись вдоль храма, образуя портик, под тенью которого проходили пожилые римляне, беседуя о городских делах.







