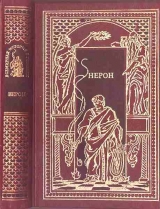
Текст книги "Нерон"
Автор книги: Висенте Бласко
Соавторы: Вильгельм Валлот,Д. Коштолани,Фриц Маутнер
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 38 страниц)
V. Ночь борьбы
Кончив вечернюю трапезу, император лег в постель, чтобы погрузиться в благодатную безмятежность сна… Он тотчас задремал, но через несколько минут вскочил: страх разбудил его.
«Нет для меня лекарства», – подумал он.
Его окружала ночь; мягкая, бархатная, непохожая на другие; непроглядно-черная, безбрежная ночь, в бездну которой он падал. Последнее время его часто охватывало это ощущение. Просыпаясь, он не сознавал, где находится и как долго спал: минуту ли или целый год? Предметы теряли свои очертания, расплывались в пространстве; окно подступало к кровати, дверь убегала…
Он протер глаза, но голова продолжала кружиться.
Извне доносилась незатейливая мелодия. Она как бы сливалась с тишиной и, если не вслушиваться, терялась в ней. Кто-то играл на флейте, очевидно вблизи дворца. Ему, должно быть, не спалось, и он вновь и вновь упорно и ревностно наигрывал свою песенку, состоявшую всего-навсего из нескольких тонов.
Нерон призадумался. «Кто бы мог быть этот флейтист?» – Он посмотрел из колонной галереи в сад, но никого не увидел… Музыкант оставался незримым, как сверчок.
Утром император приказал разыскать его. К нему привели девятнадцатилетнего египетского юношу. Он не знал своих родителей, но казался счастливым и удовлетворенным. С помощью переводчика Нерон допросил его.
– Как тебя зовут?
– Эвцерий.
– Ты военный музыкант?
– Нет.
– Зачем ты тогда играешь на флейте?
– Это доставляет мне радость.
– Кто тебя научил?
– Никто.
Ночью Нерону опять не спалось, и он снова прислушивался к песне флейтиста.
– Вот счастливец! – подумал император.
Он еще долго метался. Кошмары следовали один за другим. Когда он, наконец, проснулся, перед его глазами, в пустыне мрака, ожили поблекшие, давно закатившиеся воспоминания.
Он снова бродил по забытым улицам и покоям, виденным в детстве. Он вновь жил в доме своей милой, веселой тетки Лепиды, где были деревянные лестницы и темные помещения. Во дворе, среди осыпавшихся камней и из расщелин мраморных плит росли высокие травы и причудливые цветы. Нерона привезли туда после смерти отца трехлетним мальчиком; там он рос. Он жил в полутемной тесной комнатке вместе с канатным плясуном из цирка Максимус.
Это был долговязый мальчик, тонкий, как веретено, с длинной шеей и костлявыми скулами. Он очень нравился Нерону и был первым человеком, который его заинтересовал и возбудил в нем зависть.
Молодой плясун мало ел, чтобы не полнеть. Вечерами он упражнялся в своей комнатке. Он взбирался на канат и, когда думал, что его маленький сосед спит, принимался плясать. Но Нерон, лишь симулировавший сон, с бьющимся сердцем следил за ним из своей кроватки; он еще не понимал, что все это означает, но ревниво хранил тайны своих наблюдений.
Каждый вечер он дожидался маленького актера и видел, как его легкое тело колеблется на канате, словно от дуновения ветра; на стене, при слабом огоньке маленького светильника, вырисовывалась капризно порхающая, фантастически удлиненная тень.
Был у Нерона и другой сосед: друг циркового плясуна, называвший себя цирюльником. Но его никогда не видели стригущим или бреющим кого-либо. С утра до вечера он болтал. Добродушный шутник, он подражал крику петуха, блеянью овцы, шипению змеи. Он был также чревовещателем, притом столь искусным, что всех вводил в заблуждение… Он забавлял весь дом и особенно любил маленького Нерона.
Он брал его на колени, сажал к себе на спину, убегал с ним в глубь сада…
Император изумился ясности, с какой мысленно видел теперь перед собой плясуна и цирюльника; оба были друзьями его раннего детства; до сих пор он о них никогда не вспоминал.
Он снова крепко уснул; храпел после обильной вечерней трапезы и говорил со сна.
Разбудил императора собственный крик, он испугался своего же бреда и сердцебиения, отдававшегося в ушах глухими ударами.
– Что за ночь!
Нерон приподнялся и посмотрел в окно, не светает ли. Но все было еще окутано мглой; только флейтист играл невыразимо-нежно. Нерон упал обратно на подушку… испустил стон… затем стал издавать звериные звуки, подобные реву первобытного дикаря; замирая, они переходили в тихую жалобу.
Если бы он только мог петь или по крайней мере кричать! Громко кричать, чтобы услыхали все: и злые духи под землей и бессмертные боги; чтобы спящий вскочил и внимал ему одному: не императору, а тому, кто поет, вопит, рычит – внимал бы его могучему голосу!
Он мрачно задумывался над тем, что делать, словно предстояло осуществить нечто исключительное; затем порывисто вскочил с ложа. Два раба, стоявшие на страже у опочивальни, зажгли факелы и проводили императора в столовую. Зевнув, он приказал подать еду, хотя вечером насытился до отказа.
Он чувствовал горечь во рту и потребовал, для вкуса, сладостей. На продолговатом стеклянном подносе принесли сахарную рыбу с остовом из орехов; в серебряных чашах подали ломти апельсинов, утопавшие в меду; на золотой посуде была разложена тонко нарезанная дыня, приправленная корицей и имбирем. Она плавала в густой, сладкой пене. Нерон размешал се тонкими палочками, которые затем поднес к иссохшим губам.
Он был возбужден и не находил себе покоя; ничто его не удовлетворяло. Ему хотелось вина. Он осушал кубок за кубком, окружающие предметы словно обрушились на него, и он стал их особенно остро воспринимать: его приятно щекотал терпкий запах обивки из крокодиловой кожи, и в то же время он жадно вдыхал аромат роз, украшавших зал.
В смятении, от которого учащалось биение его сердца, в забытьи и одиночестве сидел он за столом и не скучал. Настроения в нем быстро сменялись. Он следил за отблесками горящих факелов и не замечал, как пролетает время. Забрезжил рассвет. Летнее утро внезапно наводнило потоками фиолетового света императорские сады и залы; город и окрестные холмы словно запылали.
– Я хочу остаться один! – крикнул Нерон стражнику, удаляясь во внутренние покои.
– А если кто-нибудь пожелает войти?
– Никого не допускать.
– Императрица Агриппина велела доложить о себе.
– Меня нет!
– А если придет Бурр?
– Я ушел.
Нерон приказал запереть двери. Он выбежал на середину комнаты; он так истосковался по одиночеству, что рвался ему навстречу. Снаружи долетали обрывки слов. Нерон зажал уши. Он терпеть не мог этот жесткий латинский язык! Ему хотелось бы слышать всегда только греческую речь…
Он сумрачно сосредоточился. Что-то в душе подсказывало ему, что сейчас исполнится долгожданное: откроется новый путь. Развязка недалека!..
Окутанные туманной пеленой его овевали жарким дурманом словно претворившиеся в плоть слова… Он желал захватить их в плен. Воинственным движением приготовился он к борьбе…
Но в то же время он испытывал девичью робость; дыхание его прервалось…
Все, что он выстрадал недавно и в былые годы – вновь всколыхнулось в нем, и на него снизошла чудесная, доселе неведомая чуткость. Он трепетал; слезы заволокли глаза.
Он плакал от наплыва чувств и от вина; два хмеля как бы слились воедино. Все, что он в жизни перетерпел, болело в нем теперь в тысячу раз сильнее, чтобы вмиг – перестать болеть.
Следуя смутному побуждению – он стал писать. В стройной гармонии выливались великолепно звучавшие греческие гекзаметры. Но у Нерона зарождалось недоверие к собственному стиху; он вникал, испытывал, исправлял; был мрачен, как убийца, готовящийся к решительному и роковому преступлению.
Нерон писал о царе Агамемноне, убитом собственной супругой Клитемнестрой.
И об Оресте, оплакивающем отца, доблестного вождя и богоподобного героя, бледное, окровавленное лицо которого, с печальной улыбкой на устах, словно смотрит на осиротевшего сына.
То, что прежде Нерон улавливал как бы сквозь туман – ныне осветилось; покрывало, навевавшее предчувствие, но скрывавшее тайну, приподнялось… Покорно, один за другим, падали дымчатые покровы и пробивались образы, пронизанные ярким светом, явственно долетали их голоса…
Нерон стал проясняться… Жуткое – его блаженно волновало, страшное – ввергало ею в упоительное оцепенение и восторг С каждым мгновением росла его уверенность в себе. Он чувствовал себя властелином слова. Нужно было лишь писать – неустанно писать… Вдруг он остановился… Он увидел перед собой свое законченное произведение. Отбросив палочку, которой он писал, и взяв другую, он запечатлел еще несколько слов. Затем он стал резвиться от радости, как ребенок; скакал, размахивая руками, не знал, как излить свой восторг.
В комнату врывался ослепительный свет.
Оставалось только отделать стихи. Нерон и с этим быстро справился. Указывая на восковые дощечки, он крикнул во все горло: – Кончено! Кончено! Кончено!
Ему подали колесницу. Он был исполнен непередаваемого блаженства и спокойствия, невыразимой гордости. Он мчался по городу; под ним словно бежала земля, над ним – небо, по сторонам – дома; все пришло в движение, все ожило; возница погонял лошадей, чтобы они еще быстрее летели к той новой, неведомой и необъятной жизни, которая отныне приобрела для Нерона великий смысл. В то время как струя воздуха резала его посвежевшее лицо, а золотистые кудри на ветру развевались, грудь его бурно вздымалась: в нем кипела молодость, и перед ним открывалось безграничное будущее, заключавшее в себе все возможности.
Возвратившись домой, Нерон занялся делами. Он принял Бурра и нескольких патрициев. В тот же день он распорядился, чтобы солдатам к обеду дали вино.
VI. Первый шаг
Радость Нерона постепенно принимала определенный облик. Она перевоплотилась; теперь он мог ее созерцать и оценивать.
Насытившись собственным восторгом и не находя в самом себе новых откровений, он испытывал потребность сообщить свою радость другому человеку. Он послал за Сенекой.
Мудрец вошел, охваченный неприятным воспоминанием их последнего спора.
– Император! – произнес он, торжественно приветствуя Нерона.
Нерон запротестовал.
– Не называй меня так. Ты меня этим только смутишь. Не ты ли воспитал меня? Тебе обязан я всем самом ценным!
– Ты милостив!
– Называй меня сыном, ибо ты мне отец.
Император подошел к нему и смиренно, с сыновьим благоговеньем, поцеловал его.
Сенека охотно продолжил бы их философскую беседу, но Нерон ласково его прервал.
– Расскажи мне, что ты теперь пишешь, – попросил он.
– Я заканчиваю третий акт «Тиеста».
– Как он тебе удается?
– Кажется недурно.
– Я хотел бы его послушать!
– Разве это тебя так интересует? – с удивлением (.просил Сенека, ибо император никогда раньше не выражал подобного желания.
– Да! Очень.
Сенека для вида стал скромно отказываться, но затем все-таки прочитал весь акт.
С первой же сцены – Нерон начал скучать. Он не мог сосредоточиться на этих стихах, проникнуться их в строением, почувствовать их изысканность и пафос.
Он искоса поглядывал на рукопись, с нетерпением ожидая ее конца. Но Сенека читал долго. Тем временем император, поглощенный своими думами, закрыл глаза и про себя повторял собственную элегию. Когда наконец чтение драмы закончилось, он встал.
С притворным, преувеличенным энтузиазмом он обнял учителя.
– Великое произведение! – воскликнул он, – такого ты до сих пор еще не создал. Оно – совершенство.
Сенека продолжал оставаться под чарами собственных упоительных слов. Чтение его утомило; он вытер лоб и стал рассеянно искать чего-то глазами, словно только что проснулся. С трудом подобрал он вежливые обыденные слова, чтобы поблагодарить императора.
Нерон нетерпеливо расхаживал взад и вперед. Прислушиваясь к трепету своего сердца, он, наконец, сказал:
– И я кое-что написал. Элегию…
Сенека не сразу понял.
– Ты? – переспросил он.
– Да, – заговорил Нерон робко и взволнованно. – Я попытался… Об Агамемноне…
– Трудная тема! – Ответственная задача! Если бы, быть может… но я даже не смею тебя об этом просить… я подумал только, что если бы ты мне ее прочел…
– Тебе бы это наскучило!
Сенека театральным жестом изобразил протест.
– Нет! – проговорил император, – я не могу тебе ее прочесть. Она длинная, очень длинная. Впрочем, я согласен, но при одном условии: обещай прервать меня, как только тебе наскучит!..
И Нерон тут же начал декламировать свою элегию на смерть Агамемнона.
– Понравилось? – порывисто спросил он, едва успев кончить.
– Чрезвычайно!
– Будь откровенен!
– Я откровенен, – ответил Сенека, нарочито взволнованным голосом. – Особенно хорошо начало!
– И у меня такое же чувство… Да, начало! Оно мне удалось! А конец?
– Тоже прекрасен! Какое великолепное сравнение: – «Ночь – подобна печали»…
– Да, – проговорил Нерон, – и мне понравилось это уподобление!
Сенека украдкой потирал щеки, словно силясь стереть равнодушие, которое, как серая паутина, заволокло его лицо под влиянием растянутых, деревянных стихов Нерона.
Ему хотелось, чтобы щеки его запылали, дабы он мог лучше изобразить восторг. Он чувствовал, что должен что-то сказать.
– Отрадно, – проговорил он, – что уже первое произведение – так удачно.
– В самом деле?
– Да, очень!
– А не слишком ли оно длинно?
– Отнюдь нет! Читателя надо подготовить, соответственно настроить…
– Я ведь мог бы сократить его, – с притворной ученической готовностью предложил император.
Он это сказал с исключительной целью вызвать новые похвалы и тотчас, как лиса, насторожился.
– Каждая строка стихотворения не может быть образцовой, – проговорил учитель, – но вместе взятые они составляют нечто цельное и гармоничное.
– Значит, мне не следует ничего вычеркивать?
– Разве только из середины…
– Что именно?
– Быть может… – Сенека запнулся. – Он взял рукопись и с опытностью посвященного поэта сразу наткнулся на нужные строки: – Быть может, изъять вот это?
– Это?
– Впрочем, – сказал Сенека, – и этого жаль. Все построение было бы нарушено. Кроме того – строфы эти имеют такой чудесный ритм!
– Чудесный ритм!.. «Скорбный родитель» – шестистопный размер! «В подземном» – цезура в середине третьей стопы! – и император начал скандировать свое стихотворение: «Скорбный родитель, в подземном мраке…»
Он ничего больше не хотел слышать – только себя, свой голос, свои стихи. Он их еще раз прочел, с нарастающим чувством, со слезами на глазах, с обрывающимся дыханьем… Каждое слово он сопровождал широкими жестами и всю элегию окутал в облака собственных эмоций.
Он был исполнен своим произведением, как человек, сам того не зная, заполнен собой, туманом и чадом собственной крови, которые застилают его мозг и ослепляют его глаза.
Императора охватил страх за свои стихи: вдруг они перестанут нравиться Сенеке, или даже ему самому! Поэтому он читал более слабые места с особым подъемом и экспрессией, как будто их несовершенство было нарочитым поэтическим приемом.
Ему была знакома каждая буква текста, в котором он сконцентрировал все страдания мучительных долгих недель. Он уже должен был бы опротиветь ему, как давно не смененная рубашка, пропитанная потом и испарениями собственного тела.
Но Нерон, напротив того, пытался выявить все новые стороны своего произведения, дабы и у Сенеки вызвать то неожиданное чувство, которое изумляло его самого в период первых восторгов творчества.
Никогда прежде не ощущал он такого лихорадочного трепета, – он, венценосец, властелин мира!
Он воспарил на крыльях стиха, но в поднебесьи дрогнул. Сердце так буйно билось, что заглушало в его сознании собственный голос. Однако, у него еще хватало силы украдкой поглядывать на Сенеку. Учитель сидел на низкой скамье; с притворным интересом повторял он отзвучавшие строфы элегии, шевеля тонкими, льстивыми губами.
Он не высказывал никаких возражений, а лишь одобрительно покачивал головой, поощрял, расточал непомерные похвалы… Но слова его как будто противоречили выражению глаз.
Заметив это, Нерон стал терять нить: он смотрел больше на Сенеку, чем на рукопись. Он понял, что учитель в душе не одобряет его стихов, и стал хитро обороняться. Он пропускал мимо ушей поощрительные слова, дабы не вызвать вслед за ними искренней критики. Ему хотелось продлить эту неизвестность, ибо сменить ее, казалось ему, могло лишь страшное ничто. Он держал себя высокомерно, резко, непреклонно. Но за одно слово – он отдал бы все, был готов целовать ноги старого учителя.
Какого он ждал слова или знака – в этом он не отдавал себе ясного отчета.
Но он представлял себе некую огромную, струящуюся ему навстречу теплоту, излучаемую и влажным взором, и лбом, несущим отблеск ответного вдохновения.
Теплоту, в которой боль, замкнутая в его стихах, растопилась бы и стала бы достоянием другого человека…
Этот знак, трепетно жданный, всеопределяющий и всеразрешающий – не являлся ему.
Но дойдя до конца элегии, которую он уже вторично читал Сенеке, он почувствовал, еще при последней строке, лихорадочное возбуждение. Гордым движением он кинул рукопись на стол.
Он был удовлетворен.
VII. Сомнение
День за днем Нерон, почти счастливый, пребывал в этом полусознательном состоянии. К нему вернулся прежний покой и даже сон. Он вновь и вновь перечитывал свое произведение; оно смягчало его страдание. Он созерцал в нем самого себя, как безобразный человек, который лишь в сумерки наблюдает в зеркале свое лицо. Нерон пока еще боялся света…
Затем он пробудился от опьянения, и оно сменилось отвращением. Снова бродил он с щемящей головной болью и не смел даже думать о своей элегии.
Когда он внезапно извлек ее, он вскрикнул от стыда.
Пустота зияла в каждой строке. Избитая мысль, расплывчатые эпитеты, нестройно-перемешанные, тусклые краски. Ему претило от скуки, непередаваемой и нестерпимой, которая притаилась в каждой букве его стихов, и которую нельзя было изжить никакими стонами.
Когда-то в горячке ему приснилось, что у него, во рту – раскаленный песок, впитывающий его слюну и хрустящий в зубах. Теперь его преследовал подобный же кошмар.
Он изобличал себя в бездарности и тупости, терялся в бессмысленной пустоте своих стихов. Наконец, исполненный мук, он принялся за их исправление.
Он выкинул середину, вследствие чего образовалась брешь, пристегнул начало к концу, а конец – к началу, переделал гекзаметры в нентаметры, собрал части в прежнее целое и начал снова писать, но уже без настоящей веры.
Он отделывал стих, вставлял новые строки, и произведение все разрасталось, став в десять, двадцать раз объемистей, чем он желал. Оно было подобно переросшему его чудовищу, угрожавшему поглотить его.
Изнемогая, Нерон остановился. Он не захотел даже прочесть написанное, отказался от него. Вспомнив о Сенеке, он воскликнул прерывающимся голосом:
– Спаси меня! Я этого не перенесу! Я погиб!
Философ ничего не понял, пока не заметил у Нерона рукописи.
Он подсел к воспитаннику.
– Успокойся! – проговорил он, ласково улыбаясь.
До этой минуты он полагал, что император не интересуется больше своим произведением, что он предал это забвению, как это сделал он сам.
– Оно вышло скверно! – пробормотал Нерон, – очень скверно!
С лица Сенеки не сходила улыбка.
– Ты улыбаешься! – укоризненно сказал Нерон.
– Щеки твои румяны, глаза – юны и блестящи. Лишь мимолетное облачко заслонило солнце!
– Я не удовлетворен, – проговорил император подавленным голосом.
– Это мне с давних пор знакомо! – ответил Сенека. – Таковы все поэты.
– Разве и другие это испытывают?
– Разумеется, – подтвердил учитель, отечески его успокаивая. – Впрочем, не все; только хорошие поэты. Плохие – те в себе уверены. Они всегда собой довольны, ибо они слепы. Лишь истинные творцы чувствуют все трудности искусства, знают, какая пропасть лежит между тем, к чему они стремятся и что создали!
– Ты только утешаешь меня!
Сенека взглянул на императора; увидел его ожесточение и злобную мрачность и проникся состраданием.
– Нет, – проговорил он, – ты не нуждаешься в утешении!
– Значит, мое произведение действительно не плохо?
– Не только не плохо, но… – Сенека сделал паузу, – великолепно! Поистине великолепно!
Нерон просиял; однако с тенью сомнения спросил:
– Могу ли я тебе верить?
Сенека с притворным интересом потребовал рукопись. Но, коснувшись ее, он невольно поморщился, словно его заставили ласкать отвратительное липкое насекомое.
Стихи были перегружены мифологическими образами; ритм их был вылощен; они были безнадежно-серы.
Мудрец знал, что ни произведению, ни автору – ничем не помочь.
Чтобы тем не менее как-нибудь реагировать, он остановил выбор на первом, менее скверном варианте, вычеркнул несколько строк и вместе с Нероном прочел всю элегию.
Оба казались одинаково восхищенными. Император был вне себя от счастья.
– Видишь, я был прав! – торжествуя воскликнул Сенека.
– Да!
– Обещаешь ли ты мне бросить всякие сомнения?
– Обещаю, – пролепетал Нерон, задыхаясь от восторга. – Но пойми причину моих мучений. Я постиг, что самое прекрасное и возвышенное в мире творить. Одно только это ценно; больше ничто! Признаюсь: я всегда мечтал быть поэтом. Но если мне это не по силам, тогда… – он растерянно оглянулся вокруг, – тогда – что мне остается делать?
– Как ты скромен, император, – проговорил Сенека, с оттенком того ревнивого чувства, которое пробуждается в поэте, когда другие превозносят его искусство, и он узнает, что и они приобщались к его восторгу.
– Нет, я не скромен. Знаешь ли, – доверчиво начал Нерон, – после того, как я написал элегию, я выехал на прогулку. Кони словно летели. Все кругом дышало красотой и свежестью. Мне казалось, что вместе со мной мчится лето. Меня как будто охватывало и уносило пламя…
– Ты – подлинный поэт! – сказал Сенека, – только поэт может так говорить. Обо всем этом тебе следовало бы написать.
– Об этом?
– Да. Обо всем, что у тебя на уме. Как только возникает мысль – запечатлевай ее! Дитя! Перед тобой бесконечный путь совершенствования. Ты молод, а истинное искусство принадлежит старости…
Образ юного стихотворца на троне пленил честолюбие Сенеки. Ему льстило, что с высоты престола прислушиваются к его словам. Перед ним открывались широкие горизонты. Дружеские, сердечные отношения между им и императором с каждым днем крепли.
Сенека намеревался использовать пробудившуюся страсть Нерона. Ему хотелось, искусно оплетая его своим влиянием, склонить правителя государства к кротости и гуманности. Он не мог представить себе лучшего случая помочь и императору и девяностомиллионной массе его подданных.
«Быть может, – думал он, – Калигуле и подобным ему правителям недоставало лишь преданного советника, лишь капли любви».
Сенека превозмог последнее, доселе непобежденное колебание, и заговорил с Нероном, не спускаясь со своих высот, словно сам восседал на престоле.
– Ты одарен не только, как поэт, – сказал он, – ты и мудр; оттого ты мудро свершил свой выбор. Лишь теперь, – мир твой. Власть имущие управляют им, но только поэт им обладает, господствует над ним, несет, как Атлас, землю на своих плечах. Без искусства – действительность пуста. Ибо даже мудрец не столь счастлив и совершенен, как поэт. Мудрость может иногда предупредить зло, поэзия же претворяет в красоту даже постигшую нас невзгоду. Восемь лет провел я в изгнании, вдали от Рима, на острове Корсика, средь сумрачных скал и еще более мрачных варваров. Меня посещали лишь приносящие лихорадку москиты и горные орлы. Я, несомненно, погиб бы, не будь я поэтом. Но в этом страшном одиночестве я закрывал глаза и переносился туда, куда влекла меня мечта. Лишь в грезах – действительность.
– Лишь в грезах – действительность, – шепотом повторил Нерон, глядя на вдохновенного старца.
– Властвуй над людьми, – продолжал Сенека, – но властвуй и над самим собой силой поэзии. Иди вперед. Находи вечно новое. И всегда, неустанно пиши. Не заботься об отжившем; оставь его; дай ему пасть, как падают с дерева иссохшие листья…
Нерон с благодарностью внимал ему, как неизлечимый больной, которого обольщают надеждами.
– Читать ли мне? – спросил он.
– Нет, – встревоженно ответил Сенека.
– Отчего?
Учитель стал опасаться за свое влияние. Он не желал, чтобы Нерон узнал поэтов, более великих, чем он, Сенека.
– Я хотел этим сказать, – пояснил он, – чтобы ты читал лишь избранных.
– Кого?
Сенека сосредоточился, как врач, прописывающий диету.
– Читай Гомера и Алкея, – посоветовал он, – пожалуй, еще Пиндара. Но Тиртея – пока оставь.
– Ты должен прежде всего жить, – наставлял императора старый философ, – ты ведь еще не знаешь жизни, а в ней – источник всякого опыта. Молодость улавливает лишь поверхность, внешнюю оболочку, но не замечает скрывающейся под ней глубины.
Отсюда, с высоты престола, ты не видишь яркой картины жизни. Тебе следовало бы немного спуститься; ко всему присмотреться. Мы об этом еще поговорим…
– Хорошо, – послушно пролепетал император. – Веди меня, – добавил он, словно во сне.







