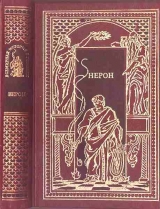
Текст книги "Нерон"
Автор книги: Висенте Бласко
Соавторы: Вильгельм Валлот,Д. Коштолани,Фриц Маутнер
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 38 страниц)

Д. Коштолани
Нерон

Д. Коштолани
Нерон
Перевод с немецкого

I. ЗНОЙ

– Вишни, – неустанно повторял сонный голос, – вишни.
Уличный торговец, расположившийся за маленьким прилавком на фруктовом рынке, тщетно с утра предлагал свои вишни.
Стояла такая жара, что даже здесь, на Форуме, излюбленном пристанище обжор и чревоугодников, почти не было прохожих. Площадь казалась вымершей.
Шедший мимо легионер взглянул на полусгнившие плоды и угрюмо поплелся дальше. Через несколько шагов он остановился перед другим ларьком, где продавалась вода, подслащенная медом; он кинул на прилавок медную монету и стал медленно глотать освежительный напиток.
На всем пространстве ни разу не промелькнули носилки.
Мальчик и девочка, избравшие этот час для своей встречи, неожиданно откуда-то вынырнули, взялись за руки и, любовно поддерживая друг друга, убежали в блеске знойного дня в еще более пустынные улицы, где никто не бодрствовал.
После того, как эдил проверил выставленные цены и удалился – продавец, старый раб, лег, растянувшись, на землю.
Он поднял усталый взгляд на вырисовывавшуюся впереди гору, где находились храмы Августа и Вакха, виднелись казармы преторианцев, мелькали силуэты стражников, и возвышался бывший дом Тиберия; ныне там проживал старый Клавдий; у бедного продавца мелькнула мысль, что его-то не печет зной! Хорошо только императору или нищим; император отдыхает в прохладном зале, а нищие мирно храпят и под пальмами.
Этим летом уровень Тибра резко пал. Между крутыми берегами виднелось полуобнажившееся каменистое русло, по которому, вздрагивая, разбегались беспокойные илистые воды. Зной все нарастал. Над холмами вился туман; воздух не освежался даже легчайшим дуновением. Некоторые переулки, словно львиные логовища, распространяли запах грязи и помета.
Всякий шум – дребезжание колеса или далекий хриплый лай собаки – поглощался тишиной и навевал в этот ранний час дня еще более дурманную дремоту.
II. Чудо
Наверху, на Палатине, императорский дворец зарделся в пламени солнечных лучей.
В опочивальне лежал старый император Клавдий.
Его шея была обнажена, и волосы спадали ему на лоб. И его одолел сон. В последнее время ему бывало невмоготу дожидаться конца трапезы. Его рука роняла подносимую к устам пищу, и глаза смыкались. Сотрапезники потешались над ним, бросали в него оливами и финиковыми косточками и, наконец, уносили его в опочивальню…
Теперь он проснулся.
Во время разнежившего его сна на губах выступила слюна.
– Как прекрасно дремалось, – пробормотал он и окинул взглядом комнату. В ней не было ни души. Лишь одинокая муха, жужжа, описывала все тот же круг, пока не села на тунику Клавдия, затем – на его руку, и, наконец – на нос. Он не отмахнулся, а лишь что-то пролепетал, причмокивая губами. Ему понравилась дерзкая маленькая муха, севшая на императора.
Вскоре он почувствовал жажду.
– Э… э… – произнес он, – воды, дайте мне воды, – и зевнул.
Некоторое время он терпеливо ждал. Никто не явился.
Тогда он потребовал громче: – Воды! Дайте мне, наконец, воды!
Но и на сей раз никто не отозвался.
У Клавдия не было слуг. В течение последних лет его супруга Агриппина лишила его телохранителей и стражи. Осуществила она это постепенно, и император даже не отдал себе отчета в происшедшем. Он примирился с изменившимся положением. В одиночестве бродил он по дворцу, не проявляя никакого недовольства.
Его занимало лишь то, что он в данный момент видел. Его ослабевшая память не хранила прошлого.
Так как на его зов никто не откликнулся, он забыл о своем желании. Он стал рассматривать стены, занавесы и пол; затем вспомнил о вине и паштете, винных ягодах и фазанах, биче и вознице. Он тихонько улыбнулся привычной простодушной улыбкой. Но эти мысли ему наскучили, а ничто другое не приходило в голову. Он крикнул: – Я хочу пить! – и стал напевать «пить»…
Вошел стройный юноша, лет семнадцати. Румянец играл на кротком лице; золотистые волосы были по-детски зачесаны на лоб. Ослепленный ярким солнечным светом на улице, он, войдя в сумрачную спальню, стал жмуриться и пробираться вперед неуверенными шагами. Его голубые глаза были мечтательны и как бы подернуты дымкой.
– Ты приказал воды? – спросил он.
– Да, ягненок мой, – взглянув на него, ответил император, – немножечко воды.
Лишь теперь Клавдий заметил, что перед ним – его приемный сын, юный престолонаследник. Это его обрадовало. Во всем дворце он, в сущности, только с ним и мог разговаривать; остальные его даже не слушали.
Юноша испытывал к старцу сострадание и не скрывал своей привязанности к нему. В великодушном порыве он давал отпор насмешкам, которыми осыпали дряхлого, изношенного старика. Он слышал от него много интересного из истории этрусков: Клавдий когда-то написал о них целую книгу. Юный престолонаследник всегда охотно внимал его рассказам.
Император взял его руку и усадил его на свое ложе. Он стал хвалить его волосы, ниспадавшие пышными локонами, его тогу, его мускулы… Он говорил лишь о нем, болтал всякий вздор, бессвязно выкладывал все, что приходило ему на ум. Давал ему обещания и превозносил его до небес.
Внезапно из-за занавес выступила императрица; словно вездесущая, она умудрялась неожиданно появляться в самых отдаленных залах дворца. Она остановилась у ложа.
Агриппина была все еще величественна; она была высокого роста и гибкая. В ее взоре читались яркие грехи прошлого. Смело очерченный рот был мужествен, лицо бледно.
– Вы здесь! – проговорила она с удивлением, окинув обоих недовольным взглядом.
Клавдий и Нерон поняли причину ее раздражения. Императрица не любила видеть их вместе. С трудом добилась она того, что Клавдий отверг родного сына и усыновил Нерона; последовавшие три года были сплошной борьбой; приверженцы Британника собирались с силами. Агриппина боялась, как бы Клавдий не пожалел о своем обещании и в любой момент не взял его обратно. Она это и сейчас подумала. О чем они вдвоем могли беседовать? Она хорошо знала сына; он был равнодушен к власти и охотно углублялся в книги. Ее губы дрогнули от гнева, и она сурово посмотрела на него, боясь, что он расстроит все ее планы.
Момент казался благоприятным. Во дворце никого не было. Любимец императора вольноотпущенник Нарцисс уехал в Синуессу; главные противники Агриппины: Полибий, Феликс и Посидий отсутствовали. Было бы бессмысленно упустить случай.
Агриппина приблизилась. Клавдий вскочил с ложа и стал мелкими, старческими шажками ходить взад и вперед; он бы охотно спрятался…
Нерон, почувствовав замешательство, обратился к страже императрицы: – Император желает пить.
Один из телохранителей направился к выходу, но Агриппина движением руки остановила его.
– Я сама, – проговорила она, удаляясь; вскоре она вернулась.
Она принесла воду в тыквенной чаше, которую протянула Клавдию. Едва он поднес питье к губам, как упал ничком на мраморные плиты.
– Что случилось? – спросил Нерон.
– Ничего! – спокойно ответила Агриппина.
Нерон взглянул сперва на тыквенную чашу, скатившуюся на мраморный пол, затем, с безмолвным ужасом – на мать.
– Он ведь умирает! – произнес юноша.
– Оставь его! – и она взяла сына за руку.
Упавший больше не поднялся. Его тучный багровый затылок побелел, уста судорожно ловили струю воздуха, а волосы слиплись от выступившего пота.
Нерон в волнении склонился над ним, чтобы почувствовать на своих губах его обрывающееся дыхание – последний вздох, отлетающую душу…
– Ave! – воскликнул он, как того требовал обычай. – Ave! – повторил он еще раз, словно бросая это слово вдогонку удалявшемуся человеку.
– Ave! – насмешливо откликнулась мать.
Тело больше не шевельнулось. Нерон замер на мгновение, затем закрыл лицо обеими руками и бросился к выходу.
– Ты останешься здесь, – повелительно сказала мать, выпрямившись во весь рост. Она была бледна, как простертый рядом мертвец.
– Он был болен? – спросил Нерон.
– Не знаю.
– Я думаю, что он был болен! – пробормотал юноша, пытаясь объяснить самому себе то, что он только что видел…
Агриппина стала отдавать распоряжения. Из коридора доносился ее голос:
– Запереть все двери! Где Британник? Где Октавия?
Сновали воины, бряцая мечами.
В одну из зал Агриппина приказала запереть Британника и Октавию, которая уже в течение года была женой Нерона.
Нерон был оставлен один в комнате покойного.
Он лицезрел смерть в ее страшной простоте. Тело лежало недвижно; оно будто слилось в одно целое с окружающим; лицо побледнело, быть может – от предсмертного страха; уши стали словно мраморные; нос заострился; прежними остались только длинные седые волосы и дуги бровей, за зловещим спокойствием и равнодушием которых скрывалось столько тайн…
Долго и Нерон не шевельнулся. До сих пор он никогда не присутствовал при смерти человека. Он только читал о ней. Теперь он изумленно взирал на это чудо. Единственное чудо, превосходившее своей непостижимостью само рождение.
Он не удалился даже, когда пришли омыть покойника, натереть его тело благовонными маслами и облачить его в полотняный саван. Ваятель стал лить на застывшее лицо горячий воск. Он снимал маску с усопшего. Во дворце уже темнели еловые гирлянды; вход был украшен кипарисами; ликторы стояли на страже с золотыми топорами и связками прутьев; стены были тотчас завешаны черной тканью.
Погребальное общество снарядило на работу своих самых проворных людей. Из-за каждой двери долетали плач, стон и шепот. Молились жрецы Венеры – Либитины, богини смерти.
Покойный был перенесен на ложе.
– Что ты в нем разглядываешь? – спросила вошедшая Агриппина. – Ведь он умер – ушел.
Она решительно положила руку на плечо сына и вперила в него свои большие глаза.
– Ты будешь держать надгробную речь на Форуме.
– Но я не умею говорить, – простонал он.
– Ты ее прочитаешь повышенным, выразительным голосом! Понял? Сенека ее за тебя напишет.
Ответ застыл на робких устах Нерона.
В день похорон тело было перенесено на Форум. Нерон с трибуны прочувствованно продекламировал надгробную речь. Преторианцы трижды дефилировали перед погребальными носилками.
Похоронное шествие было необозримо. Клубилась пыль от пяти тысяч колесниц. Кони ржали, пешие спотыкались, плакальщицы причитали и до крови исцарапывали себе лица, вольноотпущенники несли высоко над толпой статуи и изображения покойного, а актеры воспроизводили предсмертные вопли. Но в то же время увеселители народа, похоронные шуты пародировали смерть, строили гримасы и вращали глазами. Вслед за ними повсюду раздавались взрывы хохота. Гремели звуки разнообразных музыкальных инструментов: труб, барабанов, арф, флейт, особенно – многих тысяч флейт, потрясавших воздух невыносимым гамом.
Жрецы окропляли толпу водой и раздавали, в знак мира, оливковые ветви.
Скончавшегося императора Клавдия тут же провозгласили богом.
III. Юный император
На следующее утро, едва успев одеться, Нерон услыхал на лестнице шум. Легионеры наводняли зал и выкрикивали его имя. Он еще не сознавал, что это означает; не успел прийти в себя от вчерашнего потрясения.
Несколько воинов из высшей знати схватили, словно вещь, хрупкого светлокудрого юношу и вынесли его на площадь. Там Люций Домиций Нерон, приемный сын Клавдия и законный наследник престола, был провозглашен войсками кесарем.
Его внесли обратно во дворец, точно так же, как вынесли.
Затем его ввели в большой зал, в который он никогда до тех пор не вступал. Всю его длину занимал стол; вокруг были расставлены широкие сиденья с высокими спинками. Мать подвела Нерона к столу. Он сел и рассеянно облокотился; время от времени играл мечом, который ему впервые надели; оружие это казалось ему неудобным и тяжелым.
В зале его ожидали военачальники и полководцы, обсуждавшие государственные дела.
Нерон устало оглядел их. Почти все были седые и лысые, изможденные временем и огрубевшие от походной жизни; некрасивые, наглые лица… Веспасиан, сидевший против Нерона, с благоговейным трепетом поднимал на него глаза. Руф напускал на себя выражение сосредоточенного размышления.
У Скрибония Прокула был красный, волосатый нос. Домиций Корбулон, родственник Кассия, казался среди них наиболее умным. В его орлином взоре светилась проницательность. Бурр, префект преторианцев, воплощал собой самоотверженную преданность человека, прямолинейно и бестрепетно стремящегося к своей цели.
Один только Паллас, государственный казначей, был моложав. Он цветисто выражался, слегка шепелявил, и одевался подчеркнуто изысканно, подражая знати.
Началось совещание. Септоний Павлий говорил короткими, как бы обрубленными фразами. Все, чего он касался, становилось скучным. Он постоянно возвращался к исходной точке и бесконечно повторялся. В его речи мелькали «войско» и «флот», «боевые колесницы» и «стенобитные орудия», «мечи» и «стрелы», «хлеб» и «фураж». Он считывал с восковой дощечки столько цифр, что от них мутилось в голове. Он вычислил, какую сумму жалованья казна выплатила за последние десять лет пехоте, всадникам и морякам, и сколько палаток насчитывалось во всей Римской Империи, включая провинции.
Нерон разглядывал оратора. Он обращал внимание не на его слова, а лишь на движущиеся губы, лицо и фигуру. Старый воин имел на лбу внушительную коричневую бородавку, которая приходила в движение, когда он говорил, и подпрыгивала, когда он морщил лоб.
Как только оратор начал снова сыпать цифрами, Нерон наклонил голову и отдался собственным размышлениям. Он не предполагал, что переживания последних дней так сильно на него подействуют. Его мысли, за что бы он ни принимался, постоянно возвращались к ним.
Они не давали ему покоя, пока его себе не подчинили.
Перед его глазами вновь развернулось похоронное шествие во всей его величественной пышности; он увидел над толпой самого себя, произносящего торжественноскорбные слова об отошедшем, чужом ему человеке. Ясно представился ему его сводный брат, Британник, который обращал к нему искаженное болью лицо и беззвучно рыдал, задыхаясь от слез; он оплакивал отца, отвергнувшего его, но все же родного…
Император закашлялся. В зале было жарко. Речь еще продолжалась. Оратор говорил о совместной работе войск и сената; в дурманящей духоте слова его расплывались и сливались в сознании Нерона с его собственными думами.
На лице императора отразилось равнодушие; прикрыв рот рукой, он зевнул. Он чувствовал себя чуждым в этой непривычной обстановке и удивлялся собственному присутствию среди всех этих людей. Вступление на престол застигло его врасплох и не обрадовало его. Он постоянно возвращался к мысли о Клавдии. Смерть старого императора казалась ему необъяснимой и жуткой; что с ним случилось? И отчего? Если нечто подобное возможно – все рушится, и он одинок в мире. Император, первый человек в государстве, умирает так же, как и всякий другой; черви пожирают его тело и гнездятся в его черепе… Нерон беспомощно оглянулся, но нигде не нашел ответа на мучивший его вопрос.
Он чувствовал себя слабым, сжатый кольцом более могучих сил. Его охватил страх; ему казалось, что голова закружится, и он упадет. Он ухватился за свое кресло, которое еще недавно занимал старый император.
В эту минуту кто-то коснулся его: Агриппина напоминала ему, что надо встать.
Оратор приветствовал Нерона, простирая к нему руки и величая его императором.
Нерон вздрогнул. Да, слово это относится к нему. Он оправил волосы, падавшие ему на лоб, покраснел и что-то пробормотал…
Позднее он принимал сенаторов; они вручали ему послания из провинций. Наконец, потребовалась его подпись на многих государственных документах.
Уже стемнело, когда он освободился и остался наедине g Агриппиной.
– Мать, – начал он взволнованным голосом, но на этом речь его оборвалась, словно он хотел добавить что-то, чего не решался выговорить.
Агриппина окинула его властным, пронизывающим взглядом.
– Ты хотел о чем-то спросить?
– Нет, ничего, – тихо ответил Нерон.
Он поднялся и прошел к Октавии. С этого дня они не встречались, и ему теперь захотелось с ней поговорить.
Октавия сидела, забившись в угол, с заплаканными глазами. Нерон пытался ее приласкать, но она отстранилась.
– Не бойся меня, – грустно проговорил он; больше он ничего не мог вымолвить. Он остановился, увидел, что некуда идти: все пути перед ним закрыты.
Он побрел в отдаленный зал в другом конце дворца. Здесь, в пустом зале, он с небывалой остротой ощутил одиночество. Его охватило бесконечное горе и отчаяние. Подозрение и гнев зарождались в его душе. Он подумал об отце, о родном отце Домиций, которого никогда не знал и не видел. Он даже мало о нем слышал. Рассказывали, что Домиций был проконсулом в Сицилии и умер молодым, неизвестно от чего. Нерону было тогда три года. Вскоре его мать вышла за богатого патриция.
Нерон от всей глубины осиротевшей души тосковал по родному отцу и мучился желанием поцеловать его недосягаемую руку. Ему вновь и вновь все явственней и властней представлялось его лицо. Отец его не был ни императором, ни бессмертным, ни богом. Каким он был? Нерон мыслил его себе добрым, с страдальческой складкой в углах рта, с кротким и нерешительным выражением лица, как у него самого. И все это бесследно исчезло…
Нерону было невыносимо больно; страстно призывал он умершего.
– Отец! – говорил он, – бедный мой отец! – и останавливался на воспоминании, которое заслоняло собой все остальное.
– Что делать? – спрашивал себя среди окружавшего его безмолвия император, чувствуя на вершине власти головокружение.
Но и на сей раз Нерон не получил ответа. Ниоткуда; ни даже от самого себя. На беззвездном небосклоне показался одутловатый, больной лик луны; он походил на жалкое лицо скомороха и ухмылялся, глядя на Нерона.
Надвигалась ночь.
IV. Воспитатель
Все предзнаменования, как и предсказания астрологов, сулили Римской Империи блестящую эпоху.
Новый владыка явился на свет ранней утренней зарей; первые солнечные лучи осияли его лоб. Также и его вступление на престол было отпраздновано при ясной погоде, днем, когда злые духи, союзники тумана и мрака, не дерзают показываться людям.
Маленький светлокудрый юноша словно держал в руке ветвь мира. Он гулял по городу неопоясанным или появлялся без сандалий на парадах. Император и сенат обменивались знаками почтения и угождали друг другу. Император вернул сенату его прежнее влияние, а сенат, в свою очередь, назвал Нерона «отцом государства». Но юный Нерон встретил улыбкой столь лестное имя и со свойственной его летам скромностью от него отказался; он заявил, что должен заслужить его.
Первым его желанием было возвеличить Рим. Он мечтал о новых Афинах, о возрождении греческого зодчества, о широких улицах и просторных площадях, которые бы создавали впечатление гармонии и в то же время могущества.
Эта мысль поглощала Нерона. Он обходил, в сопровождении своих задних, узенькие переулки с покосившимися лачугами. Он сам присутствовал при обмерах, вел переговоры и уже мысленно рисовал себе окаймленные мрамором и лавровыми деревьями улицы, которые должны будут удивить даже афинян. Но вскоре, ему и это наскучило. Сгибаясь над планами, он внезапно ощутил бесцельность всего на свете.
Страдание его несколько притупилось. Но на смену явился новый недуг, еще более неуловимый и нестерпимый: скука.
Она не имела ни начала, ни конца. Она была бесформенна и иногда даже не выдавала своего присутствия. Именно это ничто и вызывало непрестанную тоску. Сияющим утром Нерон просыпался, устало зевая, и часто бывал не в состоянии встать. Если ему докучало лежать, и он одевался, его снова одолевала дремота и влекла его обратно в постель. Ничто его не интересовало. Особенно тяготили его послеобеденные часы. Он стоял в одиночестве на высокой колонной галерее, внимал людскому говору, смотрел на зелень сада и ни в чем не находил смысла. Его томила головная боль, сосредоточившаяся в виске; за ней обычно следовала тошнота.
Сумерки настигли его в этот день в таком состоянии.
– Мне не по себе, – поведал он Сенеке, поэту и философу, воспитавшему его с восьмилетнего возраста.
– Неужели? – вздохнул Сенека и шутливо покачал головой, словно перед ним находился ребенок, выражавший жалобы, которым нельзя по-настоящему сочувствовать.
Сенека, высокий и худощавый, был облечен в серую тогу. На впалых, желтых как воск щеках алыми пятнами горел румянец чахотки: его всегда после полудня лихорадило.
– Правда, – упрямо повторил император, – я очень страдаю!
– Отчего?
– Сам не знаю! – ответил он раздраженно.
– В таком случае ты страдаешь потому, что не ведаешь источника своих мук. Если ты нашел их причину, ты бы ее понял и не испытывал бы столь сильной боли. Мы рождены для печали, и не существует горя, которое явилось бы неестественным или нестерпимым.
– Ты думаешь?
– Разумеется, – ответил Сенека, – на все существует противоядие. Если ты голоден – ешь, если жаждешь – пей.
– Но почему человек умирает? – внезапно проронил Нерон, как бы обращаясь к самому себе.
– Кто? Клавдий? Или другие? – спросил Сенека, чувствуя смущение, ибо до тех пор, вследствие запрета Агриппины, Нерон не занимался философией.
– Все. Стар и млад. Ты, как и я. Вот что ты мне объясни.
Сенека растерялся.
– В известном смысле… – начал он и остановился.
– Видишь! И ты не знаешь, – горько засмеялся Нерон.
– Ты утомлен!
– Нет!
Сенека призадумался.
– Тебе бы следовало на время уехать. Куда-нибудь далеко, очень далеко, – и философ сделал рукой широкий жест.
– Это невозможно! – нетерпеливо перебил его Нерон и стал резко возражать учителю.
Видя раздражение императора, Сенека приблизился к нему и, съежившись, как бы весь уйдя в свою тогу, стал выслушивать его отповедь.
Он принял, не противореча, все его возражения.
На его устах всегда бывало наготове льстивое слово, как-будто он имел дело с ребенком, малейший каприз которого желал удовлетворить. Сенека не относился серьезно к этому юноше, создавшему себе страдания, и старался двумя словами исчерпать беседы с ним. Он горел лишь одним желанием: писать! Стихи и трагедии… Величественные, мастерски-отчеканенные строфы, несокрушимые и ослепительные, как белый мрамор. Мудрые изречения о жизни и смерти, о юности и старости – вечные твердыни мысли, завоеванные жизненным опытом. Вне этого – его ничто не трогало.
Его единственной верой было творчество. Убеждения же его, в результате непрерывного мышления и философского анализа, окончательно поколебались и всегда склонялись в сторону того, с кем он в данное время беседовал. Не успевал его оппонент закончить свою мысль, как уже Сенека, еще тоньше и яснее его самого, выражал его мнение.
Сейчас он думал лишь о своей вилле, дарованной ему императором; о том, что следовало бы построить у входа фонтан…
Но, взглянув на Нерона, Сенека заметил, что своими ответами не умиротворил его. Нерон запрокинул голову; взор его был уставлен в пустоту.
Философ боялся потерять расположение императора, в минуту его дурного настроения. Теперь при одной мысли об этом дрожь пробежала по всему его худому телу, изнуренному в одинаковой степени чахоткой и лихорадочной работой мозга; его выцветшие глаза вспыхнули.
В замешательстве он закашлялся.
– Если бы можно было уйти! – закончил Нерон прерванную мысль, – но лишь варвары воображают, что это возможно. Мы же не в состоянии уйти. Ниоткуда; ни даже из этого дворца… Мы всю жизнь несем в себе то, от чего бежим. Наши муки повсюду гонятся за нами.
– Мысли твои мудры, – заметил Сенека, – оттого ты и должен победить в себе страдание.
– Но чем?
– Страданием. Горечь вытравляется не сладким, а лишь горьким.
– Я этого не понимаю.
– Невзгоды побеждаются невзгодами, – продолжал Сенека: – этой зимой, когда падал снег, я мерз и дрожал в своей комнате. Сколько я ни укутывался в теплые покрывала – я все сильнее ощущал холод. Он подкрадывался ко мне и вцеплялся, как хищный зверь, в мою руку. Я даже писать не мог.
Я стал доискиваться причины своего страдания и открыл, что она лежит не во внешнем мире, не в недостатках комнаты или в морозе, а внутри меня. Я мерз лишь от того, что желал тепла. Тогда взамен тепла я стал призывать холод. Едва меня осенила эта мысль, как я нашел, что в комнате недостаточно свежо. Я сбросил покрывала, снял даже тунику, растер себе тело принесенным со двора снегом, открыл окно и стал вдыхать режущий зимний воздух. После этого, поверишь ли, внезапная теплота разлилась по всем моим членам, и, вновь одевшись, я уже не испытывал холода, мог работать и в один присест написал три новые сцены «Тиеста».
– Возможно, – проговорил Нерон с нетерпеливой улыбкой, – но как мне это применить к себе?
– Нагружай на себя горести. Представь себе, что ты желаешь страдать.
– Но я не желаю.
– Существуют люди, которые хотят плакать, терпеть, испытывать лишения. И они считают себя счастливыми, ибо никогда ничего для себя не требуют, кроме боли и унижения. Они готовы принять такое суровое горе, какого нет даже на земле; они в этом стремлении столь ненасытны, что постоянно разочаровываются в своих ожиданиях. Они несут в себе великий покой.
– Ты думаешь сейчас о них! – воскликнул с раздражением император. – О тех полоумных, которые заросли грязью, и у которых гноятся глаза, о смердящих, ютящихся в подземельях и в исступлении бьющих себя в грудь! Ты думаешь о непокорных, о врагах Римской Империи, – и, не назвав тех, кого он подразумевал, Нерон добавил: – я их презираю.
– Я – латинский поэт, – возразил Сенека, – и я ненавижу тех, которые хотят вернуть мир к варварству, не терплю их глупого суеверия. Для них не существует достаточно крестов и секир. Я верю в богов. Ты меня превратно понял, – прибавил он, видя, что Нерон безмолвствует, – я только сказал, что страдание превозмогается страданием.
– Но ты не облегчаешь участь человека, нагромождая на него новые муки. Нет выхода!
Затем, словно его осенила спасительная мысль, Нерон промолвил:
– Какие-нибудь чары все же должны существовать.
– Есть маги, – сказал Сенека, – которые будто бы обладают даром преображать человека.
– Я думаю не об этом.
– Тебе следовало бы читать греческие трагедии. В них – печаль. Черный бальзам для алых ран. Говорят, что писаное обладает целебной силой… И я сейчас пишу. О твоем венценосном отце. Я представляю усопшего рядом с Юпитером и Марсом…
Философ не докончил, ибо император, охваченный воспоминаниями, порывисто встал и, не прощаясь, поспешно удалился.
Сенека немного подождал, затем ушел. Никогда еще не видел он Нерона в таком состоянии. Юношески свежее лицо внезапно исказилось изломанными морщинами, взбороздилось зловещими складками.
«Он верно очень страдает», – подумал Сенека.
Всю дорогу его беспокоило сознание совершенной ошибки; ему не следовало высказываться перед императором. Советы вообще редко приносят пользу. В воротах своей виллы философ все еще сокрушенно качал головой. Он не понимал Нерона, несмотря на то, что изучил каждое его движение еще с его раннего детства. Ему казалось, что для него Нерон всегда останется маленьким мальчиком, который, притаившись у его ног, внимал его наставлениям.







