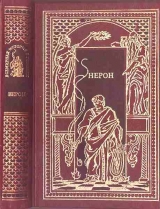
Текст книги "Нерон"
Автор книги: Висенте Бласко
Соавторы: Вильгельм Валлот,Д. Коштолани,Фриц Маутнер
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 38 страниц)
XXX. Сенека
Сенека был выпущен из тюрьмы. Его невиновность была доказана. Сами преторы убедились, что он не принимал участия в заговоре, и что заговорщики лишь злоупотребляли его именем, пользуясь его обычной нерешительной позицией. Все же нашлись свидетели, давшие неблагоприятные показания. Некоторые обвиняли его даже в посягательстве на императорский трон.
Мудрец безропотно выносил все наветы. Ничего лучшего он от людей не ожидал. Он всегда признавал власть зла и тьмы и не ополчился против нее, став ее жертвой. Будучи не в состоянии опровергнуть клевету, он молчал.
После освобождения из заключения он почувствовал, что должен идти к императору. На его душу уже сошел вечный покой, но он почитал нравственным долгом, поскольку возможно продлить свое существование. Он не приносил никаких клятв, не отстаивал своей невинности. Жизненный опыт показал ему, что правда – плохая защита против ударов тирана.
Чтобы купить себе право на дожитие своих дней – философ предложил вернуть Нерону все свое состояние, дома и предметы искусства. Ссылаясь на старость и усталость, он выражал желание окончить свою жизнь в скромной обстановке.
Но император отклонил его просьбу. Тогда Сенека вручил Нерону свою жизнь, прося убить его. Он заговорил о смерти, как о желанном освобождении. Он надеялся таким образом укротить влечение императора к кровавым деяниям, которое, как он чувствовал, уже намечало его в жертвы. Но Нерон отверг и это.
– Лучше я сам умру, – пресек он философа.
Сенека после тюремного заключения вернулся домой удрученный. Паулина ждала его в саду. Взглянув на него, она расплакалась. В темнице он оброс длинной бородой; давно нечесанные и немытые волосы сбившимися прядями прилипли к его коже. Одежда его была запущена. Жена поцеловала его в лоб; он был сморщен, как высохший плод.
Оба сели под деревьями за тот же столик из слоновой кости, у которого некогда расположилась Поппея, когда посетила философа перед первым выступлением Нерона.
– Не приготовить ли тебе ванну? – ласково спросила Паулина.
– Нет, не надо.
Сенека выглядел неопрятным и измученным. Он уже давно влачил такое существование, отвергал все радости жизни, даже освежающее купание. В тюрьме он спал на жесткой подстилке, отказывался от мяса, опасаясь отравы, кормился лишь сухими кореньями и день и ночь был поглощен думами.
– Так лучше… – произнес он.
Паулина пристально смотрела на него. Глаза ее излучали бесконечную преданность. Старый мудрец – всеобщий кумир, для нее представлял нечто еще большее: он был человеком, которого она глубоко любила и почитала и душу которого ценила. В каждом ее движении сквозило чуткое понимание.
– Лучше, – пояснил философ, – давать жизни незаметно ускользать, каждый день понемногу отдаляться от нее.
Сенека сидел под увядавшей листвой, сам – увядавший. Его знобило. Кровь его остыла и устало текла в его жилах. Только солнце еще пригревало се.
– Остается испробовать последнее, – вздохнул он, – кротко и грустно улыбаться, как осень, озаренная лучами позднего солнца…
Паулина сжала его руку, словно хотела перелить в нее свою теплоту. Теперь его обогревали двое: женщина и солнце.
Он снова заговорил. Верная подруга его слушала.
– Не следует слишком цепляться за жизнь. Потом больнее. Этому я научился в юности у иудеев. Если упас хотят отнять какой-нибудь дар, самое мудрое – заранее добровольно отдать его. Поэтому я истязал себя в молодости, голодал, не спал и ни разу впоследствии не испытывал такого блаженства, как тогда. Теперь я скорблю, что так скоро это оставил. Верь мне! Пост и бессонница – высшее наслаждение.
Жена не поняла его, но ничего не сказала.
Сенека сморщил лоб, покрытый иссохшей, почерневшей кожей.
– Да. Я во многом виноват. С чего это началось? – и он задумался. – Я очень любил. Отсюда и пошла ложь и гибель. Виной – всегда чувство.
Паулина хотела что-то возразить, но он мягко остановил ее.
– Любовь привела меня к падению. Она нас удаляет от цели и губит нас. Она, огромная любовь…
– Я был когда-то молод, – продолжал он спокойнее, как в непринужденной беседе, – имел густые, непокорные кудри, был строен и пылко говорил. Отец повез меня в Рим. Он был честолюбив и желал, чтобы я изучил философию. Я исполнил его желание.
– Я приобрел известность и богатство, и у меня появились завистники. Я был пленен величием Рима, ценил славу и стал ее баловнем. Когда я проезжал по площади Марса, все оборачивались. Счастливый римский юноша с испанской кровью, я провозглашал доктрины Эпикура; любил, разумеется, красивых женщин. Они присутствовали при моих выступлениях. Среди них была и Юлия Ливилла, сестра Калигулы. Однажды она обратилась ко мне за объяснением по какому-то философскому вопросу. Она пригласила меня в свои носилки, и, беседуя, мы совершили прогулку, которая мне дорого обошлась. Я провел восемь лет в изгнании, на острове Корсика. Стоило ли так поплатиться? Теперь мне кажется, что стоило. У меня осталось от роковой встречи очень красивое воспоминание…
Чуткая жена поэта слушала его без ревности. Она любила его неведомое, богатое прошлое; мудрых и гордых женщин, которые зачаровывали его; любила и его триумфы, которые после стольких совместно вынесенных бурь стали отчасти и ее собственными.
Воспоминания увлекли философа:
– Итак, – проговорил он, – я вмешался в жизнь, которая связала меня неисчислимыми путами, так что я уже не мог вырваться. Я стремился обратно в Рим, писал послания власть имущим и льстил презренным царедворцам, чтобы они при дворе замолвили за меня словечко. На мое несчастие они уважили мои просьбы. Лучше бы я погиб на острове, одинокий и гордый!
Он закрыл глаза.
– Ныне я вижу яснее в прошлом. Все, с кем я соприкасался, стоят теперь перед моими глазами: женщины, поэты, артисты и мое собственное «я» тех времен. Но их заслоняют две огромные тени. Одна, более могучая, – Агриппина. Другая – тень златокудрого мальчика Нерона.
Паулина смахнула слезы и пододвинулась ближе к Сенеке.
– В тюрьме меня осмеивали, – признался философ, – напоминали мне мои сочинения, в которых я восхваляю бедность, и спрашивали меня, почему, в таком случае, я богат? Во мне подозревали продажную душу. Я не возражал ни слова.
– Ты благороден и чист, – прошептала Паулина и с невыразимой нежностью поцеловала руку старца.
Несколько минут они сидели в печальном раздумьи… Затем они стали созерцать осень, таинственно шевелившуюся в саду. Она снимала с деревьев тленные украшения, которыми их одарила весна, и раскладывала их ковром вокруг мрачных стволов. Деревья, казалось, насторожившись прислушивались к каждому шороху. То тут, то там падал спелый плод. В звуке его падения была какая-то глухая, торжественная мелодичность. Внезапно раздались приближающиеся шаги.
Сенека ожидал их… Это они!
Паулина встала. Появились два ликтора – исполнители смертных приговоров, в сопровождении центуриона, державшего письменный приказ. За ним следовал лекарь.
Они в смущении остановились, увидя старого поэта, которого были посланы казнить. Сенека сидел на скамейке из слоновой кости.
Никогда еще он не испытывал такого страха. На лице его не осталось ни кровинки. Все, что он до сих пор думал, чувствовал, писал и говорил, смешалось в его познании. Им овладела лишь неумолимая, представшая перед ним в эту минуту действительность. Она казалась ему давно знакомой, но чудовищной и непостижимой.
Он хотел встать и тяжело перевел дух; но ноги его подкосились, и он опустился обратно на скамью.
В первом приступе ужаса Паулина подняла руку, словно пытаясь отразить нападение. Но она тотчас поняла всю бесцельность сопротивления, опустила руку и пожала пальцы Сенеки, влажные от выступившего холодного пота.
Губы старика беспомощно двигались.
– Только завещание… – пробормотал он наконец.
Два преданных ученика, живших в его доме и посвященных им в принципы стоической философии, положили перед ним восковые дощечки.
– Мне жаль, – проговорил центурион не без участья, – но я имею строгий приказ…
– Даже этого нельзя? – спросил поэт.
Центурион сделал едва уловимое движение головой, но сжатые губы выражали суровый отказ.
– Одно только слово, – попросил Сенека, чтобы отсрочить неизбежное.
– Я не имею разрешения, – повторил центурион.
Один из ликторов направился в виллу, велел нагреть большой котел воды и до края наполнил ванну. Второй ликтор держал зажженный смоляной факел.
Сенека поднялся со скамьи, опираясь на центуриона.
– Пойдем, – проговорил он Паулине и обоим ученикам, когда его повели в ванную.
Они зашли в виллу, обошли столь знакомые покои отныне безнадежного и лишенного будущего жилья. Все здесь говорило лишь о прошлом. Каждая дверная ручка, каждый косяк и ключ потемнели на службе у их хозяина. Они словно впитали в себя его присутствие и теперь овевали его в последний раз его же живыми прикосновениями. Глядя на милые, родные предметы, Сенека прощался с жизнью.
Оба ученика притаились около ванны. Они держали на коленях восковые дощечки, чтобы запечатлеть последние слова учителя и в будущем – почерпать в них мудрость.
Но Сенека пока безмолвствовал. Его быстро раздели. Он стоял, оглушенный, в темной комнате, наполненной водяным паром и чадом факела. Он смотрел на качавшуюся, слегка пенившуюся поверхность воды. Центурион велел ему занять деревянное сиденье, окунуть правую ногу в ванну, а левую – оставить снаружи.
– Так нужно… – повторял Сенека.
Ничто не приходило ему на ум: ни один из тезисов, ни одна из истин, которые он в течение всей долгой жизни провозглашал в своих эпистолах. Его преследовал лишь жуткий вопрос: что будет потом? Его пугала мысль, на которую, как он был уверен, ни один человек не может ответить.
Ликторы подошли к нему с обеих сторон и разогнули ему ногу.
Приблизился лекарь-невольник, уже несколько лет занимавшийся врачеванием. И он нехотя исполнял приговор…
– Милый друг, – сказал ему Сенека с какой-то смесью жути и иронии над самим собой, – нельзя ли подождать хоть одно мгновение? – ведь и оно ценно.
Но центурион торопил лекаря, боясь, что вода остынет. Ликтор приблизил факел к ноге Сенеки.
– Пусть будет так, – проговорил философ и сам подставил свое колено.
Он стал наблюдать за происходившим.
Лекарь привычной рукой нащупал под коленом артерию – «главный путь жизни», где кровь протекает по широкому каналу. Он быстро нашел ее и глубоко вонзил в нее острое лезвие. У Сенеки от боли брызнули слезы. Паулина и ученики заплакали вместе с ним.
Затем наступило жуткое ожидание. Старческая кровь, загустевшая, как выдержанное вино, не проливалась.
– Не идет, – с досадой произнес лекарь и перерезал и на левой ноге артерию. Выступило немного запекшейся, почти черной крови.
Тогда лекарь сделал надрез и на обеих руках, там, где чувствовалось биение сердца. Сенека опустил руки в воду. Он заговорил естественным голосом:
– Пишите, – сказал он, – я хочу сообщить о своем – состоянии. Я вижу ванную комнату, факел и всех вас, стоящих вокруг меня: милую, плачущую Паулину… – он обернулся и с глубокой нежностью кивнул ей, словно посылая ей прощальное благословение… – Я вижу учеников, лекаря и воинов. Мне странно, что все это – так просто. Я жду дальнейшего.
Он прислушался к шуму струившейся крови, окрасившей воду в розоватый цвет.
– Я испытываю слабость, – снова начал он, – меня будто клонит к дремоте. Внутри – непривычная легкость. Больше ничего…
Он переждал несколько мгновений.
– Теперь мне нехорошо, тяжело… Запишите: тяжело. Но зрение мое ясно. Я слышу свой голос и знаю, что говорю.
В этот момент он побелел как полотно.
– Мне дурно… – прошептал он и склонился над водой.
– Это от потери крови, – пояснял лекарь.
– У меня потемнело в глазах. Все предметы кажутся мне черными. Пишите: очень плохо. Не умирайте. Человек должно жить… долго…
Он глубоко вздохнул.
– Все это не таинственно, а только страшно. Тайны я еще не изведал и, кажется, не смогу вам ее передать. Хотя я, вероятно, уже где-нибудь далеко… на грани…
Несколько минут он молчал. Затем, потеряв сознание, он упал в объятия склоненной над ним Паулины.
Один из учеников нагнулся над ним, почти касаясь его уст.
– Что ты испытываешь? – спросил он.
Сенека не ответил. Голова его покоилась на вздымавшейся от рыданий груди Паулины; она была живым, нежным изголовьем его смертного одра.
Но ученик вывел его еще на мгновение из последнего сна.
– Как теперь? – спросил он, дотронувшись до его лица, словно силясь разбудить его.
– Не так, как я себе это представлял, – с усилием, но внятно, ответил философ. – Иначе, совсем иначе…
– Как? – спросили оба ученика сразу.
Дыхание Сенеки словно прервалось. Тело его заметалось, как будто от внутреннего толчка. Вода в ванне стала совсем красной. От прилива крови по ней пробежала зыбь. Центурион с состраданием взглянул на Паулину и вывел ее из комнаты.
Один из ликторов взял умирающего поэта за обе руки и, возможно мягче, столкнул его с сиденья в горячую воду.
Тело его исчезло под водой.
На ее поверхности показался лишь пузырь – последний вздох философа. Он еще долго, словно его живое дуновение, покачивался на воде. Наконец, и он исчез.
Сенеки больше не было.
XXXI. В одиночестве
Около полуночи главный авгур принял ванну, отведал сердце коршуна, облачился в белоснежную тогу и вышел. Держа затененный светильник, он в сопровождении других авгуров отправился на возвышение, откуда можно было наблюдать небесные светила и полет птиц.
Была ветряная, неприветливая ночь. Вихрь несколько раз гасил светильник. Гадатели, рассекая жезлом воздух, мысленно разделили небосвод на четыре части. Они долго, напрягая зрение, высматривали знамения, но ничего им не являлось. Уже брезжило утро, а ни одна птица еще не пролетела на отмеченном пространстве небосклона. Не промелькнули ни речная скопа, ни сарыч, ни сокол, по полету которых авгуры предсказывали судьбу человека. Только тучи проносились мимо расплывчатыми массами, и на земле скользили их тени.
Авгуры подстерегали птицу Нерона – голубя, так как император пожелал узнать свой жребий. Впервые за все свое царствование он обратился к гадателям, ибо государство было в катастрофическом положении: иудеи восстали и убили римского наместника. Асколон, Акра, Тир и Гипон были охвачены пламенем. В Гараде люди истребляли друг друга. Не более успокоительные вести приходили и из других провинций. В Галии весной вспыхнул мятеж и Виндекс, в надменном послании императору, угрожал ему гибелью. Из Испании не поступало никаких сообщений. Гальба вел себя двулично. Говорили, что он заключил союз с Виндексом.
Панические слухи обегали Форум, несмотря на то, что распространение таковых сурово каралось. Войскам никто больше не доверял.
Нерон похоронил Поппею. Однажды, вернувшись с бегов, он вступил с ней в грубую ссору, накинулся на нее и ударил ее ногой. Поппея в это время носила под сердцем будущего ребенка императора. От ушиба, причиненного ей Нероном, она сразу скончалась, еще прежде, чем ее успели перенести на постель.
Тело ее набальзамировали, ибо иудейские священнослужители воспротивились его сожжению. Император сам произнес надгробную речь. Он искренне оплакивал эту женщину, которая была печальной опорой его мятущейся души. Он остро чувствовал ее отсутствие и тосковал о ней, как еще ни об одном человеке. Теперь никто его больше не терзал, но никто и не подстрекал его ни на какую деятельность.
Он стал во всех искать ее, подарившую ему когда-то любовь и страдание. Он бродил около цирка Максимус, вокруг бараков, где жили продажные женщины. Его мучили мрачные воспоминания; словно живые, они в нем стонали… Иногда он в какой-нибудь гетере находил сходство с усопшей, но внезапно чуждая черта разбивала его иллюзию.
Горе сломило его. Дни и ночи он бродил по городу, ища Поппею, окруженный мраком, но уверенный, что он когда-нибудь вновь откроет ее. Наконец, ему показалось, что он обрел ее в юноше по имени Спорий. В первую минуту он не нашел в нем ничего общего с погибшей. Но когда он внимательно в него всмотрелся, в нем всплыли уснувшие воспоминания: ему показалось, что в этом юношеском образе к нему вернулась единственная возлюбленная.
Он назвал юношу Поппеей. Новооткрытый друг во всем напоминал ее. У него были те же янтарные волосы, мелкие веснушки, и строптивые губы, поцелуй которых оставлял вкус диких ягод.
Нерон не успокоился, пока в желтом облачении жениха не повел Спория в храм. Верховный жрец должен был его торжественно обвенчать с ним.
На церемонию был приглашен сенат в полном составе. Спорий явился в женском одеянии, с заплетенными волосами, в сопровождении прислужниц.
На ногах у него были маленькие желтые туфли, легкие как бабочки. Лицо его оттенялось алым покрывалом, какое носили весталки, а на голову был возложен майорановый венок. Жрец, согласно обряду, передал «невесте» букет вербены – символ плодовитости; сенаторы принесли чете свои поздравления.
Юноша оказался, однако, несообразительным и молчаливым. Он напивался на каждой трапезе и целыми днями спал. Нерон снова стал призывать ушедшую, которую нигде не мог найти. Тогда он обратился к гадателям.
Авгуры ждали долгое время, но птицы не показывались. Боги не желали открывать своих предначертаний. Не доносилось ни звука. Вороны, совы, сычи – все умолкли. Глаза и уши гадателей устали от тщетного напряжения.
Но вдруг на востоке среди завываний ветра послышались заунывные, жалобные человеческие голоса; они походили на невнятный протяжный стон. Они как бы рождались из мрака, нарастали и вылившись в неистовый, пронзительный крик – замерли. Главный авгур побледнел.
Страшное предзнаменование подтвердилось гаданием по внутренностям птиц, видом их печени, почек и цветом их желчи. Священные курицы не прикоснулись к рассыпанным перед ними зернам.
На следующий день авгуры сообщили Нерону об исходе гаданий. Они настаивали на том, чтобы он был осторожен и осмотрителен и, вознося моления, поворачивался на север, где пребывают боги. Неблагоприятные предсказания не произвели, однако, на Нерона особого впечатления.
Он жил в одиночестве, удалившись от людей, окруженный лишь обращенными в далекое прошлое воспоминаниями.
Живой мертвец, он безвольно слонялся по дворцу; неясные муки наполняли его праздность. Подобно Спорию – он стал напиваться, и вечером, с отуманенным сознанием, падал на ложе. Но он не спал, а все думал о минувшем. Когда ему становилось тоскливо – он призывал стражника, стоявшего у дверей опочивальни.
– Войди же, наконец, Анкус! – крикнул он и на этот раз.
Появился худощавый, хмурый воин с длинным копьем.
– Это ты? – спросил Нерон, совершенно пьяный, косясь на телохранителя маленькими, заплывшими жиром, глазами, напоминавшими едва заметные глаза кабана. В ответ Анкус осклабился, обнажая бледные, малокровные десны. Он прислонил копье и стал ждать обычных вопросов.
– У тебя есть жена?
Воин утвердительно мотнул головой.
– А дети?
Он кивнул снова.
– Сколько у тебя ребят?
Стражник подумал. Затем, спрятав большой палец – выставил остальные четыре.
– Мальчики?
Анкус опять мимикой ответил «да».
– А девочки есть?
Стражник вновь завозился с собственными пальцами; наконец, поднял три первых.
– Значит, у тебя семеро детей. Здорово! Что они теперь делают? Верно покушали похлебку и пошли спать? Или ждут тебя? Ведь утром твое дежурство кончается…
Лепет Нерона был невнятен; император потерял много зубов и шамкал; стражник с трудом понимал его.
– Я не могу уснуть. Я пил немного, но вино было крепкое.
– А как ты думаешь: кто я такой? Никто этого не постигает! Где же тебе знать? Ты, наверно, никогда и в театре не был?
Анкус на сей раз отрицательно покачал головой.
– Посмотри-ка сюда. Видишь эти венки? Они раньше висели на египетском обелиске. Все, все они мои! Они были мне преподнесены. Их тысяча восемьсот штук. Можешь пересчитать! Есть еловые, оливковые и лавровые.
Стражник выпучил глаза.
– Вот что значит искусство! Надо было меня видеть и слышать! Словами этого не передашь, как ни старайся. Да этого и не вбить в твою деревянную голову. Я писал стихи, которые сам выдумывал. Из собственной головы. Понимаешь? Но знаешь ли ты вообще, что такое поэт? Слышал ли ты, что существовал Виргилий или Гораций?
Нерон стал громко кричать, чтобы расшевелить солдата; он ткнул себя пальцем в грудь: – Так вот! И я – такой, как они. Но я, кроме того, еще пел и играл на лире. Стоило мне только показаться на сцене, как поднимался гром рукоплесканий. Все ревели: «Да здравствует Нерон, божественный артист!» Я непринужденно приветствовал публику и начинал.
Нерон проделал театральные жесты перед телохранителем, который стоял, глазея на него и ничего не понимая.
– Какие я исполнял роли, дружок! От одного воспоминания кружится голова. Вон тот громадный венок мне поднесли, когда я играл Эдипа. Эдип – это был сын царя, который убил отца и женился на родной матери. Но на сцене это был я. Конечно – не в самом деле! Я переодевался, нацеплял маску, чтобы меня не узнали, и начинал чудесно декламировать. Зрители трепетали. Когда же в последнем действии я железными перстами вырывал собственные глаза и, ослепнув, начинал спотыкаться – все рыдали. А между тем, гляди: оба глаза у меня целы.
Анкус впился в глаза Нерона и опешил.
– Тебе этого не постичь, ослиная голова! Играть – дело не легкое. Надо показать то, чего нет, создать нечто из ничего: и чтобы, вдобавок, было правдоподобно! Я часто умирал, бросался во всю свою длину на сцену и несколько раз даже ударился. Но после я снова вскакивал на ноги: я был вовсе не мертв, а жив и здоров.
– Я так прекрасно притворялся, что мне все верили. Однажды, в какой-то греческой трагедии, я играл исступленного Геркулеса. Перед поднятием занавеса я сидел в гардеробной – это комната, где артисты красятся и наряжаются как куклы. Понял? – Сижу я, а мне сковывают руки. Не в обыкновенные кандалы, какие тебе приходилось видеть; ничего подобного! Ими удовлетворялись другие, посредственные актеры, вроде Антиоха или Памманеса; но для меня были приготовлены золотые кандалы. Взглянул бы ты на них: тяжелые, блестящие!.. Но лишь только мне сковали руки, из за низкой стены выскочил воин вроде тебя, стал так же близко от меня, как ты вот сейчас стоишь, и замахнулся мечом, чтобы разбить мои оковы. Добрый, простодушный малый! Он думал, что я не на шутку попал в беду, и решил спасти своего императора. Вот как я играл!
Стражник ухмыльнулся.
Это подзадорило Нерона. – Я мог бы рассказать еще многое… Однажды я вышел нагим на арену и собственными руками задушил молодого льва. В другой раз – я был женщиной; в вырезанном платье, в кружевах и с завитыми волосами. Подложив подушку под тогу, я с большим животом вышел на сцену и поднял такой стон, что публика закричала мне: «Разрешись, император!» Эта роль была венном моего успеха, что поневоле признал даже Парис. Я чувствовал, что вложил в нее все; мои жесты и интонация были неподражаемы, а пережигания я передал так естественно, что сам себе показался женщиной.
– Постой! Кем я был еще? Ниобеей! Да! И Орестом – я чуть ли не забыл главного! Присядь, Анкус.
Усталый стражник, переступавший с ноги на ногу, сел и прислонил голову к копью.
– Моя слава сияла, – воодушевляясь продолжал Нерон. – Но все же люди недостойны того, чтобы им являлся бог. Искусство – неблагодарнее ремесло. Оно возбуждает мимолетную признательность и упорную зависть. Поверь мне! Не стоило тратить столько сил! Рим – тупой город. Латинская раса не понимает творчества. Она выдвинула только бойцов и юристов и ей – я отдал всю свою душу!
Не так меня приняли в Ахайе! В Неаполе население посыпало шафраном улицы, по которым проезжала моя колесница, и целовало у меня руки и ноги. В то время местный театр провалился от землетрясения, но благодаря моему божественному искусству никто не пострадал. Мне следовало бы жить в Элладе, в Афинах – этом городе городов! Но увы, я здесь! Часто я оплакиваю свою судьбу, не позволившую мне родиться греком. Разве я не прав, Анкус?
Нерон не получил ответа. Стражник храпел.
– Чурбан! Сразу видно, что и ты – римлянин, дикий волк. На всех вас нужно воздействовать бичом, а не искусством.
Вскоре, однако, и «служителя искусства» – Нерона одолел сон.







