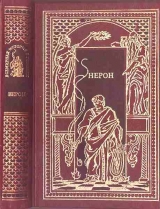
Текст книги "Нерон"
Автор книги: Висенте Бласко
Соавторы: Вильгельм Валлот,Д. Коштолани,Фриц Маутнер
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 38 страниц)
Раздраженный запахом мяса и соусов, он предпочел уйти отсюда, чтобы не испытывать этих мук Тантала. Выходя он столкнулся с высоким мужчиной, одетым лишь в темный сагум и сандалии с ремешками, перекрещивающимися до колен. Он походил на кельтиберского пастуха, но грек, столкнувшись с ним и обменявшись быстрым взглядом, испытал такое впечатление, как будто он не в первый раз видит эти властные глаза, напоминающие глаза орла, сидящего у ног Зевса.
Грек, равнодушный к людям, не обратил вниманиям эту встречу. Он теперь хотел лишь заглушить голод а, если окажется возможным, заснуть до восхода солнца. Быстро удаляясь от этого жалкого предместья, освещенного и шумного, он искал места, где бы мог отдохнуть, а направился к храму Афродиты. От храма, возведенного на высоте холма, спускалась голубая мраморная лестница, первые ступени которой примыкали к набережной.
Грек опустился на нежный камень, предполагая дождаться здесь наступления дня. Луна освещала всю высокую часть храма. Гул портовой жизни доходил сюда смягченный, смешанный и как бы рассекающий величественную тишину ночи, в которой таяла отдаленный плеск моря, трепетный ропот оливковых деревьев и монотонное пенье лягушек, живущих в соленых болотах.
Грек услышал повторяющийся несколько раз крик, протяжный и жалобный, похожий на вой волка. Внезапно он прозвучал за его спиной; он ощутил на своем затылке горячее дыхание и, оглянувшись, увидел женщину, которая наклонялась к нему, протягивая руки, прикрытые тряпьем, и тупо улыбалась, открывая рот и обнажая челюсть, лишенную нескольких зубов.
– Привет, прекрасный чужеземец. Я видела тебя убегающим от сборища; но в одиночестве ты бы соскучился и я пошла вслед за тобой, чтобы ты был счастлив…
Грек сразу узнал женщину. Это была волчица порта, одна из тех несчастных, которых он видел на пристанях всех стран: космополитические и жалкие куртизанки, любимые на одну ночь людьми всех племен и рас, покорно растягивающиеся на камне или в тени лодки, чтобы заработать несколько оболов; прежние гетеры, превращенные в скотов; беглые рабыни, ищущие свободы в распутстве, грязи и пьянстве; самки, предлагающие любовь грубым людям моря; несчастные животные, изнуряемые в молодости чрезмерными ласками и подвергающиеся в старости побоям.
Чужеземец смотрел на эту еще молодую женщину и замечал в ней следы красоты, но она был изнурена, глаза слезились и рот был обезображен сломанными зубами. Она была прикрыта широкой тканью, прекраснейшей выделки, но уж грязной и потертой; ноги ее были не обуты, а спутанные длинные волосы поддерживались медной гребенкой, к которой несчастная приколола несколько лесных цветов.
– Ты напрасно теряешь время, придя сюда, – сказал грек с добродушной улыбкой. – У меня в кошельке нет ни единого обола.
Мягкий тон этого человека, казалось, сообщился бедной куртизанке. Она была существом, привыкшим к побоям; мужчина является для нее воплощением грубых ударов, животных наслаждений, сопровождаемых укусами; и перед мягкостью грека она растерялась и почувствовала робость, как перед опасностью.
– У тебя нет денег? – смиренно проговорила она после долго молчания. – Это ничего… я останусь здесь с тобой. Ты мне нравишься; я твоя раба; среди всего этого люда, собравшегося в трактире, мои глаза остановились на тебе.
И она наклонилась к греку, лаская огрубевшими руками его вьющиеся волосы; он же смотрел на нее с сожалением в глазах.
Чужеземец, голодный и одинокий, в незнакомом порте чувствовал себя растроганным добротой этой несчастной: это была братская дружба бедности.
– Если хочешь, останься со мной; говори, что пожелаешь, но не ласкай меня. Я голоден: я ничего не ел с самого утра и в данную минуту я променял бы все ласки за порцию любого моряка.
Блудница была поражена удивлением.
– Ты голоден?.. Ты изнемогаешь от голода, тогда как я была уверена, что ты питаешься амброзией Зевса.
И ее глаза выразили точно такой же ужас, как если бы она увидела Афродиту, богиню чистой наготы, хранящуюся наверху в храме, спустившейся с своего мраморного пьедестала и протягивающую за оболом руку к гребцам порта.
– Погоди, погоди!.. – решительно проговорила она, после долгой минуты размышления.
Грек увидел, как она побежала к хижинам, и, когда усталость и слабость уж стали смежать его глаза, он вторично почувствовал ее подле себя, она толкала его.
– Возьми, мой господин. Мне многого стоило достать это. Жестокая Лас, старуха, ужасная, как Парки, которая помогает нам в черные дни, решилась дать мне свой ужин лишь после того, как взяла с меня клятву, что с восходом солнца я принесу ей два секстерциоса. Кушай, любовь моя; кушай и пей.
И она положила на ступенях теплый круглый хлеб, несколько сухих рыб, половину белого сагунтского сыра, мягкой и сочащейся сыворотки и кувшин кельтиберского пива.
Грек приблизился к кушаньям и стал с жадностью уничтожать их, а волчица следила за ним взглядом, который минутами смягчался, принимая почти материнское выражение.
– Я бы хотела быть столь же богатой, как Сонника, которая начала так же, как и каждая из нас, а теперь госпожа многих из этих кораблей, имеет чудесные, как Олимп, сады, толпы рабов, и фабрики глиняной посуды, и половина земель принадлежит ей. Я бы хотела быть богатой хоть лишь на эту ночь, чтобы угостить тебя всем тем прекрасным, что только есть в порте и в городе; чтобы устроить для тебя такой же пир, как пиры Сонники, которые длятся до рассвета, и где бы ты, увенчанный розами, пил самосское вино в золотых чашах.
Грек, тронутый простотой и искренностью, с которой говорила эта несчастная, посмотрел на нее с нежностью.
– Не благодари меня… это я должна воздать тебе благодарность за то счастье, которое ты доставил мне, позволив дать тебе поесть. Почему так? Не знаю… Никто не прикасался к моему плечу, не дав мне чего-нибудь Одни давали медные монеты, другие – кусок ткани или чашу вина, большинство же награждало меня побоями и укусами; все давали мне что-либо, и я страдала и ненавидела их. А ты, который прибыл сюда бедным и голодным, который не ищешь меня, не хочешь меня, который ничего мне не даешь, ты рождаешь во мне радость тем, что не даешь, ты рождаешь во мне радость тем, что подле меня, и тело мое испытывает неведомое счастье. Дав тебе покушать, я чувствую себя пьяной, точно вышла после пиршества. Скажи, грек: действительно ли ты человек, или же отец богов, который, спустившись на землю, пришел осчастливить меня.
И возбужденная своими собственными словами, она поднялась до половины лестницы и, воздев свои худые руки к храму, озаренному луной, воскликнула:
– Афродита! Моя богиня! В тот день, когда я соберу столько, сколько стоит пара голубей, я принесу их, украшенных цветами и шелковыми лентами огненного цвета, на твой жертвенник в память этой ночи.
Грек отпил горький напиток из кувшина и протянул сто куртизанке, которая стала искать на глине то самое место, к которому прикасались уста ее спутника, чтобы прильнуть к нему своими губами. Она не прикоснулась к ужину, часть которого предложил грек, только пила, и это, казалось, делало ее более разговорчивой.
– Если бы ты знал, чего мне стоило раздобыть все это!.. Улички переполнены пьяными, которые, валяясь в грязи и волоча друг друга под руки, обрывают тебе платье и кусают ноги. Вино течет из дверей трактиров. На набережной не лучше. Несколько африканцев гнались за поселянином и, поймав его, опустили головой вниз в воду; одного кельтибера сшибли с ног ударом кулака. А Тугу, иберийскую девочку, схватили за ноги и погрузили с головой в самую большую, какая только оказалась в харчевне, бочку; когда ее вытащили оттуда, она была полузадушена вином. Это обычное развлечение. А бедную Альбуру, одну мою подругу, я видела окровавленной, сидящей на земле и держащей на ладони глазное яблоко, которое у ней выскочило от удара кулака пьяного египтянина. И так каждую ночь. Теперь все это рождает во мне страх. Мне кажется, как только я тебя узнала, я очутилась в новом мире и впервые увидела то, что меня окружает.
И продолжая говорить, она рассказала ему свою историю. Ее звали Бачис, и она не знала точно своей родины. Вероятно, родилась она в другом порте, так как смутно помнит в первые годы своей жизни длинное путешествие на корабле. Мать ее, должно быть, была волчицей порта, а она явилась плодом встречи с каким-нибудь моряком. Имя, которое ей дали с детства, было именем многих знаменитых куртизанок Греции. Одна старуха, вероятно, купила ее у лоцмана, который привез ее в Сагунт, и еще девочкой, задолго до того как стать женщиной, она познала любовь, принадлежа посещающим хижину старухи портовым негоциантам и отпущенникам города, которые рекомендовали друг другу это детское тело, слабое и жалкое, на котором еще не замечалось округленных форм ее пола. После смерти своей хозяйки она стала волчицей и перешла в распоряжение моряков, рыбаков, пастухов ближайших гор, всего этого зверья, наполняющего порт.
Ей еще не было двадцати лет, а между тем она была уже состарившейся, обессиленной, изнуренной распутством и побоями. Город она видела всегда лишь издали. За всю свою жизнь она была в городе всего два раза. Туда не пускали волчиц. Мирились только с их пребыванием подле храма Афродиты, обеспечивая таким образом безопасность Сагунта, который являлся избавленным от нежелательного наплыва людей всех стран, прибывающих в порт, но в городе иберийцы чистых нравов негодовали при виде куртизанок, а развращенные греки обладали слишком утонченным вкусом, чтобы Чувствовать сострадание, а не отвращение к этим продавщицам любви, которые, как животные, с ожесточением кидались на гроздь винограда или горсть орехов.
И здесь, под покровом храма Венеры, протекала ее жизнь в постоянном ожидании новых кораблей и новых людей, которые набрасывались на нее наглые и грубые, как сатиры, раздраженные долгим воздержанием на море. И так будет продолжаться до тех пор, пока не убьют ее среди ссоры моряки или же пока не умрет она от голода подле какой-нибудь оставленной лодки.
– А ты? Кто ты? – закончив свой рассказ, спросила Бачис.
– Мое имя Актеон; моя родина – Афины. Я изъездил много света: в одном месте я был солдатом, в другом мореплавателем; я сражался, я торговал; я сочинял стихи и вел с философами беседы о таких предметах, о которых ты и не слыхала. Я много раз бывал богат, а теперь ты мне даешь есть. Вот и вся моя история.
Бачис смотрела на него удивленными глазами, угадывая под его сжатыми словами все прошлое, полное приключений, ужасных опасностей и чудесных превратностей судьбы. Она вспоминала храбрые подвиги Ахиллеса и полную приключений жизнь Одиссея, много раз слышанные ею воспетыми в стихах, которые декламировали в пьяном виде греческие моряки.
Куртизанка, склонившись на грудь Актеону, ласкала одной рукой его волосы. Грек, благодарный, братски улыбался Бачис с таким бесстрастием, точно она была девочкой.
Из-за хижин вышли два моряка и, покачиваясь, направились по набережной. Пронзительный вой, который, казалось, рассек воздух, прозвучал над ухом Актеона.
Его подруга, побуждаемая привычкой, с инстинктом продавца, издали угадывающего покупателя, вскочила на ноги.
– Я вернусь, мой господин. Я позабыла об ужасной Лаисе. Надо уплатить ей деньги до восхода солнца. Она изобьет меня, как избивала не раз, если я не исполню своего обещания. Жди меня здесь.
И повторяя свой дикий вой, она пустилась вдогонку за моряками, которые приостановились и приветствовали крики волчицы взрывами смеха и похабными словами.
Оставшись один и уж не чувствуя голода, грек подумал о том, что сейчас произошло, и ощутил истинное отвращение. Актеон, афинянин, тот, которого оспаривали на Церамико самые богатые гетеры прекрасного города, покровительствуем и обожаем распутницей порта.
И, не желая более встречаться с ней, он бежал прочь от лестницы, углубляясь в улички порта.
Вторично он очутился перед тем трактиром, у дверей которого испытывал муки голода. Оргия среди моряков была в полном разгаре. Трактирщик с трудом мог отстоять свою неприкосновенность за прилавком. Рабы, напуганные побоями, запрятались на кухню. На полу лежало несколько красных амфор, из которых точно ручьи крови, текло вино, а среди жидкости, смачивающей землю, валялись пьяные. Египтянин исполинской силы бегал на четвереньках, подражая реву шакала и кусая женщин, которые находились в харчевне. Несколько негров танцевали с женоподобными движениями, созерцая, точно загипнотизированные, свой пуп, который шевелился от судорожных движений живота. Разгулявшиеся мужчины и женщины сваливались по углам на каменные скамьи под грубым светом факелов. Испаренье голого потного тела смешивалось с запахом вина.
Среди этого разгула только несколько человек подле прилавка оставались безучастными к окружающему и вели спор с мнимым спокойствием. Это были два римских солдата, старый карфагенянин и кельтибер.
Римлянин вспомнил свое участие в сражении на Эгатских островах, бывшем сорок лет тому назад.
– Знаю я вас, – говорил он с заносчивостью карфегенянину. – У вас республика торгашей, рожденных для плутовства и мошенничества. Если искать того, кто сумеет подороже продать, надув покупателя, то я согласен, что вы будете первыми; но если говорить о солдатах, о мужах, то лучшими из них будем мы, сыны Рима, которые держим одной рукой плуг, а другой – копье.
И он поднял с гордостью свою круглую голову с бритыми волосами и бритыми щеками, на которых тиски каски оставили твердые мозоли.
Актеон смотрел через окно на кельтибера, единственного из группы, который сохранял спокойствие, но не спускал глаз с бронзового шлема римского воина, с его обнаженной шеи, точно его привлекли толстые вены, которые выступали под кожей. Без сомнения, эти глаза грек где-то видел, они были ему давно знакомы, но имени их обладателя он не мог вспомнить. Грек своим тонким чутьем угадывал какую-то личину в фигуре кельтибера.
– Клянусь Меркурием, что этот человек не таков, каким я его вижу. Более всего он походит на пастуха, но бронзовый цвет его лица не есть цвет лица кельтиберов, загорелых от солнца. А его длинные, спадающие на плечи волосы кажутся накладными…
Далее он уже не изучал этого человека, так как сосредоточил все свое внимание на споре между римским воином и старым карфагенянином, которые все более приближались друг к другу, чтобы лучше слышать среди шума, царящего в трактире.
– Я также был участником в печальном сражении на Эгатских островах, – говорил карфагенянин. – Там получил я этот шрам, который пересек мне лицо. Действительно, вы победили нас; но что же из этого следует? Много раз я видел ваши корабли, преследуемые нашими, и не раз на полях Сицилии насчитывал я сотнями римские трупы. О! Если бы Ганон в день сражения прибыл на острова не так поздно. Если бы Гамилькар получил подкрепление!
– Гамилькар! – воскликнул презрительно римлянин. – Великий полководец, который и совершил лишь то, что предложил нам мир. Коммерсант, превращенный в завоевателя!..
И с заносчивостью сильного он смеялся, не боясь гнева старого карфагенянина, который заикался, пытаясь возражать.
Кельтибер, который до сих пор молчал, опустил свою руку на плечо сурика.
– Молчи, карфагенянин. Римлянин прав. Вы, по сравнению с ними, несведущие в войне лавочники. Вы слишком любите деньги для того, чтобы господствовать мечом. Но люди твоего сословия ведь не представляют собою всего Карфагена; есть другие, родившиеся там же, которые сумеют устоять перед мужичьем Италии.
Римлянин, видя, что в их спор вступил крестьянин, стал еще заносчивее и наглее.
– И кто ж это такой? – крикнул он с презрением. – Не сын ли Гамилькара? Этот мальчишка, мать которого, как говорят, была рабыня.
– Одна блудница родила сыновей, которые основали город, римлянин; и не далек тот день, когда лошадь Карфагена лягнет волчицу Ромула.
Воин поднялся, дрожа от негодования и ища свой меч, но в то же мгновение испустил дикий крик и упал, подняв руки к горлу.
Актеон видел, как кельтибер опустил свою руку под сагум и, вытащив нож, ранил им воина вдоль шеи, которую с жестоким вниманием изучал, пока тот издевался над Карфагеном.
Трактир дрогнул от шума борьбы. Другой римлянин, видя упавшим своего сотоварища, бросился на кельтибера с высоко поднятым мечом, но мгновенно ему был нанесен удар ножа в лицо, и он почувствовал себя облепленным кровью.
Ловкость этого человека была изумительна. Его движения отличались эластичностью пантеры; удары, казалось, отражались от его тела, не нанося ему вреда. Вокруг него сыпался град разбитых кувшинов, обломков амфор, мелькавших в воздухе мечей; но он, с поднятой рукой и ножом в кисти, сделал быстрый прыжок к дверям и скрылся.
– За ним! За ним! – вопили римляне, преследуя его.
И, привлеченные грубым удовольствием охоты за человеком, за ними последовали из трактира все, кто только мог еще держаться на ногах. Толпа людей, возбужденная видом крови, прыгала через умирающего римлянина и бесчувственных пьяниц, которые храпели подле обезглавленного. Грек видел, как они выбежали, и, разбившись на отдельные группы, разбрелись в различных направлениях, чтобы поймать кельтибера. Но тот скрылся в нескольких шагах от трактира, точно растаял во мраке.
Гавань заволновалась, охваченная горячкой погони. Замелькали огни на набережной и на уличках предместья; лупанары и харчевни подвергались грубому вторжению римлян, опьяненных злостью; у дверей каждой лачуги возникали новые ссоры, могущие перейти в кровавую расправу, и грек, боясь быть вовлеченным в распрю, быстро повернул к лестнице храма. Бачис не вернулась, и грек, поднявшись по голубым ступеням, очутился во дворе храма, широкой террасе, вымощенной плитами голубого мрамора, на который поддерживающие фронтон колоннады бросали косые линии теней.
Пробуждаясь, Актеон почувствовал на своем лице теплоту солнца. Птицы пели на соседних масличных деревьях, а возле него звучали голоса. Очнувшись, он с удивлением увидел, что наступило утро, тогда как он был уверен, что прошло несколько минут с тех пор, как им овладел сон.
Молодая женщина, патрицианка, стояла в нескольких шагах от него и улыбалась. Она была обвита широкой тканью белой шерсти, которая, словно одеяние статуи, спускалось изящными складками к ее ногам. Волос не было видно, кроме нескольких белокурых завитков, спадающих на лоб. Губы были накрашены, а черные бархатные глаза, с мягкою ласковостью во взгляде, казалось, были окружены голубоватым сиянием от утомления бессонной ночи. При малейшем движении руки под мантией звенели серебряным звоном невидимые драгоценные украшения, а кончик сандалии, видневшийся из-под края одеяния, сверкал, точно алмазная звезда.
Позади нее две высокие рабыни кельтиберки со смуглой, пышной, почти обнаженной грудью и бедрами, опоясанными многоцветной тканью, держали: одна – пару голубей, а другая – на голове ларчик, покрытый розами.
Возле красивой патрицианки Актеон увидел Полианто, сагунтского лоцмана, и юношу, надушенного и изящного, который был на набережной с другим всадником во время прибытия корабля.
Грек невольно встал, пораженный прекрасным видением, которое улыбалось ему.
– Афинянин, – обратилась к нему женщина по-гречески, с чистейшим произношением. – Я – Сонника, собственница корабля, который тебя сюда доставил. Полианто – мой отпущенник и он очень хорошо поступил, привезя тебя. Он ведь знает, что твой народ привлекает меня. Кто ты?
– Я – Актеон и молю богов, чтобы они осыпали тебя милостями за твою доброту. Да сохранит Венера твою красоту на всю жизнь.
– Ты мореплаватель?., или же купец? Быть может, странствуешь по свету, преподавая уроки красноречия и поэзии?
– Я солдат, как были солдатами все мои родные. Мой дед умер в Италии, защищая великого Пирра, который оплакивал его, как брата; мой отец был капитаном наемников на службе у Карфагена и его несправедливо умертвили в войну, именуемую неумолимой.
Несколько секунд он молчал, словно это воспоминание мешало ему продолжать, лишив голоса, и затем добавил:
– Я сражался до тех пор, пока не смолкли приказания Клеомана, последнего лакедемонянина. Я был одним из его сотоварищей, и когда герой пал побежденным, я сопровождал его в Александрию; изъездив свет, я снова вернулся на родину, будучи не в силах выносить изгнания. Я также был купцом в Родосе, рыбаком в Босфоре, земледельцем в Египте и сатирическим поэтом в Афинах.
Красавица Сонника улыбалась, приблизившись к нему. Он был истым афинянином, обладающим всеми качествами этого столь любимого ею народа; одним из этих искателей приключений, привыкших к превратностям судьбы, объездившим весь свет и на старости лет записывающим многие эпизоды из деяний своей жизни.
– А почему же ты прибыл сюда?
– Я здесь так же случайно, как случайно мог очутиться в другом месте. Твой лоцман предложил довезти меня в Зазинто, и я согласился. Я тосковал в Новом Карфагене. Меня могли принять в войска Ганнибала; мне достаточно было бы для этого назвать свое происхождение: греки дорого оплачиваются во всех войсках. Но здесь также война, и я предпочитаю идти против турдетанов, служить городу, которого не знаю.
– И ты здесь провел эту ночь? Разве ты не нашел приюта в трактирах?
– Я не нашел ни единого обола в своем кошельке. И если мне удалось поужинать, то только благодаря доброте одной несчастной блудницы, которая разделила со мною свою нужду. Я беден и отощал от голода. Но не жалей меня, Сонника, не гляди на меня глазами сострадания. Я также устраивал пиры, которые длились всю ночь до восхода солнца; в Родосе, в часы песен, мы кидали рабам серебряные блюда. Жизнь человека должна быть, как жизнь героев Гомера: то царь, то нищий.
Полианто смотрел с интересом на этого искателя приключений, а Лакаро, который принципиально был против того, что его приятельница Сонника оказывает внимание греку, столь плохо одетому, все же сам приблизился к нему, признавая изящество афинянина под его убогим наружным видом, и намереваясь сделать его своим другом, чтобы воспользоваться полезными уроками.
– Приходи сегодня в мой загородный дом, – сказала Сонника, – когда станет заходить солнце. Ты отужинаешь с нами Спроси первого встречного, где моя вилла, и каждый укажет тебе ее. Один из моих кораблей привез тебя в этот порт, и я хочу, чтоб под моим кровом ты нашел гостеприимство. До скорого свидания, афинянин. Я ведь также из Афин и при виде тебя мне показалось, что пред моими глазами еще сверкает золотое копье, украшающее верхушку Парфенона.
Сонника, кинув афинянину улыбку, направилась к храму, сопровождаемая своими двумя рабынями.
Актеон слышал, что говорили Лакаро и Полианто, стоя у храма. Минувшая ночь была проведена в доме Сонники. Лишь с восходом солнца оставили стол. Голова Лакаро была еще украшена венком пиршества с увядшими и лишенными листьев розами. Сонника почувствовала капризное желание увидеть Полианто и свой корабль, а также захотела по пути принести жертву Афродите, как это делала всегда, отправляясь в порт.
Лоцман отправился к своему кораблю, а Актеон направился с Лакаро к открытым дверям храма.
Внутри царила тишина и великолепие. В кровле здания было оставлено для освещения храма большое квадратное пространство, и солнце, проникая сквозь это окно, придавало зеленоватый отлив морской воды этим голубым колоннам с их капителями, изображающими раковин, и дельфинами, обвивающими их подножия. В глубине, обвеянной нежным полусветом, затуманенным жертвенными курениями, возвышалась богиня, белая, гордая и прекрасная в своей наготе, точно сейчас только вышедшая из морской пены и представшая перед изумленными очами людей.
Недалеко от дверей стоял жертвенник. Подле него жрец, в широкой шерстяной мантии, прикрепленной к голове венком цветов, принимал из рук Сонники дары жертвоприношения.
Когда Сонника вышла на перистиль, она обвела любовным взглядом море, покрытое пеной, порт, который сверкал точно тройное зеркало, зеленую и безграничную долину и далекий город, озаренный золотым сиянием первых солнечных лучей.
– Какая красота!.. Взгляни, Актеон, на наш город. Греция не лучше его.
У подножия лестницы ее ожидали носилки, настоящий маленький дом с пурпуровым пологом и украшенный по четырем углам страусовыми перьями.
Сонника вошла в это подвижное жилище, переносимое рабынями, отстранила Лакаро, с которым обращалась как с низшим существом, приближаемым лишь по капризу, и снова взглянув на грека, стоящего на высоте храма, в последний раз улыбнулась, сделав прощальный жест рукой, унизанной до ногтей драгоценными перстнями и при каждом движении проливающей в воздухе ручьи света.
Носилки стали быстро удаляться по дороге, идущей в город, и в то же время Актеон почувствовал, что его шею ласково обвивают чьи-то руки.
Это была Бачис, еще более поблекшая и оборванная при свете солнца. Под глазом у нее был багровый подтек, а на руках фиолетовые пятна.
– Я не могла освободиться и прийти, – сказала она с покорностью рабыни. – Что за народ! Мне едва удалось заработать, чтобы заплатить Лаисе… Всю ночь я думала о тебе, мой бог, в то время, как меня мучили эти опротивевшие сатиры.
Актеон невольно отстранил лицо, избегая ее ласк. Он слышал запах вина, идущий от этой несчастной, охмелевшей и изнуренной после своих ночных похождений.
– Ты избегаешь меня?.. Я понимаю. Я видела тебя беседующим с богачкой Сонникой, которую ее друзья называют первой красавицей Зазинто. Не станешь ли ты ее любовником? Я понимаю, что она будет обожать тебя, но ведь она такая же женщина, как и я… не более… Скажи, Актеон: почему ты отталкиваешь меня? Почему не сделаешь своей рабой?..
Грек отвел ее худые руки, которые пытались обнять его, и устремил взгляд на дорогу, откуда доносились звуки труб и виднелись среди большого облака пыли сверкающие каски и копья.
– Это едут послы Рима, – сказала куртизанка.
И привлеченная очарованием, производимым военными на ее детское воображение, она спустилась с лестницы храма, чтобы лучше видеть шествие.
Впереди шли трубачи римского корабля, дующие в свои длинные металлические трубы, со щеками, перевязанными широкими шерстяными лентами. Конвой из граждан Сагунта окружал послов, гарцуя на своих мохнатых кельтиберских лошадях, держа в руках копья и прикрыв головы шлемами, которые скрывали следы ударов, полученных в последних стычках с турдетанами. Несколько старцев сагунтского сената ехали на своих больших лошадях, неподвижно, с белыми бородами, спускающимися на грудь и доходящими до стремян, в темных мантиях, придерживаемых на голове вышитыми тиарами. Могучий классияр держал знамя Рима, которое заканчивалось изображением волчицы, а позади знамени следовали послы с обнаженными бритыми и круглыми головами: один – тучный, с тройным от жира подбородком, другой – сухой, нервный, с заостренным носом хищной птицы; оба в броне из шлифованной бронзы, в металлических котурнах, прикрывающих их ноги; на изогнутые в дугу бедра спадали полы одеяния, цвета винной гущи, украшенные золотыми завязками, которые колебались при малейшем движении лошадей.
На набережной, среди групп моряков, рыбаков и рабов, встречалась кучка закутанных в плащи женщин, которые шли в сопровождении старика с наглым взглядом, сжатыми губами и с тем отталкивающим выражением, которое лежит на лицах евнухов, живущих в постоянном общении с женщинами-рабынями. Это были танцовщицы из Гадеса, которые, сойдя с корабля Полианто, проходили набережную, оглушенные неожиданным шумом торжественного шествия.
Несколько женщин из рабочей пристани поднесли послам венки, сплетенные из цветов ближайших гор и касатки лагун. Крики приветствия раздавались вдоль пристани, на которой среди возбужденной толпы стояли безучастные группы моряков всех стран.
– Привет Риму! Да покровительствует вам Нептун! Боги да сопутствуют вам!
Актеон услышал позади себя глумливый взрыв смеха и, оглянувшись, увидел кельтиберского пастуха, который минувшей ночью убил римского воина.
– Ты здесь? – сказал грек с изумлением. – Ты один и не бежишь от римлян, которые тебя ищут?
Надменные глаза пастуха, те глаза, которые будили в греке смутные и непонятные воспоминания, гордо взглянули на него.
– Римляне!.. Я их презираю и ненавижу. Я пошел Си без страха хотя бы на палубу их корабля… У тебя свои соображения, Актеон, и ты не проник в мои.
– Как знаешь ты мое имя? – воскликнул грек с возрастающим изумлением, удивляясь также тому совершенству, с которым простой пастух говорил по-гречески.
– Я знаю твое имя и твою жизнь. Ты сын Лисастро, капитана, бывшего на службе у Карфагена, и как все люди твоей нации ты странствуешь по свету, нигде не встречая блага.
Грек, столь сильный и не терявшийся ни при каких обстоятельствах, почувствовал себя смущенным перед этим загадочным человеком.
Кельтибер же, поглощенный созерцанием шествия, провожающего послов, повернулся спиной к Актеону. Глаза его выражали ненависть и презрение при виде сверкающей на солнце бронзовой волчицы римского знамени, приветствуемого сагунтцами.
Они мнят себя сильными, они уверены в себе потому, что Рим покровительствует им. Они воображают, что Карфаген умер потому, что его сенат, состоящий из торгашей, боится нарушить договор с Римом. Они обезглавили сагунтских друзей Карфагена, тех, которые были давнишними сторонниками Барков и выходили приветствовать Гамилькара, когда он проходил вблизи города, отправляясь в свои походы. Но они не знают, что есть тот, который не дремлет… Мир слишком тесен для двух народов. Быть или одному, или другому!..
Возгласы толпы, приветствовавшей ялик, на котором послы отплывали к либурнике, и шумные звуки труб, которые гремели на носу корабля, казалось, действовали на пастуха, словно удары бича, и со стиснутыми зубами, с глазами, покрасневшими от гнева, он простер свои могучие руки к кораблю и кинул, как зловещую угрозу.
– Рим!.. Рим!..







