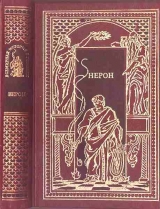
Текст книги "Нерон"
Автор книги: Висенте Бласко
Соавторы: Вильгельм Валлот,Д. Коштолани,Фриц Маутнер
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 38 страниц)
Пастух был Ганнибал.
III. Танцовщицы из Гадеса
Сонника проснулась спустя часа два после полудня. Косые лучи солнца пробивались сквозь золоченые прутья окна, увитые листвой виноградных лоз. Их свет озарял колонны розового мрамора, украшающие двери, и яркий лепной гипс, который служил рамой сценам Олимпийских Игр, расписанных на стене.
Гречанка скинула на пол покров из белой себатисской шерсти.
На звук ее голоса вошла Одация, рабыня кельтиберка, высокая, худощавая, сильная, которую гречанка очень ценила за умение искусно причесывать ее пышные волосы.
Опустив руки на плечи рабыни и улыбаясь, Сонника соскочила с ложа, чтобы сойти в ванну.
Ее нагота покрылась волосами, точно прозрачной золотой тканью. Когда ее обнаженные ноги коснулись пола, изображающего суд Париса, холод мозаики приятным щекотанием вызвал у нее смех, который запечатлел нежные ямочки на ее щеках и пробежал легким волнообразным трепетом по спине.
Она спустилась с трех ступеней и бросилась в яшмовую купель.
– Кто пришел, Одация? – спросила она, погружаясь в глубину бассейна.
– Прибыли женщины из Гадеса, которые будут танцевать эту ночь. Полианто поместил их подле кухонь.
– А еще кто?..
– Чужеземец из Афин, которого ты встретила в храме Афродиты. Я проводила его в библиотеку и не забыла ничего из обязанностей гостеприимства. Сейчас только он кончил принимать ванну.
Сонника улыбнулась, вспомнив утреннюю встречу.
Она вышла из ванны, вздыхая детской и грациозной дрожью, причем при каждом шаге с ее волос сыпал мелкий дождь.
Одация позвала и вошли три рабыни, которые помогали ей совершать прическу госпожи, а также являлись трактат рисами, на обязанности которых лежало массажировать ее тело.
Сонника отдала себя в руки трех женщин, которые с силой растирали ее тело, расправляя члены, чтобы придать им легкость и гибкость. Затем она села в кресло из слоновой кости, положив порозовевшие локти на дельфинов, которых изображали собою ручки сиденья; и в этом положении, выпрямившаяся и неподвижная, она ждала, чтобы рабыни приступили к совершению ее прически.
Одна из рабынь, почти девочка, одетая в полосатую ткань, опустилась на пол на колени, держа большое зеркало, чеканенное из бронзы, в котором Сонника отражалась ниже пояса; вторая достала из мраморных столиков туалетные принадлежности, старательно разложив их. Одация же стала расчесывать гребнями из слоновой кости пышные волосы своей госпожи. Между тем, вторая рабыня приблизилась с бронзовой миской, наполненной сероватой массой. Это была мука из бобов, употреблявшаяся афинскими щеголихами для сохранения и смягчения кожи. Она покрыла ею щеки гречанки, затем выпуклости грудей, живот, бока и ноги, как бы обвивая почти все тело сероватой и блестящей пеленой. В местах, где рос легкий пушок, она смазала дропаксон, составом, истребляющим волосы и приготовленным из уксуса и кипрской земли.
Сонника хладнокровно подчинялась этой подготовке к своему туалету, которая на несколько моментов портила ее, чтобы каждый день возрождать, делая все более прекрасной.
Одация продолжала причесывать гречанку. Она обхватила волны пышных волос, и обе ее руки затерялись в этом сверкающем каскаде; нежно свила их, свернув в своих руках, точно большую золотую змею; снова распустила, разделяя прядь за прядью, чтобы просушить их, и опять принялась любовно расчесывать гребнями из слоновой кости, разложенными на ближайшем столике и представляющими собою настоящие художественные произведения, с тончайшими зубцами и превосходной гравировкой, изображающей лесные сцены, надменных нимф, преследующих оленей, и грубых сатиров, охотящихся за обнаженными красавицами.
Парикмахерша, просушив волосы, стала их красить. Маленькой амфорой, заканчивающейся длинным острием, она смочила их раствором шафрана и аравийской древесной смолы; открыв ларчик, наполненный золотым порошком, припудрила им густые, шелковистые волосы, которые приобрели блеск солнечных лучей. Потом, вложив передние пряди в железную формочку, нагретую на жаровеньке, она создала густые локоны, которыми покрыла лоб гречанки до самых глаз; остальную массу волос собрала на затылке, скрепив и переплетя их красной шелковой лентой, и завила верхушку прически, подражая волнообразному пламени факела.
Сонника поднялась. Две рабыни поднесли тяжелую глиняную амфору, наполненную молоком, и стали обмывать губкой тело госпожи, очищая его от пасты из бобов. Белизна ее кожи стала выступать на свет еще более свежая и сочная.
Ее надушили благовониями, особыми для каждой части тела, чтобы она благоухала, как букет цветов, в котором соединяются различные ароматы. Одация поднесла ларчик с драгоценностями, в котором трепетали самоцветные камни, точно беспокойные и ослепляющие рыбки. Точеные пальцы гречанки равнодушно перебирали груду ожерелий, колец и серег. Сцены из великих поэм были изображены почти микроскопически на камеях сердолика, оникса и агата, а изумруды, топазы и аметисты были украшены чистыми профилями богинь и героев.
Обнаженную грудь Сонники обвило ожерелье из драгоценных камней; ее пальцы покрылись кольцами до самых ногтей, а белизна рук казалась более прозрачной, пересекаемая местами блеском широких золотых браслет. Чтобы придать более выражения лицу, Одация украсила свою госпожу несколькими маленькими мушками, и затем стала завязывать вокруг ее тальи фасцию, шнуровку того времени: широкий шерстяной пояс, который поддерживал округление грудей, чтоб они сохраняли свою строгость линий, не теряя формы от тяжести. Сонника, рассматривая себя в нежную бронзу, улыбалась своему изображению, нагому и прекрасному, как отдыхающая Венера.
– Что оденет госпожа? – спросила Одация.
Сонника не пришла ни к какому решению: она выберет одеяние в уборной. И со всем величием своей обнаженной красоты, шелестя на каждом шагу папирусными сандалиями, она вышла из своей опочивальни, сопровождаемая рабынями.
Между тем Актеон ожидал в библиотеке. Он видел большие дворцы во время своих странствий по свету, созерцал знаменитый родосский колосс, за два года до землетрясения, разрушившего его; посещал Серапиум и могилу великого завоевателя Александрии; он привык к богатству и роскоши, но, невзирая на это, не могут скрыть удивления, которое вызвало в нем это жилище гречанки, воздвигнутое в варварской стране, но более великолепное и художественное, чем дома самых богатых граждан Афин.
Сопровождаемый рабом, Актеон миновал сад с его ропчущей листвой и с криками чужеземных птиц и прошел через колоннаду, которая служила входом в виллу. Вначале был расположен профирум, с его мозаичным цоколем, на котором были изображены дикие, черные собаки с огненными глазами и открытой слюнявой пастью, оскаляющей их песьи зубы.
Над дверями, подле светильника, была прикреплена лавровая ветка в честь богини, охраняющей дом. За профирумом, несколько темноватым, находился под открытым небом атриум с четырьмя рядами колонн, поддерживающих кровлю и образующих многочисленные проходы, на которые выходили ряды дверей жилищ.
В центре атриума находился имплувиум, прямоугольное мраморное углубление для стока с крыш дождевых вод, скопляемых в цистерне. Между колоннами возвышались на пьедесталах большие вазы красной глины, покрытые цветами; четыре мраморные стола, поддерживаемые крылатыми львами, окружали имплувиум, подле которого высилась статуя Амура, служащая в дни празднеств водометом.
Актеон залюбовался художественной стройностью колонн, сделанных так же, как и цоколь галерей, из голубого мрамора, что придавало освещению атриума нежный оттенок, точно здание было воздвигнуто на дне моря.
Затем проводник передал его Одации, любимой рабыне, и последняя повела его в перистилиум, второй двор, значительно больший, чем атриум, и поразивший грека своей художественностью. Нижняя часть колонн была расписана красным, при чем цвет этот сливался с лазурью и золотом на полосах и капителях, снова возобновляясь на орнаментах софита крыши, которая покрывала портик. В открытой части перестиля был сделан в земле глубокий садок с прозрачными водами, в которых, точно золотые блестки, плавали рыбы. Вокруг прудика стояли мраморные скамьи, поддерживаемые столбиками с человечьими головами, столы на дельфинах с перевитыми хвостами, вазы с розами, среди листвы которых виднелись белые или глиняные статуэтки в сладострастных позах; пространства перистиля между дверями жилищ, были украшены большими картинами греческих художников: Орфей, со своей лирой, обнаженный и в фригийском колпаке, окруженный львами и пантерами, которые с опущенными головами внимали его песне; Венера, выходящая из морской пены; Адонис, обращенный в бегство матерью Амура, и другие сцены, восхваляющие силу искусства и красоту.
Актеон увидел подле себя двух молодых рабов, которые проводили его в баню, и, выйдя оттуда, он снова встретил Одацию, которая ввела его в библиотеку, устроенную в глубине перистиля.
Это было большое помещение с мозаичным полом, изображающим торжество Вакха. Юный бог, прекрасный, как женщина, нагой и увенчанный виноградными ветвями и розами, ехал верхом на пантере, высоко держа тирс. Картины стен изображали известные события из Илиады. На полках были расставлены рядами многотомные сочинения, мелкие же произведения были сложены связками в узких ивовых корзинах, выложенных внутри шерстяной подстилкой. Актеон пришел в восторг от богатства библиотеки, насчитав более сотни сочинений. Они представляли собою целое состояние. Сонника поручала мореплавателям привозить ей все известные произведения, которые они находили во время своих путешествий; афинские же книготорговцы доставляли ей самые выдающиеся увеселительные сочинения, которые пользовались успехом в их городе. Все они были из папируса, и свитки навертывались на умбилик, деревянный цилиндр или же костяной, художественно выгравированный на концах. Их листки, исписанные только на одной стороне, были пропитаны на другой кедровым маслом для предохранения их от порчи; на верхней же обложке, разрисованной пурпуром, сверкали суриковые и золотые буквы заглавия сочинения, имя автора и оглавление содержания. Эти многочисленные сочинения заключали в себе жизнь многих людей, громадную сумму труда, затраченного многими; и грек, проникнутый присущим его нации преклонением пред мудростью и искусством, чувствовал себя в тишине библиотеки как бы окруженным величественными тенями стольких великих людей, и его взгляд с благоговением переходил от Гомера в старых, потемневших от времени папирусах, и сочинений Фалеса и Пифагора, к современным поэтам, Феокриту и Калимаку, томы которых не были свернуты, служа для текущего чтения.
Актеон услышал легкое хрустение сандалий в перистиле, и квадрат нежного золота, который падал на пол от света, проникающего со двора сквозь дверь, омрачился чьей-то тенью. Это была Сонника, одетая в тонкую белую тунику.
– Добро пожаловать, афинянин, – приветливо сказала она мелодичным голосом. – Те, которые прибывают из Афин, всегда являются господами в моем доме. Пир этой ночи будет устроен в честь тебя; ведь никто, кроме сына Афин, не может быть царем стола и руководителем разговоров.
Актеон, несколько взволнованный присутствием красивой женщины, обвеянной опьяняющими благоуханиями, стал говорить о ее жилище, о том удивлении, какое оно вызвало в нем своим великолепием в этой варварской стране, и об известности, которой пользовалась его хозяйка в городе. Все в нем говорят о Соннике богачке.
– Да, меня любят, хотя во многих случаях меня осуждают. Но поговорим о тебе, Актеон: расскажи мне, кто ты таков; твоя жизнь должна быть столь же интересна, как и жизнь древнего Одиссея.
И Актеон с откровенной простотой поведал ей свой рассказ.
Он родился в Афинах; двенадцати лет он был перевезен в Карфаген. Его отец состоял на службе у африканской республики, сражался с Гамилькаром в Сицилии. Один и тот же раб воспитывал в деревне сына греческого наемника и ребенка Гамилькара, которому было всего лишь четыре года. Ребенок этот был Ганнибал. Афинянин вспоминал колотушки, которыми он награждал не раз этого маленького дикого звереныша, в отместку за укусы, наносимые ему африканцем неожиданно среди игр. Возгорелось восстание наемников со всеми ужасами, сопровождавшими беспощадную войну, и отец его, оставшийся верным Карфагену и не пожелавший быть в войсках своих сотоварищей, был распят карфагенской чернью, которая, позабыв его раны, полученные за Республику, видела в нем чужеземца. Сын спасся чудесным образом от кровавого мщения, и верный раб отвез его на судне в Афины.
Там, под покровительством родственников, он получил воспитание, даваемое всем греческим юношам. Он получил награды Гимназии за атлетическую борьбу, бега и игру в диск; учился ездить верхом без уздечки; опираясь лишь кончиком ноги на выемку копья; чтобы смягчить суровость этого воспитания, его учили играть на лире и петь стихотворения различного размера и, став крепким телом и сильным знанием, он был послан, как и все афинские юноши, для своих первых военных опытов, в пограничный гарнизон.
Ему наскучила бездеятельность этого существования, он был беден, но любил радости и наслаждения жизни; кровь его предков, которые все были солдатами, кипела в нем, и он бежал из Аттики, чтобы заняться рыболовным промыслом в Понто Эвксинском. Затем стал мореплавателем, торговал на море и на суше: его караваны углублялись в Азию, минуя воинственные племена в народы, которые жили среди изнеженности отдаленной и дряхлеющей цивилизации. Он был влиятельным лицом при дворе некоторых тиранов, которые восторгались им, когда он залпом выпивал амфору душистого вина и, с ловкостью афинянина, побеждал одним ударом кулака гигантов телохранителей; и, приобретя богатства, он выстроил дворец в Родосе, подле моря, и устраивал пиршества, которые длились по три дня и по три ночи. Землетрясение, которое разрушило колосс, покончило с его состоянием: потонули его корабли, погибли под волнами его магазины, наполненные товарами, и он снова стал странствовать по свету, являясь в одном месте учителем пения, в другом военным преподавателем молодежи; и так продолжалось до тех пор, пока, привлеченный войною Спарты, он ступил в армию Клеомена, последнего греческого героя, которого он сопровождал, когда тот, после поражения, отплыл в Александрию. Бедняк, без иллюзий, убежденный, что богатство не вернется к нему, тоскующий от сознания, что весь мир наполнен именами Карфагена и Рима, предав забвению Грецию, он прибыл сюда, в Сагунт, в маленькую, почти неизвестную Республику, ища хлеба и отдыха и думая остаться здесь до тех пор, пока не пробьет его последний час. Быть может, в этом уединении, если не помешает война, он напишет историю своих странствий.
Сонника с интересом следила за его рассказом, устремив на Актеона взгляд теплой симпатии.
– И, ты, который был героем и властителем, станешь служить этому городу в качестве простого наемника?
– Стрелок Мопсо обещал отличать меня среди войск.
– Этого недостаточно, Актеон. Ведь ты должен будешь жить, как большинство солдат: проводить свою жизнь в трактирах Форо, спать на ступенях храма Геркулеса. Нет! Твой дом здесь; тебе покровительствует Сонника.
И в ее сверкающих глазах, увеличенных темными кругами, засветилось любовное сострадание, в котором было нечто материнское.
Афинянин с удивлением смотрел на Соннику, которая поднялась со своего сидения, точно белое облако в полусумраке библиотеки, освещенной как и все греческие жилища лишь светом, проникающим сквозь двери.
– Пройдем в сад, Актеон. День тихий, и мы можем на время вообразить, что мы в рощах Академии.
Они вышли из дома и направились по извилистой аллее, усаженной высокими лавровыми деревьями, к которым были привиты ветки райской смоковницы, поливаемые вином для скорейшего сращения. На террасе виллы два павлина издавали свои резкие крики и ходили вокруг балюстрады, распуская свои великолепные хвосты.
Актеон искоса поглядывал при свете на свою прекрасную покровительницу. Единственным ее одеянием был греческий хитон, открытая туника, скрепленная на плечах металлическими пряжками и перехваченная у талии золотым поясом. Руки выступали обнаженными из-под белого одеяния, а с левой стороны туника, скрепленная от подмышки до колена несколькими мелкими застежками, открывалась при каждом шаге, показывая перламутровую наготу тела. Ткань была настолько тонка, что сквозь ее прозрачность вырисовывались контуры этого розового тела, которое казалось плавало в пелене, сотканной из пены.
– Тебя удивляет мое одеяние, Актеон!
– Нет, я любуюсь тобою. Ты мне кажешься Афродитой, вышедшей из морских волн. Я давно не видал красавиц Афин, показывающих свою божественную красоту. Я огрубел в своих странствиях среди суровых нравов варваров.
– Это правда. Как говорит Геродот, только варвары почитают бесчестием появляться нагими. Если бы ты знал, как вначале были оскорблены жители этого города моими афинскими привычками!..
Она приостановилась с задумчивым видом и затем продолжала:
– Я не люблю варваров не за то, что им чужды великолепия искусства, а за их ненависть к людям, которую они сковывают всевозможными законами и предрассудками. Они ненавидят наготу, скрывая свое тело под различным тряпьем, точно оно представляет собою отвратительное зрелище…
– Поэтому-то мы и велики, – сказал с гордостью Актеон. – Поэтому наши искусства наполняют землю и все преклоняются пред величием ума Греции. Мы народ, который умеет почитать жизнь, воздавая культ ее началу; мы без лицемерия отдаемся любви и поэтому мы лучше, чем другие, понимаем потребности духа. Дух возносится свободнее, когда не чувствует бремени тела. Наши боги ходят нагими, не зная иных украшений, кроме лучей божественного сияния на челе. Они не требуют крови, как варварские божества, которые облачены в одеяния, оставляющие открытыми лишь их лица, омраченные преступлениями. Наши боги прекрасны, как смертные, они смеются, как люди, и взрывы их смеха, наполняя Олимп, веселят землю.
Сонника слушая грека, приблизилась к высоким кустам роз и срывала цветы, с наслаждением вдыхая их аромат. Ей казалось, что она в Афинах, в саду улицы Треножников, слушает своего поэта, который посвящает се в таинственную усладу искусства и любви. И она ласково глядела на Актеона, с откровенной и искренней страстностью, с покорностью рабы.
Легкое дыхание ветра обвевало весь сад. Сквозь листву виднелось небо пурпурового цвета, воспламененное гаснущим солнцем. Под деревьями начинал воцаряться таинственный полумрак. Гул селения, движение людей, проходящих из виллы в дома рабов, и крики чужеземных птиц на террасе, казалось, исходили из отдаленного мира.
Приглашенных Сонникой было множество и с наступлением ночи они стали прибывать, одни в колясках, другие верхом на лошадях, проезжая мимо рабов с зажженными факелами, которые стояли на страже у подъезда виллы.
Когда Сонника и Актеон вошли в зал празднества, приглашенные, разбившись на группы, стояли подле пурпуровых лож, вокруг стоящего изломом стола, мрамор которого несколько рабов мыли губками, пропитанными душистой водой. Четыре громадных бронзовых светильника занимали углы триклиниума. От них спускались на цепочках бесчисленные курильницы с благовонным маслом, в которых трещали фитили, распространяя яркий свет. Гирлянды из роз и листвы были протянуты от одного светильника к другому, образуя душистую раму праздничного стола. Возле двери, сообщающейся с перистилем, возвышались на деревянных столах блюда, золоченые и серебряные вазы и острые ножи.
Кельтибер Алорко разговаривал с Локаро и другими тремя греческими юношами, которые своей женоподобностью возбуждали негодование сагунтцев на Форо. Надменный варвар, по обычаю своей нации, не расставался с опоясывающим его мечом до начала пира, вешая его тогда на конце слоновой кости ложа, чтобы иметь всегда оружие под рукой.
У другого конца стола спокойно беседовали двое граждан, почтенного возраста, и Алько, миролюбивый сагунтец, с которым Актеон разговаривал утром на площади Акрополя.
Оба старика были давнишние друзья дома, греческие купцы, компанионы Сонники по торговле, и она приглашала их на свои ночные пиршества, ценя умеренную веселость, которую они вносили в беседу.
Актеон, знакомясь со всеми приглашенными, проходил по зале с самоуверенностью властителя, который пользуется своими богатствами, с видом человека, привыкшего к блеску роскоши, которого толчок судьбы извлек из бедности, вернув к прежним привычкам.
По одному жесту Сонники гости расположились на пурпуровых ложах, которые наискось окружали стол. В зал вошли четыре юных девушки, неся на головах, со стройной грацией корзиноносиц, ивовые корзины с венками роз. Они шли с изящной легкостью, как бы скользя по мозаике под звуки невидимых флейт, и своими тонкими детскими руками стали венчать цветами головы застольников.
В зал вошел управитель виллы, с раздраженным лицом.
– Госпожа! Эуфобий домогается войти.
Среди приглашенных поднялись крики и протесты.
– Выгони его, Сонника! – восклицали юноши, вспоминая с негодованием насмешки, которые он позволял себе на Форо по поводу их одеяния и привычек.
– Это позор для города терпеть этого наглого нищего, – говорили степенные граждане.
Сонника улыбалась, но внезапно вспомнив злую эпиграмму, которую за несколько дней до того Эуфобий посвятил ей, повторяя ее на Форо, она холодно сказала управителю:
– Выгони его палками.
Гости омыли руки в струях душистой воды, которую рабыня подносила, переходя от ложа к ложу, и Сонника дала приказание приступить к пиру, когда снова вошел управитель, держа еще в руке плеть.
– Я бил его, госпожа, но он не хочет уходить. Он сносит побои и за каждым ударом приближается к дому.
– И что же он говорит?..
– Говорит, что праздник Сонники немыслим без присутствия Эуфобия, и что побои это знак отличия.
Красавица гречанка казалась смягченной: гости смеялись, и Сонника дала приказание впустить философа. Но прежде чем управитель успел выйти, чтобы исполнить его, Эуфобий уж вошел в зал, робкий, смиренный, но глядящий на всех наглыми глазами.
– Да будут боги с вами. Да сопутствует тебе всегда веселье, красавица Сонника.
И, обратясь к управителю, он сказал с надменностью:
– Брат, ты видишь, что как бы то ни было, но в конце концов я все же вхожу в зал празднества, поэтому требую, чтобы в будущем твоя рука не была так тяжела.
И, среди смеха приглашенных, он потер лоб, на котором начинал выступать желвак, и концом своего старого плаща вытер несколько капель крови подле уха.
– Привет, вшивый! – крикнул ему щеголь Лакаро.
– Подальше от нас! – подхватили остальные юноши.
Но Эуфобий не обращал на них внимания. Он улыбнулся Актеону, увидя, что он занимает место подле Сонники, и его глаза загорелись злобою.
– Ты, афинянин, очутился там, где я и предполагал тебя увидеть. Ты победил этих женоподобников, которые окружают Соннику и оскорбляют меня.
И, не взирая на насмешливые протесты юношей, он добавил с раболепной улыбкой:
– Я думаю, ты не забудешь своего старого друга Эуфобия. Теперь ведь ты можешь заплатить за все вино, какое только он пожелает выпить в трактире Форо.
Философ занял ложе более отдаленное, в конце стола и отстранил венок, который ему поднесла рабыня.
– Я пришел не ради цветов: я пришел поесть Розы я вижу на каждом шагу в полях, куска же хлеба для философа я не нахожу в Сагунте.
– Ты голоден? – спросила Сонника.
– Я более жажду. Я провел целый день, говоря на Форо; все меня слушали, но никто не подумал о том, что мне необходимо освежить горло.
По греческому обычаю следовало избрать царя пиршества, любимого гостя, который должен был предлагать тосты, определять время возлияния вин и руководить разговором.
– Мы избираем Эуфобия, – сказал Алерко, со своим тяжелым остроумием кельтибера.
– Нет, – запротестовала Сонника. – Однажды, ради шутки, мы поручили ему руководить пиром, и прежде чем дойти до третьего блюда, мы все были пьяны. За каждым куском он предлагал возлияние вина.
– Кого избрать царем? – проговорил философ. – Он уж есть у нас, рядом с Сонникой. Да будет им афинянин.
В центре стола возвышалась широкая бронзовая чаша, по краям которой красовались нимфы, глядящие в овальное озеро вина. Позади каждого гостя стоял раб для его услуг, и все они стали наполнять чаши застольников для первого возлияния. Эти чаши, называемые мирринами и привезенные за дорогую цену из Азии, были сделаны из секретного состава, в который входил порошок раковин и смирны. Расписанные греческими красками, они обладали непрозрачной белизной слоновой кости, секретный состав их массы придавал особенно приятный вкус напитку.
Актеон приподнялся на своем ложе, чтобы предложить первое возлияние в честь любимой богини.
Сильные рабы, потные от кухонного жара, поставили на стол первые кушанья на больших блюдах из красной сагунтской глины. Здесь были ракушки в натуральном виде или же испеченные в горячей золе со всевозможными пряностями; свежие устрицы, украшенные петрушкой и зеленью, спаржа, огурцы, латук, павлиньи яйца, свиной желудок, маринованный в уксусе с тмином, и птицы, плавающие в соусе из сырного порошка, масла и уксуса. Кроме того приглашенным предлагался оксигарум, приготовленный в Новом Карфагене: рыбная масса, сдобренная солью и уксусом, которая, обостряя вкус, возбуждала жажду.
Запах всех этих блюд распространялся по зале празднества.
– Чего мне только не рассказывали о гнездах птицы феникса, – говорил Эуфобий с переполненным ртом. – По уверениям поэтов, феникс обмазывает свое жилище ладаном, кинамом и корицей, но клянусь богами, что в таком гнезде я не чувствовал бы себя так хорошо, как в триклинии Сонники.
– Но это не мешает тебе, злодей, – сказала, улыбаясь, гречанка, – посвящать мне стихи, в которых ты бранишь меня.
– Потому, что я люблю тебя и протестую против твоих безумств. Днем я философ, но ночью мой желудок побуждает меня искать тебя, и я прихожу, снося побои твоих слуг, чтобы ты накормила меня.
Рабы унесли первые блюда и подали вторые, состоявшие из жаркого и рыбы. Молодой жареный кабан занял центр стола; большие фазаны, с цельными перьями на вареном мясе, красовались на блюдах, окруженные вареными яйцами и душистыми травами; зайцы, разделенные на части, выставляли свою начинку из розмарина и тимьяна, а деревенские голуби чередовались с дроздами и другой птицей. Рыбные блюда были бесчисленны и они напоминали грекам кушанье их родины.
Каждый из приглашенных выбирал из блюд то, которое ему было по вкусу. В праздничные чаши наливались новые вина из амфор, засмоленных и запыленных от погребов. Хиосское вино, привезенное издалека и весьма дорогое, чередовалось с винами цекубескими, фалернскими и массикскими, а также с лауронскими и сагунтскими винами. Аромат этих напитков смешивался с запахом соусов, в состав которых, по сложным рецептам греческой кухни, входили петрушка, кунжут, укроп, тмин и чеснок.
Сонника почти ничего не ела: она забывала о кушаньях, которыми в изобилии угощала своих гостей, чтобы улыбаться Актеону.
Приглашенные с аппетитом уничтожали кушанья, отдавая дань похвалы повару Сонники, азиату, купленному в Афинах одним из ее лоцманов. Она заплатила за него чуть ли не стоимость любой виллы, но все находили, что расход сделан производительно, дивясь искусству, с которым он придумывал в своей кухне удивительные кулинарные соединения, выполняемые затем другими слугами, и особенно восторгаясь его счастливым измышлениям в приготовлении из фиников и меда сладких соусов к жаркому. Такой раб может услаждать всю жизнь и отдалить смерть на многие годы.
Кончилась вторая смена кушаний. Гости чувствовали себя разгоряченными на своих ложах и ослабляли свои парадные одеяния. Чтобы не приходилось подыматься при питье вина, рабы подавали напитки в алебастровых чашах в форме рога, с острого конца которого стекали струи вина. Пурпур лож покрывался пятнами от напитков. Большие угловые светильники, со своим светом от ароматного масла, казалось тускнели в этой густой атмосфере наполненной паром кушаний. Гирлянды роз, перетянутые от одного светильника к другому, увидали в отяжелевшем воздухе. Сквозь двери виднелись колонны перистиля и частица темной лазури неба, на котором мерцали звезды.
Миролюбивый Алько, приподнявшись на ложе, улыбался с мягкостью спокойного опьянения, созерцал красоту небес.
– Я пью за красоту нашего города, – проговорил он, подымая рог, наполненный вином.
– За гречанку Зазинто, – провозгласил Лакаро.
– Да, будем греками, – поддержали его друзья.
II разговор перешел к большому празднику, который по инициативе Сонники греки Сагунта устраивали в честь Минервы по случаю окончания жатвы. Праздник Панафинеи закончится процессией, подобной той, которая совершалась в Афинах и которую Фидий обессмертил на мраморе своих знаменитых фриз. Молодежь с энтузиазмом говорила о лошадях, на которых будет выезжать, и о чудесах ловкости, к которым они подготовлялись продолжительными упражнениями. Сонника содействовала празднествам своими неистощимыми средствами и хотела, чтобы они были столь же известны, как и торжества, прославившие Афины при сооружении Парфенона.
Рабы уставили стол третьей сменой кушаний, и гости, почти опьяневшие, приподнялись на своих ложах при виде корзин, наполненных фруктами, и блюд, покрытых слоями сладкого теста, свернутого в трубочки по каппадокийски, лепешками из кунжутной муки, наполненными медом и подрумяненными жаром печи, и тортами с творогом, украшенными вареными фруктами.
Откупоривались маленькие амфоры, содержавшие ценные вина и привезенные кораблями Сонники с крайних пределов света. Вино финикийского Библоса насытило окружающую атмосферу своим сильным ароматом, точно флакон туалетного стола; лесбийское вино, когда его разливали, распространяло сладкий аромат розы, и наряду с ним струились в чаши вина Эритреи и Гаракли, крепкие и спиртные, а также родосские и хиосские, благоразумно смешанные с морской водой, которая способствовала пищеварению.
Некоторые из рабов, чтобы снова возбудить у гостей аппетит и пробудить жажду, предлагали блюда с кузнечиками в рассоле, редис с уксусом и горчицей, жареный овечий горох и маслины, пикантно приправленные и редкие по своей величине и вкусу.
Надменный Алорко, как кельтибер, степенный в состоянии опьянения, говорил о близком празднике, глядя на свою опустошенную чашу. Он держал в городе пять самых лучших, породистых лошадей, и если городское начальство позволит ему принять участие в празднике, не взирая на то, что он чужеземец, сагунтцы подивятся быстроте и силе его прекрасных животных. Он получит венок, если только что-либо не заставит его до того времени покинуть город.







