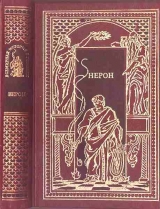
Текст книги "Нерон"
Автор книги: Висенте Бласко
Соавторы: Вильгельм Валлот,Д. Коштолани,Фриц Маутнер
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 38 страниц)
9. Смерть Гипатии
В это самое утро, когда неизменная заря поднялась над Александрией, много существ пробудилось, охваченные жаждой желания, муки, надежды и ярости. Но души закрыты друг от друга, и зло рождается от их скрытности.
Наместник Орест почти всю ночь не спал, томимый болью и беспокойством. Нерешительность терзала его душу. В продолжение месяца, предвидя грозные события, он умолял в настойчивых письмах константинопольского императора дать ему форменные инструкции. Ответа не последовало. Он не был уверен в войсках, которые почти целиком состояли из язычников. Он отправил накануне в Иудейский квартал единственную когорту, на которую мог рассчитывать. Военачальник Марцелл сообщил ему, что для водворения порядка нужно вступить в настоящее сражение. Он колебался, выжидал.
В это утро, не будучи в состоянии уснуть, он пытался, верный своим привычкам, не думать о том, что мучило его совесть, и старался развлечься.
Развлечением для него служило – заниматься классификацией по родам и видам чудесной коллекции насекомых, которая принадлежала ему и заполняла собой самую большую залу его дома.
В его коллекции были представители всевозможных видов бабочек и жуков, известных в мире, начиная с жука Актеона, целиком покрытого тонким пушком, напоминающим шерсть кошек, и кончая скарабеем Юпитером, на спинке которого изображено человеческое лицо с бородой; начиная с бабочки Подалир с четырьмя крыльями огненного цвета, кончая бабочкой Алексанор, у которой на синеватых полумесяцах крыльев начертаны двенадцать знаков Зодиака. И для него не было большего удовольствия, чем созерцать всю эту пестроту красок, взвешивать плотность щитков и измерять надкрылья и сяжки у жуков.
Он собирался пролить каплю пальмового масла на диковинную куколку, когда привратник доложил, что молодой монах желает его увидеть, чтобы сделать важные донесения.
Привратник был еще полусонный и забыл прибавить, что эти донесения касались Гипатии.
Префект Орест был поклонником знаменитой философии. Иногда он совещался с ней. Утверждали даже, что втайне он любил ее. Если бы имя Гипатии было произнесено, он принял бы монаха Симона. Но серьезные события часто зависят от пустяков.
Префект, с бюреткой в руке, нацеживал каплю пальмового масла.
– Пусть этот монах придет сегодня вечером, – ответил он.
И капля упала на диковинную куколку, к его величайшему удовлетворению.
Математик Теон поцеловал свою дочь с необычным волнением. Он находил ее прекраснее, чем всегда. Он чувствовал, что в ней все дрожит, что с ней что-то происходит.
Он заметил Гипатию, которая гуляла по крошечному садику, усаженному лаврами, и спустился из своей комнаты, чтобы обнять ее.
Теон был человек кроткий и ученый, постоянно погруженный в математические науки и философию. Ему очень хотелось сказать что-нибудь дочери о своей нежной любви к ней. Но в вопросах этого порядка он никогда не умел выражаться. Ах, насколько легче было писать комментарии относительно Птоломеева Альмагеста или толковать о затмениях, чем произнести одно единственное, выходящее из души слово даже такой прекрасной и мудрой дочери, какою была Гипатия.
Может быть, в первый раз в своей жизни, Гипатия, по-видимому, не поняла нежности его поцелуя, и рассеянно удалилась.
Она поднялась по каменной лестнице, которая выходила на террасу дома, и облокотилась на балюстраду, между статуэтками Афины-Паллады и Афродиты, которые стояли друг против друга.
Над нею блистало солнце, заливая своим сиянием весь город, сверкая на белизне монументальных порфиров и вырезая на лазури небес мраморные шпицы и сиенитовые колонны. С одной стороны, она видела на светлых террасах яркий пурпур роз, с другой – возвышающиеся ряды висячих садов с длинными аллеями лимонных деревьев. В горячем и неподвижном воздухе поднимался человеческий шум. Гипатия почувствовала зной и усталость.
«Не есть ли преступление против духа то, чему я учу в Академии? – подумала она. – Как боги требовательны! Им нужно служить безраздельно, и минута слабости уничтожает целую жизнь усилий».
Она склонила свое лицо на обнаженную руку, и теплота кожи вызвала у нее дрожь. Она взглянула поочередно на Афину-Палладу и Афродиту, полных могущества, немых, непримиримых.
Она стояла, полная тревоги, между изображениями обеих богинь.
Она перешла террасу и медленно спустилась с лестницы.
Быть может, ничего не случилось бы, если бы Гипатия осталась дома.
На улице стояла ее колесница. Она решила прокатиться по дороге вдоль моря, а затем через ворота Луны проехать в квартал бальзамировщиков, чтобы подставить свое лицо под ласку ветра.
Внезапно она очутилась среди рычащей толпы, которая загородила улицу. Она выпрямилась и поднялась на колеснице. Ее окружили со всех сторон. Но в ее взгляде выразилось такое величие духа, что стоящие возле нее посторонились и, может быть, ей удалось бы спастись, если бы кучер хлестнул лошадь и проехал дальше.
Но кучер был совсем еще молодой человек. Понял ли он серьезность минуты по выражению ярости на лицах, или был охвачен необъяснимым паническим ужасом, но он бросил вожжи, спрыгнул со своего сидения и убежал.
Тогда поднялся крик, и около Гипатии, оказавшейся в одиночестве, образовался угрожающий круг. Она была так спокойна и так прекрасна, что ни одно разумное существо не посмело бы даже коснуться ее платья.
Кто-то из толпы подошел и наотмашь ударил Гипатию палкой по голове. Она зашаталась под силой удара и упала на кузов колесницы. Тотчас же несколько человек, не удерживаемые более, набросились на нее.
– Отведите ее в церковь! Пусть она попросит прощения у Бога за свои грехи! – сказал какой-то голос.
Церковь Цезареи была недалеко. Высокий мужчина и один молодой человек взялись доставить ее туда.
В это время раздался чей-то крикливый голос:
– Пропустите меня!
И женщина лет сорока, принадлежавшая к высшему обществу Александрии, пробилась сквозь толпу и два раза ударила каблуком по лицу Гипатии, повторяя:
– На тебе, проклятая!
После чего, удовлетворенная, удалилась.
Тогда внезапно, словно по какому-то таинственному соглашению, дикое безумие овладело толпой. Пятьдесят рук мяли и били ее тело. На нее плевали. Ненависть к красоте и уму, которая дремлет в глубине низких душ, разразилась безудержно.
Суровый монах бросился на нападающих и, подняв руки, крикнул:
– Несчастные! Что вы делаете! Иисус Христос смотрит на вас.
Монах увидел, как глаза философки широко раскрылись и она пристально взглянула на него. Они были ясные, холодные, умные. Они выражали удивление и то желание понять, которое их всегда оживляло. Ни стона, ни упрека, ни ужаса. Только немного грусти. Это был лишь проблеск, и свет угас.
Толпа завыла. Камни посыпались со всех сторон. И это неистовство дало возможность Гипатии уйти без лишнего страдания в ту страну, тени которой она при жизни взвесила, а тайны – измерила.
Вокруг трупа Гипатии поднялись долгие споры. Более умеренные хотели унести останки и сжечь их за городом. Но другие настаивали на том, что для назидания следовало бы торжественно пронести труп через весь город.
Последние одержали верх и башмачник, чья лавка помещалась близ колонны Диоклетиана, долгое время хвастал, что сам укладывал еще теплый труп на носилки.
Заключение
С благочестивым отвращением к убийцам поведали нам богобоязненные отцы Церкви о событиях, разыгравшихся на улице при убийстве Гипатии.
Но нам известны далеко не все последствия этого события, мы почти ничего не знаем о судьбах друзей знаменитой философки.
Мы знаем только, что еще до начала следующего зимнего семестра Академия была преобразована в высшее христианское учебное заведение и подчинена архиепископу. Из учителей-греков двое, математик и анатом, приняли крещение.
Специалист по Гомеру был приглашен в Константинополь, где ему была обещана полная свобода совести; впрочем, в скором времени, он тоже крестился. Два молодых философа, ученики Гипатии, бежали в Индию.’ Они взяли с собой книги и рукописи Гипатии, и, как кажется, перейдя в буддизм, поведали индусам кое-что о Гипатии.
Всякое изучение старой литературы или старых религий было запрещено, и только среди черни остались кое-где, наряду с новой верой, воспоминания о вечных олимпийских богах.
Далеко не так хорошо известно нам, как принял раненый наместник известие о кровавых событиях в городе. Он проявил необычную энергичность. Он велел немедленно казнить несколько человек и с помощью своей охраны жестоко подавил небольшое восстание сторонников черни. Однако, очевидно, восстание не ослабевало, так как через пять дней после убийства Гипатии Орест сел на судно, чтобы как можно скорее достичь Константинополя и там лично просить помощи.
Никто не слушал в Константинополе египетского наместника. Он узнал ужасные новости и должен был сознаться, что смерть Гипатии, причинившая ему лично такое горе, не могла особенно тронуть власти, видевшие, как рушится тысячелетнее римское государство. Германские варвары разграбили Рим, и император должен был мириться с этими дикарями и всячески задабривать их, чтобы спокойно жить в своем константинопольском дворце… Тут впервые почувствовал Орест, как трещали и раздавались стены старого Римского государства и как умирало мировое владычество Рима. Наступала новая эпоха. В храме, в котором он мальчиком восхищался чудными статуями жизнерадостных богов, взирал с золотой стены строгий образ мирового судьи. При дворе никто не понимал старого чиновника, говорившего об обязанностях и о вечной идее государства. Там старались только отсрочить окончательное падение и отсрочить какое бы то ни было решение. Ни на кого нельзя было положиться – ни на солдата, ни на офицера, ни на писца, ни на министра. Только колоссально разросшаяся церковь считала себя в состоянии обеспечить придворным господам покойный сон и целость их замков; только этот колоссальный механизм мог сдерживать освободившиеся народы мировой империи; это была единственная оставшаяся сила. И можно было считать счастьем, что во главе церкви стояли умные и волевые люди. Чего хотел педантичный Орест со своими скучными жалобами об убитой женщине? Она была не первая. Никого не интересовало, что это была Гипатия, крестница императора Юлиана, великая философка!
Орест жаждал отомстить за Гипатию. Несколько недель оставался он в Константинополе, беседуя с представителями разных знатных семейств, и ему удалось, наконец, раздуть в них искру старой римской гордости. Кое-где еще считали позором, что женщины и священники правят государством.
Уже наиболее влиятельные из этих людей обеспечили себе доступ во дворец, уже удалось склонить на свою сторону молодого сына императора, стоявшего во главе патриотической партии, мечтавшей возобновить борьбу с германцами во имя старого Рима, как вдруг новые известия положили конец всяким надеждам. Германцы победили в Галлии и в Испании. Неисчислимые толпы поднялись для набега на Карфаген и нового нашествия на Италию. Рим рушился. Тогда утомленный Орест потребовал отставки. Он настаивал на своем уходе и на несколько дней возвратился в свою бывшую столицу.
Египетские служители Академии попытались собрать пепел мученицы. Горсть его нашел Орест в плохонькой урне. Орест приказал сложить все в прекрасную урну из яшмы и взял ее с собой.
Последние годы своей жизни он провел на острове Кипре. Часто гулял он, высоко подняв голову, в роскошных глухих аллеях своего парка. Там, между высокими миртами и цветущими розами, стояли последние статуи старых богов. Ни один варвар, ни один священник не приходили сюда. Нагая до пояса Афродита с холодной надменностью смотрела в золотой щит Арея, а далекоразящий Аполлон непрерывно посылал стрелы в противников солнца. А между статуями, в заросшей лавром миртовой чаще, стояла на черно-мраморном цоколе урна из яшмы.

Вильгельм Валлот
Парис
Перевод с французского
I

– Отворите, именем императора!
Этот грозный оклик раздался среди ночной тишины у входа в уединенную виллу, расположенную недалеко от фламинийской дороги, близ Рима. Но красивый загородный дом, утонувший в зелени миртов, оставался безмолвным.
– Именем императора! – крикнул вторично чей-то повелительный голос, и крепко запертые ворота задрожали под ударами оружия.
Снова нет ответа. Казалось, за мраморными стенами виллы не было никого, только легкий ветерок пробегал по ветвям кипарисов.
Наконец на песчаной дорожке сада послышались тяжелые шаги, и в одном из окон мелькнул яркий свет.
Владелец виллы, мимический актер Парис, вернувшись домой с вечернего пира, только что лег в постель. Весь Рим восхищался Парисом. Поэт Марциал воспел его в стихах. Несколько дней назад по городу даже стали носиться слухи, будто Парис стал причиной размолвки в императорской семье. Исполняя в театре женскую роль, он танцевал так обаятельно, что императрица Домиция сказала: «Этот юноша опасный человек: ему открыты все тайны женского кокетства».
Всеобщее поклонение римлян избаловало юношу. Постоянно окруженный соблазнами, он пристрастился к вину и любовным приключениям. Каждое утро заставало его в постели, измученного ночной оргией.
Когда солдаты императора постучались у ворот виллы, владелец спал тяжелым сном, разметавшись в томительном бреду на своем ложе.
Так и застал его невольник Марк, мальчик-подросток, с испугом вбежавший в спальню, чтобы разбудить своего молодого господина. Яркое пламя светильника, озарившее комнату, заставило Париса проснуться. Он вскочил с постели и бросился к окну. Сквозь ветви садовых кустарников Парис увидел медные шлемы императорских солдат, блестевшие при свете факелов, точно блуждающие огоньки.
– Неужели это за мной? – пробормотал молодой человек, спеша одеться и опрокинув впопыхах жаровню с угольями, которые не успели еще потухнуть. Рассыпавшись по полу, они попали под ноги Париса, что заставило его вскрикнуть от боли.
Испуганный Марк принялся плакать, но его господин, освежая водою лицо, сердито приказал замолчать и отворить ворота посланным Домициана.
Вскоре чья-то невидимая рука резким движением раздвинула складки занавеси, и в комнату вошел загорелый воин с черной бородой. Это был центурион имперского войска Силий. Вызывающий взгляд Париса заставил его презрительно усмехнуться. Слегка поклонившись, начальник отряда пригласил артиста следовать за ним.
– Куда? – спросил хозяин виллы, задетый небрежным тоном Силия.
– Куда? – с удивлением переспросил тот. – Но кто же об этом спрашивает? Впрочем, насколько мне известно, тебя требуют к императору.
– Ночью? В такой час, когда всякий гражданин имеет право гнать от дверей нарушителей своего спокойствия? – воскликнул Парис.
Эти безумные слова поразили центуриона.
– Зачем, спрашивается, заставили меня встать с постели, когда я утомлен и желаю отдыхать? – возвысил голос Парис.
Черты воина омрачились, слова гнева и раздражения были готовы сорваться с его губ, но он овладел собою и, откидывая дверную занавесь, только заметил со смехом:
– Клянусь Юпитером, ты меня забавляешь!
Центурион кивнул двоим солдатам, стоявшим за дверями.
– Берите его под руки, – хладнокровно кивнул он на актера и направился к выходу.
– Ты, верно, не знаешь, что я Парис! – с угрозой крикнул юноша.
Начальник стражи, выходивший из комнаты, надменно взглянул на него через плечо.
– Вот как! Ну и прекрасно! Ты – Парис, а я – Силий, центурион… Возьмите его! – повторил он солдатам с прежним хладнокровным высокомерием.
– Ты раскаешься в своей дерзости! – вскрикнул актер, все же сдерживая гнев из-за вооруженной стражи.
– Берегись, чтобы тебе самому не пришлось раскаяться, – ответил Силий, сдвигая брови. Он снова повернулся к дверям, между тем как старый невольник, дрожа от страха, делал знаки своему господину, умоляя его покориться.
Но едва только воины подошли к Парису, юноша бросился к туалетному столу, рванул ящик и, торопливо разрыв в нем гребенки, щеточки, склянки с притираниями и головные шпильки, вынул какой-то блестящий предмет, который с торжеством показал центуриону.
– Узнаешь ли ты этот перстень? – спросил актер взволнованным тоном. – Чье это изображение, чье имя? Не Домиций, а?
При первом взгляде на резной драгоценный камень, вделанный в кольцо, начальник отряда остолбенел. На его лице отразился испуг, но Силий поспешил скрыть свои чувства. Он кивнул подчиненным, чтобы они оставили арестованного, и невольно поднес руку к шлему в знак почтения.
– Это камея и вензель императрицы, – прошептал в замешательстве центурион, сознавая, что перед ним человек, несравненно более влиятельный, чем он предполагал.
Обращение начальника отряда резко изменилось. Хотя Силий не мог оставить повелительного тона, боясь уронить свое достоинство, однако он посмотрел на молодого актера менее строго и с ледяною вежливостью извинился перед ним за причиненное беспокойство. По словам центуриона, он не мог не исполнить приказа, хотя это было ему очень неприятно. Император, проснувшись ночью, неожиданно потребовал к себе Париса, но Силию неизвестны дальнейшие намерения Домициана, который строго наказывал любопытство приближенных.
– Я пойду с тобою, – спокойно заметил Парис.
По дороге в город молодой актер молчал. Кто мог знать, что случится с ним в эту ночь? Даже высокопоставленные лица иногда предавались казни без суда. Наметив жертву, Домициан сначала осыпал ее милостями, чтобы развеять подозрение, а потом негласно спроваживал ненавистного человека на тот свет. Странный каприз императора потребовать к себе Париса ночью предвещал мало хорошего. Правда, грозный повелитель до этого дня благоволил к молодому актеру, похваливал его, так что Парису нечего было опасаться; но тайный голос нашептывал юноше, что Домициан втайне ненавидит его. Парис понимал, что мог возбудить жажду мести в деспоте. Юным танцором заинтересовалась слишком высокопоставленная и потому опасная женщина. Она хотела опутать Париса своими сетями; он искусно уклонился от них, но они все-таки его задели. Огонь бешеной страсти, которую питала к нему эта блестящая звезда, если и не сжег Париса, то все же ослепил его. Он едва смел подумать о случившемся, нарочно избегая страшной мысли, как осужденный, выведенный в цирк на растерзание зверям, невольно пятится назад, завидев клетку льва.
Танцуя на сцене, Парис нередко ощущал на себе жгучий взгляд, направленный на него из нижнего ряда мест для зрителей. Он невольно оборачивался в ту сторону и видел величаво-благосклонную улыбку, слышал взволнованный голос, когда его вызывали на подмостки, замечал и яркий румянец, и бледность, быстро сменявшиеся на нежном лице. И рядом с этой роскошной женской головкой виднелись строгие черты мужчины, от которого не ускользало ничего. Когда Парис понял наконец значение этой улыбки, этой нервной дрожи в знакомом женском голосе, ему стало страшно. Любить эту женщину было равносильно смерти, но и отвергнуть такую любовь – тоже значило погибнуть. Опасная поклонница сделалась почти ненавистной Парису, несмотря на ее подарки, несмотря на чудную красоту. Молодого артиста пугало не только зловещее лицо мужчины, сидевшего рядом, с мрачным видом неумолимого палача. Пугала изумительная легкость, с которою влюбленная красавица переходила от страстного пыла к полнейшему спокойствию. Хотя он не ответил ничем, кроме холодной вежливости, но Рим, как известно, мало доверяет добродетели и гораздо охотнее потворствует пороку, в особенности когда этот порок увенчан царской диадемой. Парис был виновен уже тем, что зажег преступное желание в женщине, которая была поставлена выше всех остальных в великой Римской империи. Кто поверит, что этот легкомысленный юноша, участник всех пиров и оргий, мог устоять против знаков внимания со стороны супруги Домициана? И молодой актер заранее считал себя погибшим. Нервная дрожь заставила его плотнее закутываться в плащ, когда он пробирался по римским улицам в сопровождении центуриона. Силий заговаривал с ним не раз крайне вежливым тоном, но Парис, едва отвечал на вопросы.
Ночная прохлада освежила его, и он бодро шел вперед, испытывая только по временам мучительное замирание сердца. Тяжелые шаги солдат гулко отдавались на мостовой, между тем как по стенам домов, облитых красноватым светом факелов, мелькали гигантские тени стражников в шлемах и с длинными копьями. Юноша старался рассеять мрачные предчувствия, наблюдая за этими движущимися фантастическими силуэтами. На улицах и площадях попадались прохожие, жизнь в громадной столице не утихала даже ночью. Но чем больше отдалял от себя Парис тяжелые думы, тем настойчивее начинали они осаждать его голову; теперь он почти желал ускорить решение своей участи, потому что неизвестность становилась невыносимой.
В ярком зареве факелов он увидел захмелевшего человека, который стоял, прислонившись к стене, и, провожая глазами шествие, улыбался бессмысленной, сонной улыбкой. Эта встреча неожиданно рассмешила арестованного. На него нашел припадок нервной веселости, изумившей центуриона. Однако несколько минут спустя Парис снова сделался молчалив и апатичен.
– Что с тобою? – спросил начальник отряда. – Ты встревожен свиданием с императором?
– О нет! – равнодушно заметил Парис. – О чем мне беспокоиться? Пусть делают, что хотят. В худшем случае Домициан может только отправить меня на тот свет.
– Ну, там едва ли тебе понравится, – заметил Силий.
Чем ближе подходили они к императорскому дворцу, тем сильнее овладело Парисом тупое равнодушие.
Наконец выступила темная громада императорского дворца. Роскошная архитектура здания, широкий портик, золоченые ряды колонн напомнили бедному артисту о страшном могуществе и мрачном эгоизме царившего здесь властелина. Юноша ощутил невольную тревогу, которая еще усилилась, когда его повели вдоль пустынных, нескончаемых коридоров. Раскрашенные стены, освещенные отблеском факелов, глухо отражали мерные шаги солдат. Дворец был погружен в таинственное безмолвие. От дверных занавесей с пестрым рисунком, от золоченых мраморных лестниц, от причудливо расписанных потолков веяло подавляющей могильной тишиной. Казалось, будто бы даже неодушевленные предметы – статуи, урны, колонны – чувствовали на себе гнет жестокого деспотизма Домициана и стояли, погруженные в немое отчаяние. Наконец, Париса привели в обширный атриум, где он опустился на скамью и задремал от утомления, кутаясь в тогу.







