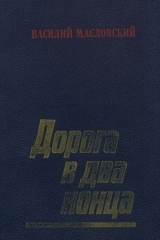
Текст книги "Дорога в два конца"
Автор книги: Василий Масловский
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 32 страниц)
– Ефстифеев! Вызывай снова артиллерию! Квадраты те же! – крикнул лейтенант в окоп радисту. Подозвал командира взвода бронебойщиков. – Подпускай танки ближе, чтобы наверняка. Это не немцы.
Тусклый горячий воздух колыхнулся, дрогнул. Карабинеры смешались. Один из танков остановился, высунулся офицер, стал кричать что-то, размахивая пистолетом, и карабинеры побежали к высоте. Отсюда, издали, сверху, они казались черными, обугленными на солнце. В грохоте разрывов безмолвно и тихо падала срезанная пулями полынь. Лейтенант оглядел напряженные затылки своих солдат, сведенные ожиданием плечи.
Наступило то единственное и неизбежное мгновение, которое решает все. Крикни трус: «Пропали!» – и струна лопнет, начнется гибельная паника.
Под танком было душно. Мотор продолжал стучать, и выхлопные газы тянуло вниз. Тень переместилась, и горячие плиты солнца лежали теперь между катков справа. Андрей и Артык, даже не глядя, чувствовали солнце – где оно, – ждали спасительного вечера, сами не зная толком, что должен был принести им этот вечер.
Карабинеры, разбивая своим колыханием блескучий застойный зной, надвигались, будто призраки. Офицер посредине, с черным безглазым лицом, вертел головой по сторонам, что-то кричал. На каске его подрагивало перо.
– Твоя, моя молчи, – блеснул зрачками сержант. – Пускай она думает: наша нет.
Карабинеры, чувствуя, наверное, приближение роковой невидимой грани, начали загребать ногами землю и все больше и больше заваливались вперед и вправо. Артык не дал им взять разбега – выпустил весь диск одной очередью. Карабинеры качнулись назад, но все же побежали на высоту и к танку.
Пули, будто шмели, набросились на людей под танком, бешено грызли железо, с шипением впивались в землю.
Андрей бил и бил из автомата, пока не замолчал пулемет Артыка. Оглянулся – синие бараньи глаза Артыка смотрели на него страшно и убедительно просто. «Неужели и меня сейчас вот так?» – метнулось в голове. И он увидел себя скрюченного и обезображенного, как желтоусый Петренко-Спиноза там, в промоине.
– Она идет, твоя не сиди, – выдохнул Артык. Широкое переносье крупной росой осыпала испарина, и синеватый навес опаленных солнцем ресниц медленно гасил диковатый восточный блеск его глаз.
Когда нажженная за день земля вместе с усталыми и опустошенными людьми стала погружаться в прохладные сумерки, батальон покинул высоту и двинулся вперед. От переправы спешно подходили подкрепления. У танка лейтенант-комбат увидел троих. Касаясь головой сурчиного бугорка промоины, с устало опущенными плечами лежал пожилой усатый сапер. По открытым глазам его, густо затрушенным пылью, у черной дыры рта и ноздрей ползали краснобрюхие крупные муравьи. В окопе – сержант-узбек. Мальчишка-сапер прислонился спиной к гусенице продолжавшего работать танка, беззвучно плакал. Смолисто-черное лицо его было страшно в своей неподвижности.
Пехотный комбат тряхнул сапера за плечо, спросил фамилию: наградной лист писать, мол, буду. Сапер непонимающе вскинул глаза, во рту черным поленом дернулся распухший язык, и из горла вылетел сиплый хрип. Лейтенант ребром ладони сбил слезу с ресниц: парень оглох и запалился за день без воды. Тронул сапера за коленку.
– Ты же герой. Гляди, сколько положил и трофей какой! А-а!.. На, нацарапай фамилию и иди к Дону, к Бабьей косе. Там ваши переправу ладят. Мертвых мы похороним. Ну?
Сапер встал, поднял на плечо разбитый пулемет, удивленно опустил его. Но потом снова взял и, так ничего и не сказав, пошел к тонувшему в сумраке трехгорбому кургану.
Лейтенант покачал вслед ему головой. В степи возник и разлился тыркающий звук. Степь жила своей независимой жизнью: вместе с прохладой степь встречали полевые сверчки и кузнечики.
Глава 16
В грохоте и пыли, надежно прикрытые с воздуха, к Сталинграду подходили 4-я танковая и 6-я полевая немецкие армии. Раскаленный шар солнца, кажется, совсем не покидал неба. На десятки километров ни деревца, ни кустика. Над колоннами людей и техники висела неоседающая бурая пыль. Она толстым слоем покрывала одежду, машины, оружие, мешала дышать, резала глаза, першила в горле. Не было воды, мучила жажда.
19 августа 1942 года Паулюс подписал приказ о наступлении на Сталинград. 16-я танковая, 3-я и 60-я мотодивизии форсировали Дон у Песковатки. И 23 августа, в 3 часа 05 минут, 14-й танковый корпус немцев из района Вертячий, Песковатка устремился к Волге.
На облысевшем выгоне небольшого хуторка топырил обломанные крылья ветряк. Кто знает, сколько простоял этот ветряк и сколько путей скрестилось около него. В ночь на 23 августа мимо этого ветряка прошел на свои позиции поредевший батальон Виктора Казанцева. Шли измотанные, голодные. В пересохшем ручье за ветряком стояли полковые минометы, чуть дальше – несколько танков.
Казанцев находился на том пределе усталости, когда многое уже не замечаешь. Ветряк отметил. Вспомнил, как он в первый раз привез Людмилу к родителям и она увязалась с ним на мельницу (приезжая к родителям, Виктор сложа руки не сидел). На мельнице Людмила завороженно смотрела на белый ручеек из рукава от помольного камня. На брови, волосы, плечи ей оседала мука, и она седела на глазах. Отец одобрял хозяйственность невестки и сына. «Крестьянство забывать нельзя», – поощрял он польщенно обоих.
У старой сурчины на куске брезента человек пять танкистов сочно закусывали арбузом.
– За компанию, царица полей! – позвали от брезента.
– От чужой хлеба-соли пузо болит! – устало отозвались из раздерганной колонны.
Батальон перебрался через ручей, прошел еще метров восемьсот и стал окапываться.
– Отрывайте сначала одиночные окопы, потом уже, по возможности, соединять их будете, – приказал Казанцев командирам рот. И, осипший, с автоматом на животе, бурой глыбой растворился в сухих выволочках сумерек.
Лопаты скребли до полуночи. Кто вырыл свое, засыпал тут же, в окопе, или вылезал на свежий ветерок наверх. Казанцев тоже за полночь устроился наверху, головой на бруствере окопа. Было душно. В воздухе много пыли. Пахло горячим железом, бензином и еще чем-то таким чуждым в этой степи. Но кругом шла своя привычная жизнь. Обычно хорошо видные в эту пору звезды тлели тускло, будто золой присыпанные. Медленно бежали редкие облака. Лениво, с отдыхом, тыркали кузнечики. Им тоже душно. А где-то, должно быть, в эту самую минуту появляется на свет новый человек, кто-то любится, а кто-то, костенея от напряжения, ждет сигнала в атаку, где легко может оборваться эта самая жизнь.
Простучал кашель, подошел сутуловатый солдат в пилотке блином, остановился у соседнего окопа.
– Не спишь, сержант? – спросил он, оглядывая окоп.
– Не могу, – не сразу и неохотно ответил сержант. – Только закрою глаза, мерещится, будто я убитый. А ты что такой встрепанный?
– Жену, детишек вспоминал во сне. Себя и забыл вроде. Вчера подходит ко мне парнишка в хуторе. «Сапера Сидельникова, случаем, не встречали, дяденька?» А где ты его встретишь? – Затрещала недельная щетина, солдат поскреб кадык, оглядел степь, где угадывались врытые в землю пушки, машины, люди. Тихая, безмолвная, она была живая, эта степь, укрывала в себе тысячи людей и оружия. – Нового ничего не слыхал?
– Ни шагу назад – одна новость.
Солдат длинно, артистически выругался; кряхтя, присел на бруствер, вытянул гудевшие ноги и стал закуривать.
– На плакате дитя просит: «Убей немца!», а как ты его достанешь. У него вон сколько танков да самолетов… Детишек у тебя нет своих, сержант?
– У меня и невесты пока нет.
– Невест после войны хватит. Закончить бы ее, да голова осталась бы на плечах.
Не остывшее со вчерашнего дня небо наливалось рудой марью, светлело. По брустверу, где не засыпано землей и сохранилась травка, каким-то чудом осела и серебрится роса. Левее позиции батальона сереет дорога. На ней расплывчато чернеют подбитые танки и скелеты обгоревших машин – вчерашние. Казанцев смотрит на эти скелеты и под говор солдат думает, что батальон окапывается на бойком месте.
Солдат взял с бруствера горсть земли, помял. Слышно, как потекли сухие струйки.
– Порох – не земля. Такая сушь.
– Хлеба уже высыпались.
Солдат повздыхал, причмокнул губами.
– Вчера в том же хуторе, где парнишонок про отца спрашивал, дедок сивый показывает на некошеные хлеба: «Может, подпалить? Больше пропадает». Нет, говорю, дедусь, война на самой середине. Все может пригодиться. Вы, мол, убирайте хлеб-то и закапывайте в землю. Ничего не сказал, а по глазам вижу: не верит, что вернемся.
«Вернемся! – мысленно вмешивается в разговор Казанцев. – Когда-нибудь люди и их дела станут все же совершеннее, и они жить будут лучше нашего. И мы сейчас не только за себя страдаем, но и для того времени, когда все хорошо будет».
В стороне хутора Вертячий зарева, подпиравшие небо всю ночь, стали опадать. Местами там, за немым горизонтом, полукругом вспыхивали зарницы и тут же гасли.
«Ракеты». – Затуманившимися глазами Казанцев смотрел на эти опадавшие зарева и старался угадать, что там, за этим немым горизонтом.
От вспышек и колебаний горизонт то отодвигался, то вновь придвигался. И казалось, колебалась и глубокая, неправдоподобная тишина над степью. Тишина, от которой продирал озноб по спине. Где-то справа, далеко, видно, по-мышиному скребли землю лопатой, спешили зарыться поглубже. Именно в эти минуты, когда дышалось легче, в эту сосредоточенную тишину острее и мучительнее, чем когда-либо, хотелось жить, одолевал даже страх.
Горькая полынь выкинула на росу цвет, по низинам на этом цвету горько настаивался воздух. Серое больное небо к заре посвежело, зарумянилось.
В овраг подошла кухня, и даже в этой обстановке щеголеватый и подтянутый старшина форсисто доложил комбату о завтраке и с помощью сержантов стал будить солдат. Солдаты, грязные, замаянные, пропитанные пылью, недовольно ворчали, возились, гремели котелками.
– Опять каша-шрапнель?.. Чтоб ты подавился ею.
– Но, но… А то, знаешь, за язычок…
– Это ты дрожи, угодничек божий. Сапоги привез?.. Какой, какой? Сорок третий!..
– Старшина! – позвал Казанцев. Выбил пятерней пыль из волос, надел каску. – Сейчас же патронов, гранат и бутылок подбрось. Бутылок побольше. Пункт оборудуй там, где у тебя кухня. Раичу снарядов подвези.
– Махры, старшина!
– Если и вечером похлебку привезешь, утопим вместе с хитрюгой поваром в этой бурде. Чаю давай!
На западе, со стороны Дона, где ночью колебались варева и где плавали и сейчас жидкие сизые клочья гари, блеснуло вдруг и слилось по всему горизонту в пляшущую дугу огней. Степь, где в траншеях в эту минуту скребли ложками, ругались со старшиной, сидя на мокрых от росы станинах орудий, пили чай из жестяных солдатских кружек, вмиг вскипела фонтанами земля, потонула в дыме и грохоте. Было три часа пять минут.
– Всем в укрытия! Только у пулеметов дежурные наблюдатели! – крикнул Казанцев и, хищно скалясь, отступал к крытой щели.
В окопе Казанцев спиной, всем телом вжался в неподатливую землю, даже дыхание затаил, словно это как-то могло уберечь его. Сколько раз клялся зарываться поглубже: когда кругом воет – только она, матушка, и заступница. Но вчера просто не хватило совести напоминать ординарцу. Целый день на пекле, в пыли, без воды.
Окоп ходил ходуном. Осыпалась земля, летели огромные комья. Временами небо, совсем скрывалось за подвижной чернотой. Предупреждающе зло вжикали осколки. Один впился в стену окопа у самого уха. Казанцев отшатнулся, завороженно посмотрел на синеватый в зазубринах кусочек металла. Самое тяжкое – ждать. Все раздражает, нужно что-то делать. А что делать? Вот стихнет грохот, пойдут пехота и танки – тогда все ясно.
В двух местах траншею завалило, и там копошились люди, откапывали кого-то. Связь с минометчиками оборвалась. Несколько минут спустя оттуда прибежал боец и доложил, что прямым попаданием разбило два миномета. Расчеты погибли. С батареей ПТО и полком связь тоже оборвалась. Казанцев к минометчикам послал начальника штаба, молоденького лейтенанта.
– Добеги и на батарею ПТО, передай Раичу: пусть в землю по плечи войдут, а стоят, – напутствовал он его.
Из-за Волги в бурой мгле вставало солнце. Степь вся распласталась в тени дыма и пыли.
Обстрел стал стихать. Комиссар тут же потянулся к автомату, с готовностью отряхнул гимнастерку.
– Да, Николай Иванович, – понял его движение Казанцев и поправил на голове каску. В окопах впереди задвигались, показались головы, плечи. – Идем в роты: ты – в третью, я – в первую. Без связи нам тут делать нечего.
В степи, невидимые за тучами пыли, резко ударили пушки. Характерно шепелявя, просвистели болванки.
«Это уже танки!» – проносится в голове Казанцева, и он прибавляет шагу. На полпути споткнулся и упал в воронку. Ударили мины. Ругаясь, сверху навалился еще кто-то. Поднялись вместе – белесые напуганные глаза, волосы на лоб, плечо с витым погоном немца-танкиста.
– Здорово, комбат! – Из соседней воронки вылез начальник разведки дивизии. – Фрукт. А-а? – кивнул он на немца. – Свеженький. Только взяли. Из четырнадцатого танкового корпуса! Прорвались у Вертячего! В общем, держись, комбат! Прут к Волге! Ну, будь жив!
Два дюжих разведчика в маскхалатах подхватили немца под руки, потащили в сторону разъезда 564.
Меж окопов, храпя, вынеслась упряжка лошадей с орудийным передком, проскочила за линию и там попала под пулеметную очередь из танка. Это видение на миг отрезвило Казанцева, заставило подумать о себе.
Он добежал до первой роты, спрыгнул в окоп, огляделся. В дымной степи шли танки. Десятки, сотни – черт знает сколько. До самого горизонта. За ними на бронетранспортерах и грузовиках – пехота. Гул моторов заполнил степь, небо – все. В тылу у танков гремел бой. Это, не в силах сдержать стальную лавину, умирали те, кто был впереди. Из желтых пыльных сумерек вырвался косяк Ю-88. Бомбовые удары слились со звуковыми ударами десятков моторов. Самолеты пронеслись буквально в нескольких метрах над землей, вдавливая своим ревом в нее все живое. Вторым этажом сотни самолетов шли на город. Танки веля огонь из пулеметов, пушек. В неоседающей пыли и космах дыма все это было похоже на фантастическую игру тысяч светляков, которые пульсировали, мигали.
На бруствер выскочил солдат с каской в руке и остановился, дико озираясь.
– Танки пропускайте! Отсекайте пехоту! – Голос Казанцева потонул в грохоте боя. Солдата с каской Казанцев перехватить не успел. На месте, где он стоял, вырос черный куст земли. Когда куст опал, солдата не было. По брустверу немо, беззвучно, кувыркаясь, катилась каска.
Гитлеровцы спешились, поспрыгивали с бронетранспортеров и танков, начали спотыкаться, падали – одни с разбега головой вперед, другие переламывались назад, будто их ударил кто под коленки, третьи просто оседали, хватаясь за место, куда куснула пуля.
Не переставая, били батареи, стреляли танки, пехота. Все огромное пространство степи, насколько хватал глаз, напоминало дымный кратер действующего вулкана. Земля вспухала, пузырилась, как лужа под дождем. В разных местах ее жирно чадили подбитые машины, горели на корню хлеба. Дымы собирались вместе, закрывая солнце, косо стлались над землею. Низко проносились самолеты. Казалось, все сошло со своих мест, пришло в неистовство. Наступило какое-то безумие, торжество огня и грохота, где каждый переставал быть самим собою, отдельной личностью, а становился частичкой механизма этой огромной битвы и жил ее внутренним напряжением. И все запоминалось, откладывалось где-то на дне души, как откладывается смола на дереве. И еще было желание увидеть обычную, нетронутую степь, свет над нею, ее морщины, травы, цветы. Но ничего этого не было, как никогда и ни в ком, пожалуй, не было столько сил и жажды выжить, как у людей на этом вздыбившемся пространстве. Казанцев тоже все видел, и слышал, и ловил хотя бы мгновения тишины, которые бы говорили о возможности жить. Но мгновений этих не было, и нельзя было оторваться от запутанной и подвижной картины огня и грохота.
Так хотелось напиться, искупаться в реке. И, как чудо, на миг возникло видение. Наташенька, четырехлетняя дочурка, любила подавать умываться, когда он, пыльный, возвращался с учений. Они выходили во двор. Казанцев ставил полное ведро воды. Наташа черпала оттуда ковшиком и сразу весь его выливала ему на затылок и шею…
А немецкие танки шли и шли, проламывая для себя коридор. Их гул уже слышался далеко в тылу. Но на позициях батальона и дальше вправо и за спиною бой не затихал. Не переставало греметь и по ту сторону коридора.
В третью роту попасть не удалось: над головами начала выгружаться очередная партия «юнкерсов». А когда бомбежка кончилась, из третьей роты подошли пятеро солдат. Они несли на плащ-палатке комиссара, вернее, то, что осталось от него.
– Роты нет больше… Танками передавили, – доложил Казанцеву сержант в облипшей на спине гимнастерке, нагнулся, поправил каску на комиссаре. – Мы все пятеро вроде крестников доводимся ему. Раздавленный, уже без ног, кинул бутылку последнему танку на мотор… Димку все спрашивает…
Ноги комиссара выше колен были расплющены гусеницами. Сквозь рваные вязколипкие брючины торчали осколки розовых костей. Губы уже обметало землей, щеки опадали, нос заострился. Только глаза не хотели умирать. Живые, умные, истерзанные болью. Он похрустел зубами, сжевал розовую пузыристую пену с губ.
– Не плачь, Витек. Солдатской смертью помираю. – Ногти в черных ободках скребнули рваный с перепончатым следом гусеничного трака планшет. – Завещание у меня тут… Димке… сыну… Свободными минутами писал. – Комиссар одолел тяжесть землистых набухших век, понимающе трезво глянул уже оттуда, откуда-то издалека, сказал: – Солдата береги… Россию всегда солдат спасал…
Над голубоватой круговиной чабера рядом с окопом, где лежал комиссар, вились пчелы – садились, домовито барахтались в пахучем цвету, взлетали. Казанцева даже оторопь взяла при виде этих пчел, и плечи холодом свело. «Медов зараз сила. Холостая земля жирует, бурьяны плодит. Взяток богатый», – ужасающе просто скрипел в ушах голос дедка в холстяных штанах и такой же рубахе, который вчера под вечер угощал их в лесной балке на пасеке медом.
Комиссар тоже, кажется, заметил голубоватый лоскут чабера и пчел над ним. Из уголка глаза выкатилась слеза, застряла в раздумье на скулах и, петляя в щетине, сбежала за ухо на шею. Щеки как-то разом опали, серо заблестели скулы.
– Середь России смерть принимаю, Витек… Прощайте! – чуть внятно прошелестел он губами.
Пригибая полынь, проревел «юнкерс». На крыльях его заплясали желтые огоньки. Косые в полете полотнища дыма и пыли сшила железная строчка пулеметной очереди.
Казанцев подождал, кивнул солдатам.
– Идите во вторую роту. Комиссара с собой…
Обвальный грохот над степью не прекращался. Война усталости не чувствовала. Казанцев слушал эту набрякшую гулом степь, такое же небо над нею и прижимал телефонную трубку к уху.
А танки немцев шли и шли. Какие успели уже догореть – чадили, какие только начинали гореть. По танкам била артиллерия. Появилась даже авиация. Но остановить это движение, видимо, ничто уже не могло. Казанцев несколько раз оглядывался назад, туда, где у него стояли минометная рота и батарея, но за дымом и пылью ничего не видел. В начале боя он различал в общем грохоте свои пушки, но сейчас он их почему-то не слышал и пробовал связаться с батареей.
– Батарея не отвечает, товарищ капитан! – Движением плеча связист стряхивает упавшие на него мелкие комья земли и смотрит на комбата.
– А ты вызывай!
Батарея не отзывалась. Казанцев послал связного. Через полчаса боец прибежал назад и сообщил, что батареи нет: раздавлена танками.
– Живые там есть?
– Кажется, нет, товарищ капитан.
– Кажется! – Казанцев задохнулся, несколько секунд не выпускал перепуганного взгляда солдата из своего, чувствуя, как закипает в нем тяжелая слепая ярость. – А вот если тебя, кажется, забудут на поле боя? А-а? – Солдат часто-часто заморгал глазами, озираясь виновато и дико. – Бегом назад! Узнать точно и вывести из-под огня!
За полдень, когда расплавленный шар солнца с волжской половины неба перекинулся на донскую, немцы, опасаясь, видимо, удара во фланг и тыл, усилили нажим на батальон Казанцева, пустили против него танки и до двух батальонов пехоты. Отупевшие, оглохшие и равнодушные остатки батальона Казанцева отошли к разъезду 564 и там зацепились за насыпь железной дороги. По пути к разъезду прошли свою батарею, раздавленную танками. Картина жуткая. Пожилой старшина лежал под опрокинутой и вдавленной в землю пушкой, в скрюченных пальцах – комья сухой земли. Наверное, пытался выбраться из-под пушки, но не хватило сил.
Ночью батальон передвинулся в сторону Котлубани. У дороги в заклеклой черствой земле солдаты долбили могилы. Жизнь жестокая. Она неумолимо и безоговорочно проводит разделяющую черту между молодыми и старыми, красивыми и уродливыми, живыми и мертвыми. У этой черты люди расстаются. И все происходит до потрясения, до смешного спокойно, просто и трезво.
Под сапогами гремел кремень дороги. Земля солонцевала, дышала полынной горечью, ждала росы. На западе медленно истлевала заря, окрашивая небо тревожной пожарной краснотой. Казанцев оглядывался на эту красноту, и мысли его тоже шли дорогой. Другой. Эта была дорога с любимыми, дорогими лицами: мать, отец, Людмила с дочкой, братья, сестра, знакомые, друзья… Сколько же их на этой дороге? Вот что им снится в эти минуты? Хоть в каком-нибудь сердце пощемливает тоска о нем?.. Разминаясь с отцом и матерью, мысленно останавливался перед Людмилой. Он не знал и так никогда и не узнает, что она была убита в первое же утро войны на дороге при бомбежке. А дочь его заберет с собой соседка, Дарья Михайловна, у которой они оставляли Наташу в тот субботний вечер, когда ездили во Львов в театр и с которой Людмила села вместе в машину у штаба. Людмила оставалась для Казанцева живой, и он часто мысленно беседовал с нею и строил планы уже на после войны.
Тревога на батарее ПТО Раича в это утро ничем не отличалась от тревог, какие довелось пережить солдату за долгие четырнадцать месяцев войны. Батарейцы шум» но, даже весело оставили незаконченный завтрак и привычно и быстро заняли свои места у пушек. Никто из них и не подозревал, какая судьба их всех ожидает в этот день.
Огонь батареи явился для немцев неожиданностью. Один танк потерял гусеницу и завертелся на месте. Второй задымил вначале, потом взорвался. Башня отлетела метров на пять в сторону, и в горловину ударило освободившееся пламя. Танки, как подраненные звери, которые мигом оборачиваются в сторону охотника, открыли бешеную стрельбу по новой цели.
На какое-то мгновение окружающий мир для Раича погрузился в безмолвие, только бушевал огонь, дыбилась земля, двигались танки, в беззвучном крике раздирались рты людей.
Для удобства маневра танки двигались в шахматном порядке. Раич приказал стрелять по ним только фланговым орудиям, а когда немцы, развернувшись в их сторону, подставили борта, ударили пушки и в центре и сразу же подбили еще две машины. Гитлеровцы, поняв свою ошибку, ударили по центру. Сколько раз уже так повторялось, завязывалась такая же смертельная игра, и всякий раз сердце Раича одевалось холодком страха.
Третье орудие выстрелило дважды. Наводчик волновался и оба раза промазал. Из танка, шедшего на орудие, тоже выстрелили два раза и тоже оба раза промахнулись. Теперь все решали секунды: кто сумеет первым выстрелить в третий раз. Раич одним прыжком оказался у панорамы пушки: «Подвинься, герой!» Пушка подпрыгнула – левая гусеница танка лопнула. Следующий выстрел пришелся в борт танка, и он задымил.
– Вот так! – подмигнул наводчику, шлепнул ладонью по плечу. – Греми, Слава! Они тоже не железные, прыгают, как черти грешным телом по сковородке.
Танки отошли в ложбинку, перегруппировались, полезли снова. Батарея на фланге явно не нравилась им. Моторы на подъеме из ложбинки натужно подвывали. От их воя и грохота нервно подрагивала земля, и эта дрожь невольно передавалась солдатам, которые прислушивались к этому вою и ждали появления танков.
– Товарищ лейтенант, нам их не достать! – крикнули вдруг от первого орудия.
– Выкатывай на прямую!
Раич подбежал сам, уперся плечом в щит. Задохнулся. Сердце пухло от натуги и ожидания, заполняло всю грудь. Рядом потные зверские лица расчета. Пушка застряла в песке. В напряженные спины и затылки стегал близкий гул моторов.
– Ну еще!..
– Эх, матушка ты моя!..
– Не жалей пупка! Навались!
Вырвали орудие из песка. Размытые ручьями пота лица заулыбались.
– Дает как, сволочь. А-а?
– Сейчас бы шашлычок, товарищ лейтенант, да пивка из погреба.
– Ты откуда, Мамедов?
– Ростовский, лейтенант. С Нахичевани. А этот, – Мамедов шутливо пнул в бок соседа, – сам ишак. Шашлык в глаза не видел.
– Не верь ему, лейтенант. Трепло нахичеванское. – «Ишак» размазал пилоткой по лицу грязь и вдруг удивленно вскинул глаза, разбросал руки и упал. Из рук его выпал окурок и продолжал дымиться.
Над откосом ложбины показались землисто-серые башни. Покачиваясь на неровностях почвы, танки медленно выползали наверх, останавливались, навязывали огневую дуэль. Дуэль была явно невыгодной; сорокапятимиллиметровые снаряды ничего не могли сделать с T-IV на таком расстоянии. Одно за другим вышли из строя два орудия, появились убитые, раненые и в других расчетах.
«Ну хоть чуток поближе!» – мысленно умолял Раич немцев. В голове чему-то большому в такие минуты места не оставалось. Все было летучим, обрывочным. Для целого не хватало единственного и не случайного – тишины, солнца, покойного вида земли.
Расстояние между сторонами сокращалось с неуловимой быстротой, и голубые глаза Раича холодели, суживались, движения его становились замедленными, выверенными.
Один танк крался к правому орудию. Орудие молчало. И никого не было видно там. Окажись танк на позиции – конец всей батарее. Прыгая через воронки и пустые ящики, Раич бросился туда. Бежал и кричал: может, кто поднимется и заметит опасность. И на позиции поднялись. Окровавленный наводчик и заряжающий стали к орудию. Выстрел в упор, и танк, клюнув пушкой, завис на бруствере орудийного дворика. Остальные танки поняли это как сигнал, ринулись на батарею с трех сторон.
– Ну, сейчас они наведут нам ухлай, лейтенант! Все тут останемся, – Ужас медленно крыл, коверкал лицо наводчика. По морщинистому лбу и щекам его градом скатывался пот.
– Бог не выдаст – свинья не съест!
Жизненный и солдатский опыт Раича был не богаче, чем у наводчика. Да и годами наводчик годился ему в отцы. Но за спиной Раича было еще и училище, и внушенные ему понятия о командирской чести русской армии.
Два танка еще вспыхнули перед батареей. Но большего артиллеристы Раича сделать не могли. Силы были явно неравными. Дню до полного круга было еще далеко, и Раичу с трудом верилось, что они еще на прежнем своем месте, что он еще жив и тело его способно двигаться. Сознание его силилось уцепиться за что-нибудь понадежнее. Бегал, спотыкался, падал. Когда упал и поднялся в очередной раз – по орудийным дворикам его батареи мелькали танки и чужие солдаты.
– Встаньте, живые! – крикнул он, не очень веря, что его есть кому услышать. – Пусть видят, как…
Срезанный автоматной очередью, Раич опрокинулся навзничь и завалился в ровик. Три или четыре человека, поднявшиеся на его зов, тоже упали у своих искалеченных орудий. На позициях батареи стрекотали короткие автоматные очереди. Это гитлеровцы добивали раненых.
Сделав свое дело, танки свернулись в колонну и продолжали движение в направлении города, где на широком пространстве у Волги в небо упирались густые тучи дыма, фонтанами взрывались всплески огня и кружились сотни самолетов.
* * *
Сталинград горел. Горели дома, пристани, пароходы, горел асфальт, спичками вспыхивали от нестерпимого жара телеграфные столбы. Горела сама Волга – нефть из разбитых нефтяных баков огненными потоками устремилась к реке и растекалась по воде. По Волге плыли обломки барж, лодки, трупы людей и животных. Связь то и дело обрывалась, и маршал Василевский А. М. дважды в этот день вел переговоры по радио с Верховным Главнокомандующим открытым текстом. Верховный опасался, что судьба города на Волге в этот день будет решена, а вместе с падением Сталинграда могли возникнуть и нежелательные тяжелые осложнения, политические и военные.
Командующий 6-й полевой немецкой армией наблюдал за битвой со своего степного КП.
«Чем они дышат там?» – думал он, плотно сжимая и без того тонкие губы.
– Надо полагать, что падающие градом бомбы уничтожают все живое, – сказал один из офицеров на этом КП, спокойно и холодно наблюдая ужасающее зрелище гибнущего города, сплошное море огня и дыма.







