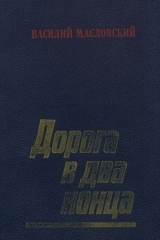
Текст книги "Дорога в два конца"
Автор книги: Василий Масловский
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 32 страниц)
Василий Дмитриевич Масловский
Дорога в два конца
Часть первая
Глава 1
Полдень 6 июля 1942 года выдался исключительно жарким: лист на дереве свернулся в трубочку, над хлебами и степными дорогами бродило желтое марево.
Как все получилось, Казанцев Петр Данилович не понял, только все вдруг, кто был в плотницкой, оказались на улице и смотрели в сторону Богучара. В пронзительно-белесом небе над Богучаром медленно таяло упругое грязновато-белое облачко.
– Зенитки бьют. – Галич, костлявый, мелко суетливый и внешне слабый мужичонка, лизнул кончик обкусанного уса, снял ребром ладони слезу с глаза.
– Так им, сволочам! – Глаза Алеши Таврова, приземистого и крепкого, как дуб-полевик, паренька, азартно блеснули.
– Дон середь России, Алеша. Отдать отдали, как назад вертать будем, – сказал старик Воронов. Рыжая борода его дрожала, и рука, чесавшая бороду, тоже дрожала.
– Немец на Дону! Боженька ты мой! – тяжкий вздох.
– Зараз еропланы черт-те куда достать могут.
– Тут не еропланами пахнет. – Монгольские глаза Галича смежились в полоску, скулы посерели.
– Хороша беда, пока за порогом…
– А это что… Глядите! – Воронов кинул взгляд поверх хутора, вялые губы его медленно сивели, виднее проступала рыжина веснушек на них.
С белесого, в меловых размывах бугра скатывалась конница. Лохматые калмыцкие лошаденки и выбеленные солнцем всадники стремительно потекли в улицы хутора. Через полчаса у бригадного колодца, у длинных долбленых корыт, горячей грудой сбились спешенные конники с короткими карабинами за спиной, требовательно зафыркали приморенные кони, кругами пошли резкие запахи людского пота и конской мочи.
По дворам захлопали калитки, хуторяне потянулись к бригаде. Пропотевшие, пыльные, всадники хмуро встречали вопросительно-ждущие взгляды, подергивали поводья, горстью черпали прямо из корыта, пили сами, плескали на лицо, голову, покряхтывали. Мохнатые лошаденки, должно быть, понимали скованность своих хозяев и, поводя потными боками, жадно пили из корыт, где на дне по углам колыхалась бурая бархатистая плесень, не ожидая поощрительного посвистывания.
– Отходите? – тихо сронила пожилая хуторянка и зачерствевшей ладонью поправила сползавший с головы платок.
– Ты бы, тетка, молока холодненького из погреба принесла. – Просторный в плечах кривоногий боец отер плечом красное лицо, снял пилотку, сбил о колено пыль с нее. – В горле кочета побудку делают. Слышишь? – прокашлялся сипло, плюнул через плечо. – Ну, чего глядите, бабоньки?
– А чего же нам?
– Донские есть, сынки?
– С Хопра, с Чиру.
– Донские в третьем эскадроне, батя!
– Нету, бачка, нету твоя земляк.
– Не мешайся, ходя. Подпругу отпусти: коню живот тянет.
– Немец-то где?
– Немец близко, отец. Недолго ждать… – Седой от пыли старшина поперхнулся, на потной шее дернулся кадык.
Женщины, закрываясь щитками ладоней, так и табунились, сдержанно гудели, ловили каждое слово. За молоком ни одна не тронулась.
Старшина нагнулся, окунул голову в корыто, не вытираясь, стал затягивать подпругу попившему коню.
– Жадные, черти, будто своих служивых нету, – похрустел песком на зубах, сплюнул зло.
– А какая им радость видеть тебя. Их тоже понимать нужно, – упрекнул старшину хозяин вислозадого мерина.
– Из тебя, Добров, хороший бы поп вышел. Ну, зараза! – рыкнул старшина на коня, не хотевшего брать пресное железо мундштуков.
– Что ж вы, бабы? Горло тырсой забило, – упрекнул женщин старик Воронов, почесал затылок и, провожаемый редкими взглядами, повернул к своему двору. «Чего уж смотреть, коли бегут».
Молока женщины хуторские так и не принесли. Конники спешно, вытянувшись линялой лентой, ушли через бугор, прямиком, полем некошеной пшеницы. Долго потом будут глядеть черкасяне на этот бугор, на незарастающий горький след, выбитый копытами, и перед глазами их будут вставать сожженные солнцем и размытые потом лица, темные на спине линялые гимнастерки и в клочковатой шерсти взмыленные бока маленьких коней.
Филипповна молча встретила Петра Даниловича у калитки. Она тоже была на бригадном базу и видела все сама. Петр Данилович прошел мимо, присел на порожек, снял картуз, положил его на колено.
– Ну?..
Внутри так все и дернулось. Тяжело засопел, ушел в хату от греха подальше.
А что он скажет?.. Свои два сына на немеренных солдатских дорогах. Старший, Виктор, – капитан Красной Армии. На Волыни, под Перемышлём, в первый же день встретил войну, проклятую. Три письма-треугольника – все и вести от него. Полевая почта! А полевая, она полевая и есть. И Людмила, жена Виктора, с дочкой будто бы в первый же день войны выехала к ним сюда, на Дон. А ни слуху ни духу. Средний, Андрюшка, – совсем дитя, школьник, прошлой осенью поехал с инженером МТС Гореловым в Ростов, на Сельмага за запчастями, и где-то под Лихой пристал к воинской части. Всю осень на реке Миус близ Таганрога воевал. Последнее письмо в январе из-под Матвеева Кургана, к Донбассу поближе… Да не приведи господи и помилуй! Тоже ведь не заговоренные. В семье их четверо выросло. Все вот в этой горнице голым задом по полу ползали, этими руками нянчил. Глянул на уродливые, кинутые на колени, шишковатые от мозолей руки.
Во дворе Шура – дочь кричала что-то матери. За палисадником – голоса редких прохожих. С прошлой осени, после эвакуации скота, Черкасянский хутор приглох, потишал. Коров и овец не вернули. В марте в Калаче их погрузили в вагоны и отправили на вольные корма в Саратовскую область. Назад пригнали только быков и лошадей, которые нужны были для пахоты.
Мужики и бабы тоже вернулись не все. Помоложе решили поглядеть земли за Волгой. Кто постарше, возвернулись в хутор, когда рыжие шишки курганов уже пообсохли и на их плешивых песчаных боках, греясь на солнце, высвистывали линючие суслики, а степь, как и в допрежние времена, дышала жадно, дымилась, звенела первозданным безмолвием, хорошела и ждала. Особенно на зорях. Разбуженная весной, в степи поднималась своя, извечно знакомая и неистребимая, жизнь. Кипучая, буйная, она словно бросала вызов придавленному войной хутору. Иные поля, так и не дождавшись пахаря, обсеменялись сами – бурьянами.
Казанцев тоже был в эвакуации со скотом. А когда вернулся – заставили бригадирничать. Бригадирничать приходилось, можно сказать, на пустом подворье. Оправлялись одни полевые да огородные работы. С нынешнего дня, видно, и им пришел конец… За год войны и Петра Даниловича собственная жизнь, и жизнь хутора рушились второй раз.
Он прошелся по темной при закрытых ставнях и прохладной горнице, ощупкой полез за печку, достал мешок с рубленым самосадом. Зеленоватые стружки дыма крутнулись и повисли в желтых тесинах солнца, деливших сквозь щели в ставнях горницу на полосы.
– Диду! – стукнулась в ставню Филипповна. – Тут пришли к тебе.
Навалившись грудью на плетень, у калитки стоял Воронов. Желтые, в красноватых прожилках глаза слезились, дышали растерянностью и испугом.
– На Богучаровском шляху, балакают, творится что-то страшное. – Воронов выставил перед собою сваляную рыжую бороду, нервно турсучил ее в горсти.
– Богучаровский шлях не за горами, – нахмурился Казанцев, подошел к калитке, качнул зачем-то соху, державшую плетень.
– Беженка зараз оттуда. У жинки Трофима Куликова передохнула с час и дальше. Боится – к Дону не поспеет. Шлях кипит, говорит: пешие, повозки, машины – клубком так и катится к Дону все.
– Ну, баба и сбрехать недорого возьмет.
– А председатель в Богучаре. Там же сегодня передовики хозяйства совещаются. – Глаза старика утонули в складках морщин, хмыкнул в нос: – Как же так получается, Данилыч?
В это время тяжкий расседающийся гул волной прокатился над хутором, отдаваясь в вышине. Дрогнула земля, звенькнули стекла в окнах. Это был первый голос войны, которая до сих пор шла где-то далеко и доходила до хутора в слухах, письмах-треугольниках, газетных сводках.
– Галиевская переправа!
Собеседники переглянулись.
Филипповна поснимала зачем-то корчаги, жарившиеся на солнце, унесла их в хату. Заскрипели, захлопали калитки по соседним дворам.
– Доброго здоровья, Данилыч. – По дороге, спотыкаясь, прошел озабоченный Галич. Оглянулся виновато.
– Виделись только.
Проскакал на взмыленной лошади всадник. По два, по три конника продолжали скатываться с бугра, торопливо поили коней, пили сами и уходили дорогой, проложенной через пшеницу. С каждым часом военных становилось все больше. Пошли пешие, повозки. Над шляхом, за буграми, катились гулы, теперь уже почти беспрерывные. И в том, как шли военные, и в том, как они выглядели, сквозила совсем близкая и теперь уже неминуемая беда. Одни спокойно объясняли положение. Из их слов становилось ясно, что все началось под Харьковом. Из Харькова он пошел на Старобельск, Воронеж. Воронеж будто бы уже сдали, и сейчас он, немец, идет на Россошь, Кантемировку, и что раньше чем у Дона его теперь уже не задержать. Другие же, заикаясь от страха, рассказывали, что прет несметная сила, ничем не остановимая. За людьми охотятся, как за зайцами. Выстрелами поднимают из пшеницы, сбивают в кучи и, как скот, гонят по степи. По дороге сплошняком идут машины, танки. Ни малого, ни старого не жалеют – всех подчистую метут. «Ничего не будет. Люди тоже, – успокаивали третьи. – А порядка всякая власть требует». «Не верьте никому. Прет, верно. Сила его зараз. Но долго он тут не засидится. Выбьем», – уверяли четвертые.
К вечеру поток бегущих схлынул. Слухов, однако, не убавлялось. И от этого становилось еще тревожнее. «Немцы на шляху уже. Россошь, Кантемировка у них… Зараз в Талах, Писаревке. Наутро ждите к себе». «К вам не завернет, должно. Магистралями идет…» «Ждите, ждите…»
В слухах искали утешения, надежды, а они час от часу становились все нелепее, страшнее и невероятнее.
Ночью пошли обозы, пехота, кучками гражданские. Стучали в ставни. Филипповна выносила хлеб, воду, молоко, пока было. Возвращалась, не раздеваясь, ложилась, ворочалась, не могла уснуть. Не спал и Петр Данилович. Курил до горечи на языке, молчал. И войска, и беженцы спускались по их реке вниз, на перекаты, переправлялись у Хоперки, Васильевского и правились на Монастырщину, Казанку. Галиевская переправа, говорят, разбита во второй половине дня. Поправили, да он снова разбил. Бомбит леса у Дона, таборы беженцев и военных. «Самолетов у немца!.. Все небо укрыли!» – несли с собой тревогу и страх беженцы. С бегущими были дети, но задерживались на час, не больше, и шли дальше.
Часу в третьем на востоке распускалась заря, в раму забарабанили резко.
– Казанцев! В правление! – Голосом, от которого внутри все похолодело, сорвалось и зачастило сердце, прокричала школьная уборщица. – Из района начальство! Поторапливайтесь!
В тесном кабинете председателя Лихарева собрались бригадиры, полеводы, агроном. Низкий проем распахнутого окна загораживал секретарь райкома Юрин. На одутловатом лице его качались расплывчатые угольные тени прикрученных ламп, и от этого оно выглядело усталым и болезненным. На стук двери он поднял голову, и на Казанцева глянули глаза в землистых мешках. В пальцах правой руки дымилась цигарка.
– Немцы Россошь взяли, к Кантемировке подходят, – услышал Казанцев его низкий хрипловатый голос.
– Совсем рядом.
– Боже ж ты мой! Да когда ж это было такое…
– Ближе к делу, товарищи. – Юрин сполз с подоконника, подошел к распахнутой двери, где на порожках дремал неизвестно зачем попавший на это совещание старик Воронов, вернулся назад. – Срочно готовьтесь к эвакуации. Увозите все, что можно. – Взял у агронома полоску газеты, стал вертеть новую цигарку. – Хлеб, все запасы съестные, что отправить нельзя, – раздавайте колхозникам. Скот, какой есть, – отправляйте завтра же. Это тебя касается, Казанцев. Опыт есть.
– Я не поеду, Роман Алексеевич! – тихо сказал Казанцев.
– Как это не поедешь?! – остановился перед ним Юрия, просыпал табак и тяжело, одышливо засопел.
– Ехать не с чем – быки, лошади… Да и стар я.
Взгляды всех скрестились на Юрине: что скажет?
– За отказ трибунал полагается. Время военное. Но не можешь – оставайся, – прикинув, видимо, что-то свое, отходчиво согласился Юрин, смял в потном кулаке пустую газетную полоску, бросил в угол. – Кому-то и оставаться нужно, а то вернемся, какими глазами будем смотреть на людей.
– Из вас остается кто? – тяжело поднял насупленные брови Казанцев. Говоря «вас», он имел в виду райкомовцев.
– Может, и останется кто, – увернулся от прямого ответа Юрин.
– Что ж, поживем – увидим. Таким, как я, немного осталось. – Крупные, в синеватых узлах вен руки Казанцева легли на колени, плечи обвисли, и взглядам сидевших по лавкам и за столом представилась обширная бурая лысина старика в венчике сивых волос и крепкая, не старческая спина.
– Характерами, Казанцев, меряться не время, – устало и недовольно отрубил Юрин.
– Куда ехать, Роман Алексеевич? Кругом немцы, – возразил один из бригадиров.
– Кто тебе сказал?
– А вы сами послухайте, какие страсти рассказывают военные, а особо беженцы. Из-под Калитвы бегут. А до Калитвы-то рукой подать…
– Немец вдоль Дона растекается, обозы перехватывает.
Юрин вскинул квадратную голову, окатил всех замерцавшим злобой ввглядом:
– Поменьше слухайте паникеров разных. Есть такие – специально слухи сеют.
– Нет, Роман Алексеевич. Зря брехать не станут. С полдня вчера как прорвало…
– До вчерашнего не брехали.
– Эх!.. – тяжкий вздох, матерщина.
Когда вышли из правления – меркли звезды, гасли Волосожары. В глубокой и чуткой зоревой тишине особенно гулко грохотали ошипованные колеса, перекликались сиплые голоса. С меловых круч со стороны Богучаровского шляха все спускались и спускались к хутору и шли полем через пшеницу военные и гражданские, в большинстве одиночки.
Из-за почерневших обугленных холмов медленно выкатывался на привычную дорогу рыжий диск солнца. Меж домов, цепляясь за плетни, потекла ранняя духота. И с первыми же лучами солнца на Богучаровском шляху выстлались ровные гулы, которые перемежались тяжкими ударами и от которых над хутором по линялому небу кругами катилось эхо и звенели стекла в окнах. Люди вздрагивали, вслушивались в эти удары и ждали того, что будет.
Глава 2
– Ну что? – спросил главный инженер МТС Горелов, сухо покашлял в кулак, притоптал цигарку. Впалые щеки заядлого курильщика покрыла испарина. – Много еще керосина в баке?
– В кран не течет больше. Придется внутрь лезть. – Алешка Тавров постучал ключом по крану восьмиметрового керосинового бака. Радужная на солнце, витая нитка керосина лизнула горловину бочки, оборвалась. – Сколько его нужно?
– Весь до кружки. – Сутулые плечи инженера подрожали в сухом мелком кашле, он остановил взгляд на Алешке: – Ты ж не думаешь оставаться? На примус не нужно?.. Кто первым полезет?
– Давайте я, – сказал Володька Лихарев, сын председателя, ловкий смуглолицый паренек с жесткими, как проволока, волосами. – Где ведра?
– В случае чего – погреми ключом, – посоветовал Алешка. – Там и задохнуться недолго.
– Подержи, – Володька снял, бросил Алешке рубаху. Поднялся по лесенке на крышу бака, опустился в люк.
С приказом об эвакуации мастерские заполнились народом. Трактористы, комбайнеры побросали работу в поле – пригнали машины еще вчера, – помогали слесарям готовить к отъезду тележки, фургоны, отбирали и грузили нужный инструмент, снимали моторы с комбайнов, проверяли трактора. Однако сборы продвигались плохо. Как и у керосиновых баков, суетилась и бегала в основном молодежь. Люди постарше, от нуды и жары, забивались под комбайны, осторожно, с оглядкой, цедили слова, курили. Ветер ставил по хутору пыльные свечи, тускло белела поникшая полынь на выгоне. От комбайнов домовито пахло свежей соломой и обмолоченным зерном. С решением уходить привычные вещи теряли свою силу и значимость. Как умирать, не хотелось оставлять обжитое и понятное и кидаться в неизвестность. А может, оно по-прошлогоднему обернется – надеялись многие. Попылят, попылят, как и прошлой осенью, по чужим дорогам, да и вернутся.
Над хутором, натужно подвывая моторами и заполняя небо тревожным гулом, один за другим проплывали большие косяки бомбовозов. И от Дона, куда они шли, докатывались тяжкие удары. Они заставляли вздрагивать и переглядываться. И от этих ударов внутри оседал ледяной холодок тревоги и неуверенности.
– С такими сборами мы и к Покрову не выберемся.
– Оно, может, и торопиться не к чему.
– А ну как придут да к стенке поставят?
– Украину забрали – и ничего. Живут же.
– Мало расстреливают, скажешь?
– Ну, не без того, – защищался плешивый, безбровый кузнец Ахлюстин, беспокойно щупая всех маленькими обесцвеченными у кузнечного горна глазами. Он тоже устроился в тени комбайна вместе со всеми. – И куда ты денешься? Где тебя ждут? И далеко не уйдешь. Техника. Наши на коньках, а у него, – и кивал в гудевшее и блескучее небо.
– Там таких, как мы, сейчас сила. Видал, через хутор прет сколько… А по шляху… – Широкий в груди и плечах Михаил Калмыков повернулся на спину, почесал пятерней волосатый живот.
– В том-то и дело, – обрадовался поддержке Ахлюстин. Красные набухшие веки погнали слезу. Он выпростал из-под себя ногу, устроился поудобнее, сказал уверенно: – Вернусь-ка я на хутор свой, и катись к черту это кузнечное ремесло.
– На волах будешь землю ковырять?
– А ты что – пальцем в носу или пониже спины?
– Дурак…
– Оно самое зараз таким и житуха. – Ахлюстин обиженно поджал вялые, постные губы, отвернулся. – Умные произвели – пятиться дальше некуда. Скажи кому – не поверит.
– В восемнадцатом году так же самое было.
– Тогда и война другая была…
– Эх-хе-хе!.. – воющий зевок, грохот упавшего железа.
От разговоров и думок пухла голова. Прислушивались – горизонт почему-то пугающе и немо замолчал вдруг. И от этой глухоты стало еще больше не по себе.
– Может, она уже совсем и кончилась, туды ее в печенки, – виновато улыбнулся Михаил Калмыков. Засмугленное загаром лицо собралось морщинами.
Подошли четыре бойца, пропотевшие, пыльные, с винтовками, попросили попить, закурили.
– Что ж вас так мало? Остальные где? – тая в углах губ усмешку, спросил Ахлюстин ближнего.
Боец провел языком по бумажке, заклеил цигарку, усмехнулся невесело.
– В бессрочном отпуске, дед. – Глянул на разбросанные инструменты, разобранные моторы: – Как бы он вас на месте не накрыл… Спасибочко за табак, за воду. – И все четверо вытянулись гуськом по дороге, проложенной вчера конницей.
Пылили одинокие грузовики. Иные останавливались, шоферы забегали в мастерские – зырк, зырк, закуривали у мужиков и дальше. Иной, налапав глазами нужное, брал без спросу. Трактористы заглядывали в запекшиеся от зноя рты, ждали новостей.
– Порадовал бы чем, земляк.
– Две бобины унес, вот и порадовал. С комбайновских моторов снял.
– И на кой черт они ему две.
– Тебе и одной не нужно… Где инженер? Будем собираться или языками трепать?
– Мы от инженера, а он от нас прячемся.
– У Максимкина яра обозники хлеба косят на корм.
– Один черт им пропадать.
Комбайновские моторы, какие увезти было нельзя, и оставляемые трактора раскулачивали без нужды по мелочам, рвали и ломали на живом с мясом, не думая, что это может пригодиться еще. Всеми руководила одна мысль: скоро все это кидать. А кому оно останется? Уцелеешь ли сам?.. Хозяйственная скупость и бережливость стали вдруг ненужными и лишними. Жалости ни к чему не было. Были лишь тоска и печаль по всему прежнему, неотступно мельтешившему перед глазами и так неожиданно и грубо нарушенному.
– Может, пообедать сходим, – предложил Михаил Калмыков, опуская слегу и налегая на нее.
– Не мешало бы.
– Заработай сперва.
– Тогда берись, да не тужься попусту. – Воловья бурая шея Калмыкова вздулась жилами, окаменели лопатки под грязной мокрой рубахой. Распрямил спину, перевел дух. – Право же, как тифозные вши по грешному телу, ползаете. С такими сборами не немцы, так зима пристукнет.
* * *
– Пошабашили? – Инженер покашлял, не выпуская из зубов цигарки, достал часы-луковицу, оглядел хлопцев, работавших у керосиновых баков. – Сколько ж вышло всего?
– Четырнадцать бочек да две цистерны. Больше некуда.
Горелов поперхал, косоруко елозя согнутой рукой у кармана засаленного пиджака, ногой потрогал одну из бочек.
– Много осталось в баке?
– Ведер, наверное, сто-полтораста. Ведро еще тонет.
– Может, выпустить на землю? А-а? Пробить вниз дыру и выпустить.
– А если нашим отступающим понадобится, – рассудительно остановил Алешка Тавров. – Пускай пока. Выпустить никогда не поздно.
Горелов присел на меловой выступ в тощем узоре повители, плечи опустились. Выглядел он больным, усталым, безразличным. Худое лицо заядлого курильщика на скулах еще больше заострилось, синело загаром. Оперся ладонями о колени, сказал тихо, почти безразлично:
– Над вечер продукты грузить: муку, пшено, сало. Николай Калмыков вагончик подтянет. По пуду муки возьмите домой, нехай матери напекут хлеба, сухарей насушат. Завтра, пожалуй, тронемся.
* * *
Бесконечный день наконец истлел, и короткая душная ночь бесшумно и быстро укрыла встревоженные и притихшие хутора и накаленные зноем и разбитые копытами и колесами дороги. В линялой выси над ними мерцали нетоптанные звездные шляхи. Чуя беду, жутко выли собаки, сторожко держалась зыбкая тишина. Истомившаяся за день земля отдыхала, жадно впитывала в себя вытекавшую из логов росную прохладу. По низкому горизонту небо дрожало зарницами. Люди не спали, подолгу смотрели на эти немые всполохи, гадали, что там такое, примеривали к этой неизвестности свою судьбу. На зорьке, если приложить ухо к земле, с севера, со стороны Калитвы и Мамонов, докатывались гулы ожесточенной битвы. Ниже, к Монастырщине и Казанке, – отдельные вздохи. Эти вздохи и гулы принимались и как вестники надежды, и как свидетели теперь уже неминуемой беды. Те, кто уезжал, прислушивались к ним, думали, что ждет их в скитаниях; те, кто оставался, метались между надеждой и отчаянием.
Раич Вадим Алексеевич, главный бухгалтер МТС, томился на распутье. Оставаться, не вызывая подозрений, он не мог, и уезжать мешала жена, Лина Ивановна. Общая тревога и сумятица сборов на работе захватывали его. Он отбирал бумаги, встревал в чужие хлопоты, помогал советами, спорил. Дома могильным камнем давили тоска и раздвоенность.
– Они за скот, за машины отвечают, а ты за что? – не давала ему опомниться дома жена и загадочно щурилась, поджимая тонкие выцветшие губы. – Чем все кончится – ты не знаешь?.. Так чего же ты лезешь в петлю?..
– А ты знаешь? – Раич долго и тоскливо, упорно изучал блеклую пористую кожу лица жены, дряблую мочку уха, спрятанную в рыжих волосах, зеленоватые, с постоянным прищуром глаза, и в нем закипала злоба, смятые морщинами щеки тряслись. – Толик в армии, Игорь – школьник. А наши вернутся, какими глазами ты будешь смотреть?
– Кто тебе сказал, что они вернутся? – внутренне вся холодея и как-то упруго и по-кошачьи ловко подобравшись, вкрадчиво спрашивала Лина Ивановна. – Не для того немцы пол-Европы взяли и до Дона дошли, чтобы возвращать все это.
Ярче тлел светлячок папиросы. Раич с судорожными всхлипами тянул носом воздух и нервно ходил, останавливался у окна.
В раскрытое окно текли сухой жар и духота косогоров. Земля отходила где-то только под утро, когда в медленном костре зари гасли Стожары и синевато мерк ущербный месяц. Сейчас он еще не всходил, и по окраинам пепельно-серого неба безмолвно чиркали и колыхались не то отсветы дальнего боя, не то сухие летние зарницы.
Разлад в семье начался не вчера и не сегодня. Он, Раич, бывший офицер, есаул войска Донского; жена его – дочь лифляндского немца-помещика, генерала-служаки. Интеллигентские размышления и понятия о прошлом, о судьбах России, благополучие и счастье, уютный светлый устоявшийся мирок. И тут – революция. Все это рухнуло, а жена хотела сохранить хотя бы видимость этого мирка. Чего проще было бы сменить тогда же фамилию и забраться куда-нибудь в глубь России, а он по прихоти жены продолжал плутать, плести петли по югу России, Дону. Сколько раз приходилось, если и не бежать, то уезжать поспешно… Годы и дети, однако, сделали свое. Смирился, устал. Жена всегда брала верх над ним, и он боялся, что и на этот раз уступит, что и на этот раз верх будет за нею.
В голове мутило, язык терпко горел от беспрестанного курения…
Старший сын в конце прошлого года окончил артиллерийское училище и писал с фронта. Последнее письмо от него было в середине мая. Из-под Балаклеи. Письмо скупое. У них наступали. Но потом там что-то случилось, и он как в воду канул. Сейчас упорно поговаривают, будто там все и началось, под Харьковом, с нашего наступления. Но когда там все это началось? В сводках все сообщалось о боях местного значения, а потом, в конце прошлого месяца, вдруг сдали Купянск. Как раз там, где был Толик. И тут же бои под Воронежем, вчерашняя конница…
В духоте комнаты, за спиною, Лина Ивановна стлала постель. Потом, белая, кургузая, она прошлепала на веранду, загремела там засовом. Вернулась. Запели пружины матраса.
– Одного не пойму, – необычно тихо и как-то весь напрягаясь внутренне, сказал Вадим Алексеевич и повернулся в белый угол кровати. – Неужели ты их действительно ждешь?
Ответа не получил и вышел на веранду. Железная крыша веранды еще не остыла. Пахло свежими огурцами, укропом и зеленью яблок. Над неубранным столом глухо гудели мухи. Запах укропа почему-то особенно раздражал своей домовитостью.
– Оставлю дверь пока открытой, – сказал громко.
– Вечером прибегала Горелова, – отозвалась из сухого сумрака спальни Лина Ивановна. – Муж ее беспокоится: сборы как попало, никто ничего не хочет.
Раич задержался на миг в дверях, с наслаждением ощутил спиной и грудью сквозняк, переждал сердцебиение. Над крышами сараев напротив догорала короткая июльская ночь.
В дымно-розовых от росы кустах в низине ударил раз и другой беззаботный выщелк соловья. Сухо прострочил сверчок.
В эту ночь не спали многие. Она была последней под родной крышей. На утро был назначен выезд.







