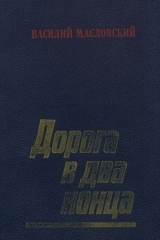
Текст книги "Дорога в два конца"
Автор книги: Василий Масловский
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 32 страниц)
– Отвернись, матушка!
– Закрой глазыньки! – советовали ближние.
– Ох, ироды, мамынька-а! – рыдающий возглас.
– Да уведите же ее, мужики!
– Детей возьмите!
– А-а! – рвался страшный, на одной поте крик.
– Бейте их, выродков! Наши скоро придут! Прощайте, люди, мама, Сережа, Танюша! Прощай, Ро…
Оставив таять в прогретом воздухе голубое облачко дыма, «фиат» отошел.
После экзекуции итальянцев выстроили всех у конюшен, и перед ними долго говорил немец в фуражке с высокой тульей. После него говорил итальянец, тоже из Богучара. Солдаты что-то коротко кричали в ответ, выбрасывали перед собой руки.
– Гавкайте, гавкайте, подлюги. Нагавкаете на свою голову.
Конюшни были напротив двора Галича, и он всю процедуру наблюдал от сарая. Рядом с ним стоял Сенька Куликов, хмурился по-взрослому, смотрел на итальянцев.
Когда женщины привели Лихареву домой, из-за печки выбежала полуторагодовалая дочка, оставшаяся дома, и, что-то беспокойно и заботливо лепеча, полезла матери на руки, поймала за подбородок и старалась повернуть мать лицом к себе, чтобы заглянуть в глаза.
Вслед за женщинами вошел итальянец-квартирант, бывший только что у конюшен. Он застыл у порога, посмотрел на женщин, мать, девочку, продолжавшую тянуть мать за подбородок и сердившуюся, что ей не удается повернуть ее лицом к себе.
– Володя капут… – пробормотал он растерянно и вышел на улицу.
Глава 2
Артналет кончился, и дед Самарь, знакомец Андрея Казанцева, вылез из погреба. По двору молодой снег поземкой лизала пороховая гарь. Горел соседский сарай. Трещала солома, проваливались стропила. Через три дома у проулка тоже что-то горело. Черный дым огородами, по льду озера переползал в лес, валком над взлохмаченной водой катился на ту сторону Дона.
Из землянки с дубовым накатником показался знакомый лысоватый полный немец, ефрейтор.
– О, рус Иван, рус Иван, – покачал головой и показал на пожары. – Нехорошо. – Снял каску, стряхнул с нее песок. – Почему ты не едешь в Вервековка? – Немец довольно сносно говорил по-русски и любил отводить душу с хозяином двора.
– Хозяйство капут. Жить потом как?
– Потом, потом, – принял как намек немец, белесые брови обиженно подвинулись к переносью. – Ох, Иван, Иван. Ты шпион!
– Какой же я шпион, ваше благородие?! – Самарь виновато-угодливо улыбнулся, развел руками. За ворот в погребе ему насыпалась земля, и он потихоньку шевелил лопатками, чтобы она просыпалась дальше. – Детям и внукам хлеб добываю, подворье берегу.
– Иван, пуф-пуф-пуф из-за Дона, и твой дом капут. – Землисто-серые мешки немца дрогнули, он в раздумье пожевал толстыми губами.
– Бог дал, бог взял. Не наша воля, ваше благородие.
– Бог, бог! Ты глюпий, Иван. Война. Ай-ай-ай! – И он махнул рукой.
Из землянки вылез еще один немец. Низенький, квадратный, толстомордый. Позвал первого, и оба, лопоча по-своему, перелезли через поваленный плетень на соседний двор, где горело. Угодливость Самаря как рукой сняло. Глаза заблестели по-волчьи, люто скребанул взглядом жирные затылки немцев.
Население Придонья немцы выселили на ближайшие хутора в первый же день. Сборы короткие. Вечером приказ вывесили, а к шести утра чтобы и дух простыл. За ослушание – расстрел. В Галиевке от выселения уклонились несколько стариков и некоторые бабы, молодые и старые, из самых отчаянных. Семья деда Самаря жила у бабкиной сестры в Вервековке за Богучаром, а сам он – в погребе. В погребе у него была куча источенной мышами соломы, на которой он спал, и черный от сажи котелок, в котором он варил себе еду тут же, в погребе.
Раз в неделю дед набирал три ведра картошки (выкапывать всю сразу опасался, в земле она была сохраннее), добавлял в мешок два ведра яблок и нес своим в Вервековку. Утром возвращался назад. Немцы привыкли к нему и не трогали. Заставляли, правда, копать и чистить и для них картошку, убирать землянку, приводить в порядок сапоги, одежду. Раза три немцы из двора ходили на левый берег. Возвращались мокрые, грязные, злые. В тальнике, левадах Самарь встречал своих разведчиков.
Отмякал от таких встреч. Помогал, чем мог. От них узнал, что наши держат плацдарм под Осетровкой и будто бы даже и в Свинюхах, сюда, поближе к Галиевке.
В июле – августе немцы косорылились, чертом смотрели. Все крутили патефон, охотились за нашими, кричали на тот берег.
– Вольга, Иван, буль-буль! Дон тоже, Иван, буль-буль!
– Брешешь, сука! – Меж песчаных бугров и деревьев Левобережья мелькали красноармейцы и солили так круто, что немцы слюну пускали от зависти. А потом научились и сами крыли тем же через реку.
Но как собаки, чуя близкую гибель свою, теряют интерес к окружающему и уходят из дому, так и немцы хотя и оставались на месте, но с наступлением холодов постепенно теряли ощущение времени, уверенность, сидели все больше в землянках у огня.
Вчера Самарь набрался смелости, спросил лысого, кто же победит все-таки. Лысый ответил не сразу. Чесал под мышками, кряхтел. Когда поднял голову, глаза в землистых мешках выглядели усталыми и безнадежно грустными.
– Победа клонится на русскую сторону, Иван. Сталинград! Сталинград! У русских сейчас все есть: и танки, и самолеты, и солдат много.
– Ну что ж, так вам и надо, – неожиданно для самого себя выпалил Самарь. Глаза на одичавшем, заросшем лице вспыхнули волчьим блеском, уткнулись немцу в переносицу.
– Мы не виноваты, Иван. Гитлер… – Снег захрустел под сапогами, немец озябшими руками поправил воротник. Выбирая дорожку, по щетинистым щекам медленно скатывались слезы. – Дом, дети не увижу больше.
– Что так?
– Война, Иван, война. Аллес капут…
* * *
Как и всякий отдельный человек, фронт тоже имел свое настроение. Были дни, когда головы не поднять, когда на самое малейшее движение лупила артиллерия, и прибрежный песок, как зверь – укушенное место, грызли пулеметные и автоматные очереди. Дело доходило до авиации, А были дни, когда постоянное ожидание смерти утомляло, и на фронте наступала тишина. В такие дни можно было пройтись, не сгибаясь, вылезти на бруствер или на крышу блиндажа, под солнышко, и по-домашнему выкурить цигарку, сходить к Дону и зачерпнуть воды на чай. У солдата не меньше желаний, чем у любого другого человека, не ходящего под смертью. И в такие дни хотя бы часть этих желаний была выполнима. Война брала выходной. Оставаясь в шинели и не выпуская из рук оружия, солдат на несколько часов, а то и на сутки, переставал быть солдатом, отвлекался от опасности и занимался житейскими делами, куда входило и исполнение службы, но исполнение спокойное, без нужды караулить, чтобы убить, и быть все время в напряжении, и прятаться, чтобы не быть убитым.
Там, где фронт держали итальянцы, румыны, венгры, таких дней было больше. Немцы же народ педантичный: война есть война. Да и всегда находился среди них офицер, а то и солдат, который мог оборвать затишье самым трагическим образом: убить ничего не ждавшего человека. Тогда прощай, тишина, на много дней. Бывали случаи, будоражились целые участки фронта. Но война утомляла даже педантичных, дисциплинированных и консервативных немцев, и дни тишины, хотя и реже, чем на других, случались и на немецком фронте. Начиналось с шутки-затравки, которая не умирает и среди солдат.
– Эй, Иван! – кричал немец со своего берега. – Давай перекур сегодня!
На другом берегу из окопа несмело показывалась каска, потом боец и совсем вылезал из окопа, садился на бруствер и доставал кисет. Поднимались и еще каски, расправляли спины.
– Плыви сюда, курва! Отмеряю махорки тебе на закрутку! Я не такой жадный, как у твоего отца дети!
После дипломатического вступления и предъявления полномочий начиналось само действо. Зажигалка на ветру гасла, и немец никак не мог прикурить. Красноармеец доставал свою «катюшу», выбивал обломком напильника искру из камня, и ветер только раздувал трут.
– Прикуривай, Ганс! Краденый бензин все одно гореть не будет! – пыхал дымок, и солдат хозяйственно убирал «катюшу» в карман штанов. – У тебя, Ганс, вся жизнь на краденом! И душа твоя краденая!
– Ты, Иван, медведь!
Начиналась ругань. Преимущественно на русском языке. Выхолощенный немецкий не имел той крепости слов, какая требуется для объяснения серьезных мужчин.
Утром и вечером обе стороны черпали подальше от окопов нетронутый войною снег.
– Чай будешь пить, Иван?
– Чай, Ганс, чай! Ты и чаю-то по-людски не знаешь, «каву» хлебаешь.
– Иди пей, Иван! Завтра выходной не будет! Командир приехал!
Спускались в землянки, пили чай, кофе и не знали, кого на следующей перекличке уже не будет.
Темпераментные, эксцентричные итальянцы крутили на передовой через усилитель граммофонные пластинки, устраивали вечера песни или дележ хлеба на солдатский манер. Раскладывали там у себя пайки и через усилитель начинали выкрикивать: «Кому?» Первая пайка неизменно доставалась командиру дивизии, потом командирам полков. И так для комбатов, командиров рот, а то и взводов, многих из которых итальянцы знали по званиям и именам.
Утром 20 ноября все кончилось. Обе стороны, не сговариваясь, начали пулеметную разминку, которая перешла в орудийную дуэль. С этого дня война пошла без выходных. Солдаты обеих сторон, хоть и видели войну больше перед своим окопом, общее настроение улавливали безошибочно. Враги поняли, что вторая военная зима будет для них куда труднее первой. Кругом на тысячи километров, укрытая погребальным саваном и скованная морозом, чужая земля, люди, которых они грабили и принесли им столько горя. Красноармейцы же чувствовали близость праздника и на своей улице. Ходили, распрямив плечи и держа голову повыше.
– Придет час, курощупы, достанем своею рукою! Распишем всех, кого в Могилевскую губернию, кого райские сады стеречь да греть кости у ключаря Петра!
Немцы не кричали больше: «Иван, буль-буль!» Бормотали свои тощие ругательства и вжимались в приклады МГ-34. На левом берегу, словно дразня, ходили в полуоткрытую, и потерь было мало. В иные минуты, видно, как вода, огонь, мороз не берут человека, так и пуля.
Сало прошло, и Дон стал. Красноармейцы переходили теперь Дон по льду каждую ночь. Немцы покоя лишились совсем. Самарь продолжал жить в погребе. Натаскал туда побольше соломы, как кабан, для тепла зарывался в солому. На Егория, числа 25 ноября, проснулся утром, от тяжелого сопения и скрипа лестницы. В погреб спускался лысый немец. Мешки под его глазами обвисли, стали черными. Немец сел на белую по пазам от плесени кадушку, перевернутую вверх дном, долго сидел, зажав голову в ладонях и упираясь локтями в колени. Плечи его вдруг затряслись.
– Сталинград так, Иван. – И сделал руками движение, будто обнимал кого. – Ай-ай-ай! – не дождался ответа и полез из погреба.
Дня через три лысый спустился опять в погреб и, дрожа и заикаясь, рассказал, что минувшей ночью русские троих из соседней землянки увели за Дон. У элеватора есть убитые.
– Уходи, Иван. Сильные бои будут. И дом капут, и ты капут. Уходи. Новый командир батальона. Дисциплина.
Самарь проводил «доброжелателя» по лестнице, из свалянной в войлок бороды желто блеснули зубы.
Ни в саду, ни в огороде стеречь уже было нечего. Картошку какую выкопал, а какую мороз заковал да снег укрыл в землю. А дом? Как ты его убережешь?.. Снаряду или бомбе грудь не подставишь. Самарь забрал котелок свой и ушел к семье в Вервековку.
Глава 3
– Что за глубина – узнай прежде. Ты, Казанцев, моложе всех. Нырни-ка…
– С пару зайдет, не то судорога схватит.
Саперы нерешительно топтались на берегу, поглядывали на стеклистый ледок закраинцев. Вид у всех напряженный и скрытно сконфуженный. В воду лезть никому не хотелось.
– Все равно нужно кому-то лезть. Переправа должна быть, – оправдывал свое решение молоденький лейтенант, командир взвода саперов. – Лодки нет, а время не ждет.
Голос у лейтенанта неуверенный и звучит обиженно и по-мальчишески звонко.
Казанцев начинает быстро раздеваться, запутался в завязках кальсон.
– Рубаху не сымай!
– Шинелю сверни, не выхолаживай!
Дружно подают все советы и с удовольствием чувствуют на себе сухую и теплую одежду.
Андрей нырнул с разбега, выскочил, как лещ из ухи, снова ушел под воду. Тяжелую стылую волну вязала неводная мережа пены, бело вспыхивали обмороженные гребешки. Андрей замерял глубину в нескольких местах, погреб к берегу.
– Тут, товарищ лейтенант, где по шею, а где и с головой. Есть места – колокольню утопить можно. Теперь я эти кручи по лету вспомнил, – стуча зубами, Андрей выбрался на откос, измазался весь в песке.
На него накинули шинель, полами полушубков стали растирать ноги, грудь.
– Придется к перекатам лодочную переправу подвигать.
– С Москаля проглядывается дюже.
– Тогда за бунты.
– Эх, стакашек бы сейчас Казанцеву – и как из баньки.
– На квартире все согреемся.
Весь день в бескровном сумеречном свете за холмами лениво погромыхивало, будто кто ворочался спросонья. Уже затемно лейтенант дал команду взять убитых и идти в село.
Убитых Блинова и Баранова несли по очереди. Баранов еще утром подшучивал над пехотным поваром Овсеичем, благополучно вернувшимся с плацдарма. Овсеич, украинец-западник, в том же дворе, где квартировали и саперы, целый день кормил лошадей, варил пищу, а ночью отправлялся с кухней на плацдарм. Всякий раз перед поездкой Овсеич стонал, жаловался, а вернувшись, сообщал хозяйке дома: «Слава богу, тетя Таня. Жив остался». И, не обращая внимания на насмешки, крестился в угол на образа. «Ох, поймают тебя итальянцы с кашей», – сказал ему сегодня утром Баранов. И вот Баранова самого уже нет, а Овсеич кашу варит и завтра утром снова будет креститься на образа.
И убило по-дурному, шальным осколком. Немцы били с Москаля по Верхнему Мамону, километров десять выше по Дону. И вдруг в самую середину моста.
Блинов и Баранов были мертвыми пока только для тех, кто их нес, а для тех, кто их ждал, они были еще живыми.
Жуя что-то на ходу, навстречу кучкой прошли разведчики.
– Как там?
– Как и вчера. У макаронников в Филонове праздник святого какого-то: весь день молчат, – ответили им, не задерживаясь.
Блинова и Баранова положили в сарае: хоронить завтра. Сами пошли в тепло натопленной избы. У порога зябко топтался часовой.
– Завтра в Калач кого-то из вас, ребята, – сказал он.
На кухне и в горнице духота, накурено. Слепо мигали фитили в снарядных гильзах. По углам спали вповалку. За столом налаживались ужинать.
– Мы думали, не придете, нам больше достанется! – гаркнул вошедшим один из сидевших за столом.
– Пайку Блинова и Баранова можешь слопать.
В избе смолкли. Под окнами хлопал рукавицами часовой, в коптилках потрескивали фитили на солдатских портянок.
– У нас дня без похорон не бывает. Чем мы виноваты? – оправдывались собравшиеся ужинать.
– Сымай полушубки, помянем. – Жуховскнй долго сопел, раздеваясь, устроил валенки сушиться у печки.
– Казанцеву плесни поболе. Крестился в донской иордани.
– Плесну, плесну. Двигай скамейку. – Жуховский отыскал свой мешок, порылся, выложил на стол банку свиной тушенки – второй фронт, – копнулся еще, достал головку чеснока, поднес к носу, закатил глаза. – Мамочки, как на праздники. Даже шашлыком пахнет. – Стукнул головкой о стол. – Всем по дольке.
Аппетит на холоде за день нагуляли, ели шумно, жадно, переговаривались и смеялись. Андрей сомлел в тепле от еды, пил чай.
– А что думают они, что и мы будем у них? У немцев, на их земле, – сказал он вдруг.
За столом переглянулись, стали почему-то отряхиваться, мышцы на смуглых от мороза лицах поослабли, появились улыбки.
– Ну этого они не поймут, пока по башке не стукнем.
– Когда стукнем – поздно думать.
– Ребята, а ить хлопцев положило, когда мы с вами болтали тут, – сказал один из саперов, остававшихся дома.
– Ага, я еще сказал, как дверь открылась: наших, должно.
– Ты молчи! – зыркнул первый. Щетина на впалых его щеках и упрятанные под глубокие надбровья глаза замерцали в свете коптилок.
– Наливай, Жуховский. Помянем и Спинозу заодно, крестного Казанцева.
– Август многих сожрал и не подавился.
– Смерть не шутка. Помирать с толком надо.
– Во, греб твою в железку, – судьбинушка!
В углу на соломе заворочались. Поднялся и сел мятый старик с козлиной бородкой и в очках в железной оправе. В расстегнутый ворот короткого пальто выглядывал перекрученный синий галстук в горошек. Старик прокашлялся, оглядел, щурясь, сидевших за столом, засобирался.
– Заспался я у вас. Бабка беспокоиться будет.
– Хвати для храбрости.
– Нет, нет. Свалюсь еще да замерзну. – Старик вытащил из-под спящих шапку свою, стал прощаться.
– Откуда? – кивнул на бухнувшую дверь Жуховский.
– Фельдшер с Осетровки, что ли. К бабке-знахарке за травами приходил. Лекарств нет, говорит, а лечиться идут. Потом раненых помогал отправлять.
– Дед теперь к бабке через Дон побежит. Самого убьет, не то утопнет.
– Война каждую минуту может оборвать, ограбить будущее. – На соломе у печки поднялся и сел проснувшийся солдат. Глаза отупелые после короткого сна. Они у него старые, хотя сам он и молодой.
– Это как же она оборвет, ограбит? – с интересом повернулся к нему Андрей от стола.
– А ты знаешь, Казанцев, какие люди воюют?.. Сколько поэм, симфоний, картин так и останутся ненаписанными? Сколько бесценных мыслей человеческих так нераскрытыми и останутся на этих полях? – Солдат подошел к столу, взял кусок хлеба, положил на него тушенки, вернулся на свое место. Был он невысок, плечист, короткошеий. – На войне, браток, убивают не только людей.
– Ты скажи, Овсеич пехтуре целого барана заложил в котел, а нам – фига с маслом, – тыкнули из-за стола.
– Во! – Солдат, евший хлеб с тушенкой у печки, повернулся к столу, показал на пожалевшего барана пехоте: – К таким лбам волосы крепко прирастают. Они специально созданы для ращения волос.
– Ты о чем это?
– Да все о том же.
– Бабы пишут, младенцев нету. Совсем и крик их забыли.
Изба качнулась, посыпалась побелка с потолка. Заглянул часовой с мороза, повел длинным носом.
Андрей накинул шинель, вышел на улицу. Часовой топтался у порога. В саду поскрипывали от мороза деревья, и бездомно завывал в их голых ветвях ветер. Зеленоватый свет луны из-за туч искажал предметы, скрадывал перспективу. У дверей сарая, где лежали убитые, поземка поставила уже горбатый сугробик. В избе затихли. Погас свет. Там, где в размывах туч подслеповато мигала звездочка и чечекал итальянский пулемет, через бугор был его родной хутор. В июле-августе, пока через фронт проникали беженцы, кое-какие слухи доходили о поведении немцев на их хуторах. С августа фронт стал плотнее, поток беженцев обрубило, и всякие слухи прекратились.
Андрей обошел дровосеку, стал у кучи хвороста в затишке. Днем на ветру, под обстрелами, мысли тупели, разбредались, а вот побыл в тепле, поел, и снова в думки кинуло. Как ни коротка его жизнь, но и в ней уже было до и после. До войны и после того, как она началась, до армии и после того, как он стал солдатом. Все прежнее или как незначительное отодвигалось в сторону, или переплавлялось в тоску и ненависть. Казалось бы, о чем тосковать: не успел ничего узнать. Но о том, чего не было еще у него самого, узнавал от других. Люди на войне жили взводами, ротами, и то, что было чьей-то отдельной жизнью, становилось общим. Нет ничего на свете, о чем бы не говорили солдаты. Все человеческое или уже было кем-то узнано, или строилась общая коллективная мечта.
Часовой выкурил цигарку, шурша щепками у дровосеки, подошел к Андрею. Виски у него запали, щеки провалились. В лихорадочно блестевших глазах отражался пожар: через дорогу дотлевал сарай. Ветер рвал оттуда пучки золотых искр, мешал с дымной поземкой.
– Ты, Казанцев, насчет смены узнай. Околел я.
– А кто тебя меняет?
– Ты спроси… Нутро у меня стынет. Заболел, никак, я.
В избе спали. Прели портянки, обувь, в нос шибал кислый запах овчины. Андрей отыскал смену часовому, подождал, пока солдат поднимется, и плюхнулся на его место. Устроился, угрелся, и перед глазами, как из тумана, всплыла Ольга. Он все время думал о ней. Даже тогда, когда казалось, что думает о чем-то другом. Сейчас он стал вспоминать ее медленно, подробно. Даже сердце забилось чаще. Мешал храп. Потом кто-то закричал во сне: «Немцы!» «О господи! – запричитали рядом. – И во сне суки покоя не дают. Какие немцы. Спи…»
Проснулся Андрей – трясли за плечо. В избе серело, плавал угар печи и запах двух десятков спящих людей.
* * *
К пятнадцатому ноября Дон стал полностью.
Утром гуськом знакомой тропкой через луг саперы плелись к мосту. Розовел от восхода снег, весело щебетали и порхали по кустам снегири и синицы. Немцы с Москаля, добросовестно отработав свое, сделав артналет по Верхнему Мамону, переправе, в уютных блиндажах пили кофе, дожидаясь следующего по графику налета. Блиндажи немцы и итальянцы умели устраивать: тащили в них из домов кровати, перины, одеяла, зеркала. Андрей встречал в отбитых блиндажах даже русские иконы. Зачем они им? У них же вера другая, католическая.
На стремени и под кручами дымились полыньи. По одному, по два в ту и другую сторону по свежему льду брели солдаты.
Прыгая по бревнам моста, с плацдарма возвращалась кухня, на передке восседал Овсеич. Навстречу кухне тянулись повозки с боеприпасами и другим снаряжением, необходимым для жизни передовой. Саперы ночной смены уже ждали, курили на бревнах у блиндажа.
– Выспались, теткины дети! – привычно громко здоровался с ночниками Жуховский, хозяйским глазом обмерял сделанное и прикидывал, что предстояло делать.
– Сегодня будем предмостья крепить, – опередил мысли Жуховского лейтенант, командир взвода. – Ты, Жуховский, на заготовку леса. Пилите подальше от берега, и не сплошь, а вразрядку.
Андрею досталось киркой канавы долбить у предмостьев, куда укладывали сырой, неошкуренный кругляк дуба и тополя.
По мосту шли раненые, связные, группки солдат. Тарахтели повозки, сани; держась выстланной досками колеи, выли моторами одиночные машины. Итальянцы и немцы на удивление вели себя тихо. Батареи с Москаля пропустили уже два налета из своего расписания, и саперы работали, экономя силы. Привезли завтрак: штатную пшенку, жидкую, от одного вида которой мучила изжога. Саперы достали котелки, ложки из-за голенища, усаживались на бревнах, и вдруг – о чудо! Как в сказке! ветер с левого берега донес мощный бас Михайлова.
Эх, да вдоль по Питерской, по Тверской-Ямской…
– Что за чертовщина? – Желтый небритый кадык Жуховского дернулся от глотка горячей каши.
– Экий голосина пропадает, – прислушался и его сосед.
Через пару минут все выяснилось довольно просто. Из сизого лозняка, заметенного снегом, вынеслась пара лошадей в повозке. Вытянувшись над ними коршуном, в распахнутом зипуне крутил над головой вожжами ездовой.
– И-эх! – кричал он. Шедшие навстречу шарахались.
Колеса и копыта коней выбивали сумасшедшую дробь по настилу моста. Следом за ними несся и голос Михайлова. Только теперь он почему-то лаял, словно отбивался от кого-то. На съезде повозка сделала отчаянный скачок и опрокинулась – вывалились ящики, посыпались снаряды, в сугроб, продолжая сипеть, воткнулся открытый патефон.
Шуховский первым делом поднял патефон, а лейтенант за шиворот выдернул из сугроба незадачливого ездового. Шапка с него слетела, в бороду набился снег, и глаза – будто его только что с луны сбросили. Лейтенант тряхнул дядька, потянул носом. От дядька изрядно шибало казацкой дымкой.
– Ты что ж, сукин сын! Как приказ выполняешь!
– Чаво? – Фыркая и продолжая непонимающе лупать глазами, ездовой ощупал сам себя руками, убедился, что цел, и стал смелее. – Чаво пристал? Ну что за грудки трясешь?
– Ты же присягу нарушил! Приказ не выполнил! Под расстрел тебя!
– Какой приказ? – удивился пьяный и забожился: – Выполнил, товарищ лятянант.
– Им тут место? А-а! Место? – Лейтенанта трясло от возмущения. – Ты же сам мог взорваться, взлететь.
– Взлятеть?.. Ну? – Ездовой присел от испуга. Снег таял в бороде, ресницах. Мокрое лицо вытянулось.
– Вот те гну! Лапоть пензенский.
Только теперь до дядька, кажется, дошло все случившееся. Обросшее волосом мелкое лицо сморщилось, задрожало, и он заплакал. Саперы распрягли коней, поставили на колеса повозку, погрузили ящики. Где можно – подколотили, остальные снаряды уложили насыпом.
Дядько стоял, раскрылив полушубок, и плакал, пока саперы не привели в порядок его повозку.
– За помощь мы патефон конфискуем у тебя, – объявил ему Шуховский.
– Бяри, бяри, без отца нажил, – легко согласился дядько, стал топотать и разгребать снег, ища, должно быть, кнут.
– А пластинки где твои?
– Ох бяда, одна была и та разбилась.
– Что ты бяда да бяда. Белорус, что ли?
– Рязанский я.
Жуховский разыскал в снегу осколок пластинки, завел пружину, поставил. Патефон добросовестно захрипел.
Потехи над «бядовым» дядьком хватило саперам до самого вечера. Вечером, когда уже совсем смерклось, через мост пошла артиллерийская часть. Машины все новенькие – без царапинки, пушки упруго прыгали колесами по бревнам. Прошло десятка три машин, а конца им не видно было.
– Это куда же, землячки? – разинули рты саперы, дивясь силе.
– Туда, куда и вчерашние.
– Много знать будешь – в рай скоро попадешь! – скалились с машин молодые краснощекие в хрустящих полушубках артиллеристы.
– Откуда вы хоть?
– Мамкины!
– Гы-гы-гы!
Резиново тянулись в улыбку затвердевшие на морозе губы.
– Много ж вас, мамкиных!
– И как она уродила тебя, орясину такую!
Мост скрипел, ходуном ходил под тяжелыми пушками, а они все шли и шли. За мостом, по звукам слышно, машины сворачивали направо. Андрей еще днем под горой, за левадами, видел свежие капониры, да не знал зачем. Теперь туда и шла артиллерийская часть.
После Михайлова дня был получен приказ об эвакуации населения из предполагаемого района боевых действий. Рано утром десятки подвод, нижнемамонские и мобилизованные на соседних хуторах, подошли к дворам. Поднялись крик, плач, ругань. Кто уезжал добровольно, кого приходилось сажать на подводы силком. Укладывали узлы, впопыхах волокли нужное и ненужное. Часть добришка зарыли еще в июле – августе, когда опасались переправы немца через Дон. Кое-что припрятывали на ходу, сейчас. Солдаты-постояльцы помогали долбить ломами окаменевшую землю, выстилали ямы соломой или сенцом, маскировали их сверху.
– Кто позарится на твои лохмоты, хозяйка?
– Да не к мамке еду, милай, – оправдывала заплаканная молодайка свои хлопоты. Подол теребили и не отпускали ничего не понимавшие ребятишки. – Ну куды я с ними вернусь! К чаму! – Она рвала подол из рук детишек, бежала в избу за чем-нибудь, тут же забывала – зачем, останавливалась как вкопанная. – Не поеду! Гари оно ясным огнем все, и они со мной!
Пожилые солдаты, у кого дома остались свои, понимающе вздыхали, лезли в карманы, доставали серые от грязи куски сахару, совали ребятишкам.
– Глупая. Тут всего может быть. И добра лишишься, и самих поубивает. Вернется мужик, а ни семьи, ни дома. Для чего ж воевал?
– Куда же вас переселяют?
– В Переволошное. В восемнадцати километрах отсель.
– Ну так наведываться будешь, да и мы приглядим.
– Езжай, милушка, езжай. Погорит, – бог даст, ишо наживешь, а тут видишь страсти какие. – Солдат показал на штабель снарядов под самую крышу избы, укрытый соломой. – Рванет – места не останется.
– Сенцо лошадкам стравят, это уж как водится. Картошку, огурчики поедят: солдат проходящий, да сами целы останетесь, – уговаривали солдаты своих хозяек, укладывали вещи, ласкали ребятишек.
А по улице скрипели снегом возы и сани, выли моторами, сбиваясь на целину, военные грузовики. По дворам, как по покойнику, голосили бабы, ревели ребятишки, травили махорку солдаты.
Не обошлось и без смешного. Дед Епифан – мамонец, потерял в дороге бабку. На месте добришко утянул веревками, хозяйски охлопал рукавицею, выдернул из-под полсти кнут, перекрестился на подворье, уселся спереди, бабку усадил назад. Уже где-то под Переволошным встречные, какие назад возвертались, кричат ему:
– Епифан Ильич, и де ж твоя бабка? Бабку потерял!
Оглянулся старик назад – и вправду бабки нет.
– Ах ты ж, малушка моя, – схватился дед за голову. – Грех великий. И де ж ты, бабка?!
А бабка из яру гребется километра за три сзади, руганью изошла, почернела вся. На спуске ударило под раскат, она и выпала из саней. Кричала, кричала – дед глухой, знай погоняет себе, не оглядывается, а силушки уже нет лошадиную упряжку догнать.
В ноябре дни короткие! не успеешь оглянуться – день кончился. А к ночи беженцев теснили на обочину машины с солдатами, тракторы с пушками, танки, обозы, Так и текли два потока; один к Дону, другой – в сторону от него.







