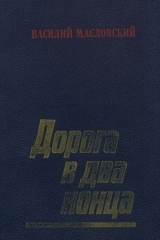
Текст книги "Дорога в два конца"
Автор книги: Василий Масловский
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 32 страниц)
Казанцеву мешал говор. Он по другую сторону стены сарая с начштаба и замполитом колдовал над картой, изучал маршрут движения. Мешать тоже не хотелось. Когда он вышел из половушки покурить и заглянул к солдатам – молодайка спала. Плотников сидел на том же ватнике, где спала хозяйка, чистил пулемет и прогонял с лица молодайки липучих и злых по осени мух.
– Намаялась. К Днепру гнали, – пояснил Плотников и поднял пулемет посмотреть на свет ствол. Шея налилась, побагровела, ворот врезался в нее, выжимая белую полоску. – Плачет все. Детишек двое пропали. Хозяин на войне.
В забурьяневшем саду вокруг покалеченной яблони ползал на коленях сержант Сидоренко, обвертывал яблоню мешковиной. Под стеной хаты на корточках курил Шестопалов. Под пушистыми смеженными ресницами насмешливо мерцали кошачьи желтые зрачки.
– И что ты ползаешь, Прохорыч, не пойму я.
– Я тебе говорю: дерево беречь надо. Зимой заяц аль мыши. Так ты обмотай ствол соломой да полей солому рассолом селедочным. Зайцы страсть не любят этот запах.
– Брешешь ты все…
Казанцев жевал размокший мундштук папиросы и слушал перебранку в саду. Война укоротила житейские мысли: уже на пороге их сторожила смерть. И не загадывать нельзя. Тоска по земле, по мирному труду обгладывала сердце, как голодная собака кость. В минуты затишья он не раз примечал, как солдаты ласкают чужих детишек, помогают солдаткам вновь обживать разоренные подворья.
– У тебя небось и пчелы были? – не отставал Шестопалов.
– Шесть колодок. Ишо думал завести. – Сидоренко примотал мешковину телефонным проводом, спрятал колючие концы. – Война помешала.
Шестопалов морщил скулы, мотал головою.
Глава 4
– Ко мне не хочешь? – позвала Лещенкова. В истухающих сумерках лицо ее румянело, белели зубы. – У меня шуба. Как на печке.
– Да спите вы, окаянные!
В пахнущей молотилкой и хлебным духом соломе по всей скирде копошились, укладывались на ночь старики, бабы, ребятишки – все, кому не нужно было в хутор.
Ольга помахала Лещенковой рукой, затихла, прислушиваясь, как гнездо ее заполняется теплом. Сон не шел, не было и мыслей ясных никаких. Поджала коленки, почувствовала себя всю, крепкую, захмелевшую от усталости, засмеялась тихо: «Ох, беда моя: взрослею!..» И слов нет передать тоску свою. Как расскажешь, как она слушает птиц по утрам и что птицы говорят ей в это время, как колышет зоревой ветер цветы на подоконнике ее комнаты, как съедает ее горячее томление. Ее постоянно мучит, что она что-то делает или уже сделала не то, что, может, самые нужные слова еще не сказаны, а самое счастливое время не пришло еще или уже упущено, считала себя виноватой и искала ошибки, было стыдно и совестно – сама не знала, чего и за что… Была у них ночь. Одна-единственная. Отец и мать уехали в гости, а бабушка – милая, добрая бабушка – так забилась, спряталась от них, что и не знать было, что она в доме. Они лежали рядом. Никогда не было такого. Не было страха. Ничего не было. Был только он. Горячий, нетерпеливый и – безрадостный. Тоска давила. Боль! Она ловила эту боль в нем, чувствовала. Он был с нею и был там. Теперь ему нужно писать туда. Очень нужно. Он ждет ее писем. А что писать? Не все же о любви. Она даже плакала от страха и беспомощности…
У остывающего движка сипло кашлял дед Куприян. В недоступной холодной пустоши неба разбрелись и пасутся, помигивая, стада звезд. В пугливой тишине затаилась дымная от росы степь.
Ольга повздыхала в своем гнезде, потянула на голову пальто – на душе было холодно и стеклянно пусто.
Днем Ольга стояла под соломой. Лицо закутано платком. Веки красные, распухли от мелких остьев и пыли. Варвара Лещенкова, тоже в платке, ловила короткие взгляды Ольги, и, умудренные жизнью, глаза ее искрились догадливым смешком.
Молотилка гудела, гавкала, дышала пылью. Менялись с Лукерьей Куликовой и Клавой Лихаревой. Отдыхали на ящиках у весов, чаще в соломе под скирдой. В осенней степи тоскливо голо, чисто синели дальние балки, подвижная дымка бездомно бродила по стерне – кричать хотелось.
Притрушенные пылью ресницы Варвары дрогнули на Ольгу.
– Бабьи удачи, девонька, завсегда слезные, – начала она издалека, придерживая смешок в прижмуренных глазах. – До дичины охотников завсегда ой-ой-ой как много. Потом только заглядывай да лялякай.
– Чему учишь, бесстыжая, – вступила в разговор бабка Ворониха.
Ольга выпутала из соломы былинку повители, обламывала ее в пальцах. Мудреный разговор и проникал в нее, и бился, как волна о камень, неприятный и непонятный до конца. Свои боль и хлопоты она и без Лещенковой хорошо знала, носила их в себе, ежеминутно ощущала их тревожную и волнующую тяжесть. Об остальном не думалось. «Придет время – сами узнаем, чужая жизнь один черт загадка: не болит, не учит», – утешал Андрей в апрельские денечки. Счастливые то были денечки.
Тяжелой была жизнь. Тяжелой, но простой и понятной, требовала со всех одинаково, скидки не давала ни старому ни малому. Учиться Ольга бросила совсем. Кому нужна ее учеба сейчас и ей самой тоже. Малыши еще учились, а повзрослев только собирались в школу, чтобы потом идти копать картошку или обламывать початки кукурузы. Лена Малышева, подружка, забеременела от солдата. Вчера на роды положили в больницу. Плачет, боится. На Аркадия Ивановича, математика, пришла похоронная. Здоровяк, насмешливый, добрый, отбирал шпаргалки на экзаменах и тут же помогал решать задачки. Жена в колхоз пошла. Трое детей, специальности никакой.
– Ты еще молодая. Намилуетесь со своим Андрюхой. – Варвара концом платка вытерла глаза, потрескавшиеся, порочно вывернутые губы больно потянула усмешка. Колыхнулась высокой грудью, перехватила вилы, убрала волосы под платой. – А мой-то Петенька с сорокового года. Четвертый годок. Легко-ли?.. А вернется – оба старенькие уже.
– Да тебя, Варька, на сто годов хватит. – Старуха Воронова ревниво оглядела дородное, дышащее здоровьем и свежестью тело Лещенковой, завозилась в соломе, зряче уставилась на дорогу. – Едет кто-то.
По обнаженному летнику, поднимаясь на взгорок, к Сорокиной балке пылила пароконка.
– Секретарь райкома, Роман Алексеевич, понукать едет. Боится: не управимся без него.
Райкомовская тачанка выкатилась из-за недомолоченного прикладка пшеницы, и из нее, грузно креня набок кузов, вылез секретарь Юрин. Потоптался, разминая затекшие ноги, откинул с головы башлык брезентового плаща.
– Бог в помочь, Данилыч! Доброго здоровья, бабоньки и господа старики! Как она жизнь, настроеньице?
– Господа, Роман Алексеевич, бражничают на охоте да в фаетонах раскатывают об эту пору, а мы, вишь, потеем, – принял шутку старик Воронов, приставил вилы к ноге, отер предплечьем потное лицо. – Так, что ли, годок?
– Так, так, – заерзал на ящике у вороха зерна дед Куприян, поморгал, гоня мутную слезу.
– Сидя удобнее, дедушка? – поздоровался со стариком Юрин.
– Способнее, способнее, кормилец. Спина-то у меня задубела, не гнется.
Люди привыкли к Юрину, охотно откликались на шутку, острое словцо.
– Может, сменить, Данилыч? А-а? Поразомну и я косточки, а то уж совсем забюрократился!
Казанцев с трудом разогнул спину, отшатнулся от ревущего барабана молотилки.
– Становись. – Мучнисто-бурое от пыли лицо Казанцева расщепила улыбка. – Только, чур, не проситься, снопы сам подавать буду.
– Поглядим, что ты за мужик, Роман Алексеевич, – раззадорилась и Лещенкова, оставила Горелову под барабаном одну, полезла на полок молотилки развязывать снопы.
Ольга проводила ее взглядом, упористей расставила ноги. На узкие плечи ее насела остистая зернь и мякинная пыль. Под поясок юбки меж лопаток убегала темная полоса.
Ольге на помощь подошла Лукерья Куликова.
– Становись, Ильинична, под правую руку, ловчее будет, – переменилась Лукерья с Ольгой местами.
В короткий передых Ольга отошла к скирде и, сцепив зубы, прислонилась затылком к соломе, отдаваясь сладкому, ноющему чувству усталости и слушая, как сердце толчками с шумом гонит к вискам кровь. В попросторневшем небе косо плавал подорлик, сторожил бесстыже нагую степь. От колодца в балке наплывал тонкий стук, будто скребли по железу.
– Хочешь? – Куликова достала из кармана завески яблоко, обшмыгнула ладонью, подала. – Яблок нынче, господи! Насушила малость на взвар. Кабы еще одни руки. – Положила на колени большие мужские, оплетенные взбухшими жилами руки. – Теперь-то, слава богу, хозяин в доме – Семка. Как твой отец?
– Ничего, – нехотя ответила Ольга, сочно хрустя яблоком.
– Закончим у Сорокиной, ближе к хутору переберемся, – как новость, сообщила Куликова, страдая оттого, что каждый вечер приходилось пешком за четыре километра идти в хутор, а утром со всеми поспевать на работу.
Уже в глубоких сумерках, пока поварихи управлялись с варевом, люди собрались у костра. Мужики, просыпая от дрожи в руках табак, крутили цигарки и расспрашивали Юрина про войну, про Днепр. Слухи шли и в газетах писали уже про Днепр.
В балке из сырого тумана пофыркивали лошади и мрачно ухал сыч на невидимом в темноте колодезном журавле.
– У-у, проклятый! – Кто-то запустил в сыча камнем, и камень глухо покатился на дно балки.
Цепляясь за стерню, из степи наползала глухая осенняя темь, сдобренная холодными туманами и винным запахом прели. Мужики поправляли на стынущих спинах ватники, кашляли и не расходились.
* * *
Время плело нескончаемую косу дней.
Хутор обветшал, на каждом шагу являл следы разрухи. Соломенные крыши хат и сараев просели, щерились, будто ребра диковинного зверя, вымытые дождями стропила. Поистлели плетни оград, и простоволосая хозяйка с руганью выбегала во двор прогнать приблудную скотину. Ночью черная земля, распятая под слезливым низким небом, натужно вдыхала запахи истолоченных осенью трав, скупо голубила прижавшиеся к ней хутора. Выли без причины собаки, а в осиротевших домах людей точили нескончаемые думки, гадали, когда же все это кончится. Были среди этих думок и радостные: гнали проклятого все дальше. И в этих, последних, люди искали силы, исполнения самых заветных и трепетных желаний своих.
Петр Данилович каждый вечер, как и прежде, отрывал листки календаря, но не прочитывал их больше до последней буквы и не выходил проверять по восходу и заходу солнца старенькие ходики с кукушкой или искать планеты. Война и в привычках людей, и норове хутора многое переиначила на свой лад. Живности во дворах поубавилось, и люди в хаты с прижившимся в них тревожным ожиданием не спешили, подолгу задерживались на бригадном дворе или другом каком месте. В беседах не теряли даже веселости, хотя и говорили о вещах невеселых: о хлебе, нехватках, не всегда радостных приходивших в хутор вестях. И вели разговоры люди, как бы остановившись на часок на полдороге, чувствуя, как уже придвигается пора настоящего, когда все будет возвращаться и налаживаться, так как война подходила к тому месту, к тем воротам, из каких она вышла. И разговоры шли как наперегонки, так хотелось загадать побольше в это завтра.
– Нынче еще и что. Урожай, слава богу: и на потерю, и на все хватит. Дальше как?
Старик Воронов, высказавшись, затянулся от цигарки покрепче, поправил обопревший и черный от пота ворот рубахи. Только что вернулись с поля, курили у кузницы. Меж деревьев бывшего кулацкого сада за кузницей прогорал алый ветреный закат, успокоенно голубело небо.
– Что ж ей, проклятой, и износу не будет?
– Не дай бог!.. – тяжкий вздох и плевок.
Все почему-то оглянулись на тихое голубое небо и ярый закат. Оглянулся за сад и Казанцев, и ему показалось, что дорога за садом, убегавшая за бугор на станцию, и само место за садом переменились: попросторнело там, что ли, опустело.
– Эх, едят тебя мухи! – отозвался Галич на упоминание о боге. – И бог сгодился, як припекло.
– Припечет – черту помолишься.
– Как там в районе насчет хлебов колхозникам плануют?
– Немцы на Днепре, слышал?
– Жрать один черт нада!
– В районе пока молчат, – ответил на общий вопрос Казанцев и снова глянул за сад. Дорога в косых лучах солнца блестела, как река, на гребне бугра ее огораживали просвечивающие в закате бурьяны. – Понемножку и разрешат, может. – И потверже от себя: – Хлеба дадим. Дадим!..
– Огороды убирать нужно, – покряхтел Воронов, слезливо помаргивая от дыма. – Вся надежда на них. А прихватками после работы тут не поможешь. Я, должно, завтра с бабкой дома остаюсь.
– А на бригаду кому?
– Не разорваться же… Что ж ты, если оно кругом кричит?
Остались на неделе и Казанцевы огород убирать. Филипповна копала, Петр Данилович выбирал и раскидывал картошку сразу на три сорта, ссыпал в мешки.
– Полюбуйся, дед, – с трудом выворачивала крупные клубни Филипповна. – И не думала, что на бугре будет такая.
Во дворе залаяла собака, потом радостно заскулила и замолчала.
– Шура из школы.
– Инженерова дочка… Она и есть. – Из сада вынырнула и, спотыкаясь под взглядами, на огород по дорожке спускалась Ольга Горелова. – И чего ходит? Ну что ты скажешь ей? – Петр Данилович тяжело, со вздохом поставил ведро, присел на мешок, стал вертеть цигарку.
– Куда ж ей, дивчине, итить? – возразила Филипповна.
У самых мешков Ольга запуталась в бодыльях, чуть не упала.
– С элеватора вернулась. На обед вырвалась, забежала вот.
– А я давно выглядываю помощника. – Петр Данилович снял, положил на колени с вытертой смушкой шапку, пошутил: – Бабка совсем загоняла. Что нового дома, дочко?
– Паву снова брали, и снова броня на шесть месяцев.
– А учеба?..
– Какая учеба? – Под смуглой кожей Ольги разлился густой румянец, трепыхнулся мысик на верхней губе. – Сейчас война. А кончится – время уйдет, мы другими станем. Давайте ведро. – Сбросила ватник, огладила ладонями кофточку, юбку.
Теперь копал Петр Данилович, женщины выбирали за ним. Осеннее солнышко тепло грело спины, в нос шибала бражная прель корешков ботвы и бурьяна, дух вывернутой земли. С соседних огородов доносился грохот картошки о ведра. В стоячем воздухе далеко слышны были голоса. Из сада у проулка резанул вдруг голос, будто душили кого или случилась большая беда. Мимо двора промелькнул почтальон.
Филипповна присела прямо на сгребки ботвы.
– Ничего не слышно, дочко. Как прислал тебе и нам в августе с Курщины – и как в воду канул. – Брови Филипповны запрыгали, щеки замокрели от слез, поминутно прятала под платой седые волосы. – Ладно. – Опираясь ладонями о колени, поднялась. – Идем, у меня борщ в печи преет. Поешь и домой бежать незачем.
После обеда работа валилась из рук. Кое-как добили латку поверх кукурузы на бугре, внизу и не начинали. Ночь Казанцев не спал, кряхтел, ворочался, вставал курить и чуть свет был уже на бригаде.
– Озимую, какая у базов, кончили, – встретил Казанцева Воронов у конюшни. – Новую скирду начинать или яровую туда же?
– Ты же картошку собирался копать?
– Какая картошка… – расстроенно махнул рукою старик. – А хлеба на Семку Куликова?.. Так куда яровую?
– Кладите к озимой. Все меньше зимой мерзляков будет. – Казанцев не стал останавливаться для обстоятельного разговора, вошел в конюшню. – А что это с Буланкой?
– Мишка Крутяк вчера на борону нагнал. Недели на две охромела.
Казанцев плюнул в сердцах, ничего не сказал, подошел к женщинам у арбы с соломой до половины.
– Вам, девчата, подсолнухи рубать. А с недели обмазку базов начнем.
– Ой, та вы бы посмотрели, что с этими подсолнухами делается. Половина, да где половина, почти дочиста на землю осыпаются. Перестояли, – подала голос жена Ивана Калмыкова, закутанная по самые глаза в платок. Вынула из варежки обмотанную тряпками руку, показала. – Вот как их рубать.
– Будем брать сколько можно. А ты, сынок, – тронул за плечо махнувшего за лето в вышину Семку Куликова. – Налаживай подводу под зерно – и к трактору с сеялками. Знаешь куда?
– У Максимкина яра лан, на день осталось.
– Там Матвей Галич на волах досеет. Да поглядывайте за скотиной. Ить это куда годится, как Мишка Крутяк делает.
– Кум, нам бы на мельницу, – подошла Лукерья Куликова. – С Лещенковой на пару… и Ейбогина просится.
– А мне в больницу, Данилыч. Хлопец ногу порубал косой.
– Ах ты чертова работа!.. И здорово? – поцокал языком, почесал за ухом. – Езжай с Кондратьевной… Нет. Севастьяныч! Запрягай моего! Ладно, ладно. Пешком побегаю.
– Так ты загляни к нам на подсолнухи, Данилыч, – напомнила Калмыкова.
– Непременно. А вы, бабоньки, – отыскал глазами старуху Воронову и ее подруг, – зерно в амбарах лопатить.
К полудню Казанцев попал к рубщикам подсолнухов. Рядом с подсолнухами стояла кукуруза, еще не тронутая уборкой. «Початки оберем, а былка в степи останется. Нехай снег задерживает. Хлебушка все-таки посеяли малость, до зимы и весной ишо посеем. Корма у базов, скотинка обеспечена. Хотя просчитаться – раз плюнуть. Уже наведывались армейские фуражиры. Хлопцы расторопные, здорово не спрашиваются…» Занятый мыслями о хозяйстве, Казанцев повеселел. Во всяком неначатом дне кроется своя загадка. «Что делать? Как поступить?» – нередко спрашивал он себя и поступал так, как требовал того начавшийся уже день или что-нибудь подвернувшееся в данный момент, рассчитывая, что все само собой ляжет в общее, поправленное людьми течение жизни хутора. Главное – держаться поближе к людям. Откачнись вроде и по пустяку, и уже не знаешь, куда деть, приспособить себя. Может, этого пустяка как раз и не хватает для правильности.
С сеяльщиками Казанцев покурил, вступил в шутливый разговор.
– Да ты от сынов своих письма получаешь? – улучил момент Галич, куря и зализывая монгольский ус.
– Нет, – тут же помрачнел Казанцев, притоптал цигарку, засобирался.
– Ни от одного?
– Ни от одного.
– Они у тебя под Курском были оба?
– Война на месте не стоит.
Пригревало солнце, ходьба тоже разогрела, расстегнул ватник, оттянул пальцами ворот рубахи. Косое солнце золотило с боков поросшие дубняком и чернокленом балки, разгоняло голубоватую дымку по краям горизонта, заливало его синью.
У степного колодца поверх Максимкина яра догнали пустые подводы с элеватора. Передняя подвода оборвала гомон колес, на доске-седушке кашлянул, подвинулся Макар Пращов.
– Садись, председатель, подкинем без магарыча к хутору. – Пращов ссутулился, безбровое, по-детски беззащитное лицо сморщила улыбка. – Чего насмотрел в поле? Скоро ослобонимся?
– Скоро, – нехотя ответил Казанцев, мостясь рядом с Пращовым, оглянулся на остальных. – Без скандалу приняли на элеваторе?
– Без скандалу. Успевай возить только. – Макар чмокнул на коней, помахал кнутом. В смеженных в прижмуре глазах осталась улыбка. – Тоже спрашивают, когда закончим. Пообещал на крещенье.
– Какой же тут смех? – обиделся Казанцев.
– А что, плакать? – удивился в свою очередь Пращов. – Глаза просыхать не будут, Казанцев. – Посерьезнел, подобрался, пошевелил кнутом над спинами коней.
– Слухай, Данилыч. – Пращов повернулся к Казанцеву, надавил плечом. – На ссыпке знакомец один сказал, будто Гитлер ишо в прошлую войну участвовал.
– Не у нас. На Западе.
– Жаль, – искренне погоревал Пращов. – Подвернулся бы казаку какому, распустил бы его до самого пупка.
– Как ты сказал?.. Пупка? – Казанцев неожиданно захлебнулся смехом, вытер непрошеную слезу. – Выходит, и его бабка выпрастывала, Тарасович?.. Не верится. Ей-бо, не верится.
У своего двора Казанцев попросил остановиться, спрыгнул, ударил ладонью по серым от пыли штанам.
– Оси помажьте. Скрипят. И грузитесь в ночь, пока погода.
Бабье лето кончилось. Пошли дожди. Безмолвные, по-осеннему нудные. Дали мутнели туманами, в которых уже грезились первые заморозки, зимние холода. На бригаде теперь засиживались редко, брели домой, копались по хозяйству, кормили надежно осевшую в сердце тоску. Тучи, отягченные влагой, к ночи ложились прямо на стерню, распарывая в полете тугие груди о курганы и голые деревья на взгорках. На дорогу через бугор поверх дворов хуторяне глядели редко. За войну отвыкли. Проводили этой дорогой, почитай, треть хутора, а вертались одиночки. На многих пришли бумаги, и ждать их не приходилось вовсе. Живые продолжали где-то там, на Днепре, под Ленинградом, в Крыму, сражаться. Отвоевывали у немцев свою землю. Дома их ждали, строили планы на «после войны», получали скудные вести в письмах-треугольниках и были счастливы, когда эти письма приходили.
На Казанскую Петр Данилович получил сразу три письма. После Покрова зарядили дожди, дороги развезло, почта не ходила недели две – вот и собрались сразу три: два от Виктора, одно от Андрея.
Домой Казанцев шел, земли под ногами не чуял. Потерявшие чувствительность пальцы мяли в кармане конверты-треугольники. У двора вдовой Хроськи Громовой споткнулся на ровном месте, замедлил шаг. Хроська, накинув на голову мешок от дождя и оскальзываясь на вымазанной в глине лестнице, лазила на угол хатенки, мостила соломой дыру.
– Течет?
– Течет проклятая.
– Морока. – Кряхтя, Казанцев одолел прямиком лужу в воротцах, подобрал вилы в грязи, надавливая сапогом, нанизал хрусткую и упругую, как капуста, мокрую солому.
– Вот спасибочко. Одной, чуть не убилась. – Хроська подхватила граблями охапку, напряглась и вытянулась, целясь, куда положить ее. – Так, так… И ладно. Иди, теперь я одна как-нибудь заглажу.
Дома ждали. На закраине скамейки у чугуна с водой сидела и инженерова дочка (Шура успела уже сбегать).
– Где ты гвоздался до сей поры? Совсем пропал. – Филипповна помогла старику разобраться с петлями фуфайки, подтянула в лампе фитиль, одела намытое до сияния стекло.
Петр Данилович долго возился с шапкой, потом никак не мог устроиться на скамейке и выбрать нужное расстояние от письма до глаз.
– Не могу. Глаз засорился. Читай от Виктора, – протянул письма Шуре, ребром ладони выгреб слезу из глаза, отер руку о штаны.
«Идем по Украине. Белые хатки, тополя-свечки, колодцы с журавлями – одни воспоминания. Одни пеньки да кострища на месте домов, черная зола. Люди прячутся по погребам, скитаются по балкам и лесам… Два раза видел Андрея. Наград нахватал – цеплять некуда. Вроде и не примечал раньше за ним такой лихости. По военному ремеслу – сапер, а все больше в разведках пропадает. Талант нашли в нем такой. Заматерел. Заикнулся, как, мол, после войны. И слушать не стал… Про семью теперь знаю. Думка такая – волна эвакуированных кинула их куда-нибудь поглубже. Ждите, авось вам напишет Людмила. Вы ить на месте обретаетесь, не двигаетесь…»
Второе письмо от Виктора совсем коротенькое: жил, здоров, только закончился бой за хуторок.
Андрей начал размашисто, закончил неожиданно суетливо. Буквы набегали одна на другую, поехали вниз: «Подошел танк. Старый знакомый, лейтенант Лысенков, машет в окно рукой… Зовут к начальству. Письмо передаю старшиной. Он в тыл едет…»
– В тыл Андрюшка едет. От войны подальше. Отдых, должно. Навоевался. – Филипповна вытерла передником нос, заблестела счастливыми слезами на всех.
– Старшина в тыл едет, – с трудом одолела сухость в горле и откинулась в тень Горелова.
Петр Данилович выразительно крякнул, шевельнул мохнатым навесом бровей:
– Ты зря, мать, не толкись.
– Как зря! Как зря! А как домой завернет ишо, – не на шутку возмутилась сбитая с толку Филипповна. – Он ить у нас безотказный.
Петр Данилович не стал перебивать женский разговор, вышел покурить. Дождь перестал. С соломенной крыши в лужи у стены осыпалась капель. Бражно пахло мокрой землей. Под кручей тупо гремело о разбухшее дерево весло. «Крутяк, должно, на сазанов охотится», – краем уха захватил этот звук Казанцев.
Как ни нудились в тревогах черкасяне, как ни гнули их к земле двойные тяготы, они поднимали головы все выше и, как солнышка в осенние хляби, ждали домой своих защитников и кормильцев.







